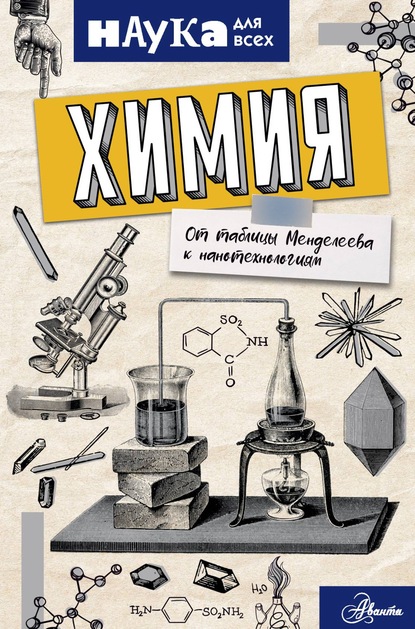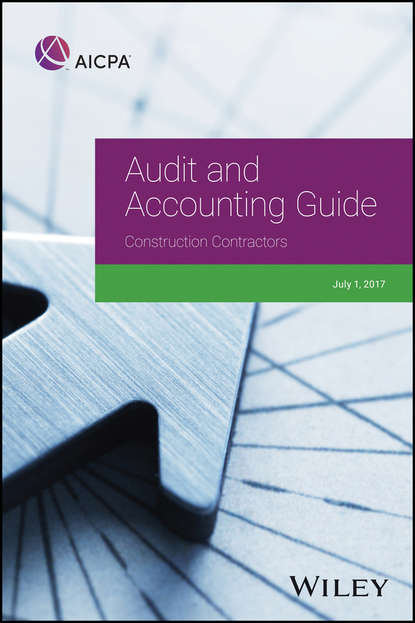- -
- 100%
- +

Стать Богом
Запах перегара и безысходности плотно въелся в обивку старого кресла. Петрович, в свои шестьдесят с хуем, сидел в нем, словно выброшенный на берег кит. На полу, у его ног, валялись осколки разбитой бутылки 'Беленькой', а из допотопного магнитофона надрывно выли 'Очаровательные глазки'. Петрович цинично ухмыльнулся, вытирая тыльной стороной кисти слезу, предательски скатившуюся по щеке.
«Очаровательные глазки, блять! Очаровательные пиздюли», – пробурчал он себе под нос, запуская руку в штаны. Впрочем, аккомпанемент ему был сейчас нужен не для сентиментального созерцания красоты мира, а для традиционной вечерней мастурбации под русские романсы. Ценности? Условности? Запреты? Петрович давно отправил их на хуй, вслед за своей зарплатой, бывшей женой и верой во что-либо хорошее.
Он, закоренелый циник и пьяница, когда-то был (как и все мы, наверное) полон надежд и мечтаний. Но жизнь, эта сука, эта поебень, эта проблядь изрядно поиздевалась над ним, смачно выебав в жопу, в особо извращенной форме. Теперь все, что у него осталось – это бутылка водки, магнитофон и привычка срать на всё с высокой колокольни.
Внезапно в дверь позвонили. Петрович замер, сжимая в руке свой уставший от жизни, но ещё достаточно твёрдый хуй. Кто, блять, мог припереться в такую пору? Соседи, чтобы высказать своё недовольство громкой музыкой? Да пошли бы они на хуй!
Но за дверью оказался не сосед. Там стоял молодой человек в черном плаще и широкополой шляпе. Он подозрительно напоминал персонажа из плохого шпионского фильма.
– Извините, – проговорил незнакомец, – я ищу человека, который готов на всё.
Петрович прищурился:
– На всё? Это как, бля, понимать?
– В буквальном смысле, – терпеливо пояснил незнакомец, чуть скривив губы в подобии улыбки. – Я предлагаю вам возможность… выйти за рамки. Забыть о границах дозволенного. Познать истинную свободу.
Петрович, несмотря на свое состояние, почувствовал интерес. Свобода? Это слово он давно забыл.
– Ну и что ты предлагаешь? Банк ограбить? Соседа убить? Или, может, ты хочешь, чтобы я тебе в жопу дал? – съязвил он, не надеясь на серьезный ответ.
Но незнакомец лишь усмехнулся:
– Ваши представления о свободе весьма ограничены, Иван Петрович. Я предлагаю вам нечто большее. Я предлагаю вам… стать Богом.
Петрович расхохотался. Стать богом? Да он даже сраным сантехником стать не смог! Но в глазах незнакомца не было ни капли безумия. Наоборот, в них горел какой-то нездоровый огонь, манящий и пугающий одновременно.
И Петрович, почесывая мошонку, вдруг подумал: а почему бы и нет? Что он, в сущности, теряет? Жизнь давно уже послала его на хуй, так почему бы не послать её в ответ?
– Ладно, – сказал он, криво усмехнувшись. – Уговорил, хуила. Посмотрим, какой бог из меня получится. Только сначала дай ещё стакан ёбну. За будущее, так сказать…
И, под звуки «Жизнь моя, или ты приснилась мне» Петрович сделал свой первый шаг в неизвестность. В ебанутую, абсурдную и до одури интересную неизвестность. Потому что, когда тебе поебать на всё, открываются невероятные горизонты. И кто знает, может быть, старый алкаш и циник Петрович действительно станет Богом. Или, по крайней мере, заебёт своим божественным статусом всех своих соседей.
Странный случай
Лицо Настасьи Архиповны вспыхнуло, как как сухая лучина. Не от возмущения, нет. Скорее, от стыда и неловкости. Она сама не могла объяснить себе, почему её, женщину, вырастившую сына практически в одиночку, вдруг пронзило такое острое чувство, сравнимое с тем, что она испытывала, случайно подслушав чью-то интимную беседу.
Едва прикрыв дверь, она прислонилась к стене коридора, прислушиваясь к участившемуся дыханию Елисея. «Боже мой, он уже совсем взрослый» – промелькнуло у неё в голове с какой-то странной смесью гордости и грусти. Елисею было двадцать два. Он только закончил университет и, как и многие его ровесники, искал себя. Днём он ходил на какие-то собеседования, возвращаясь вечером молчаливым и раздражённым. Настасья Архиповна старалась не лезть к нему с расспросами, понимала, что у него трудный период. Но теперь… теперь всё казалось каким-то другим.
Она тихонько отошла от двери и направилась к себе в комнату. Нужно было что-то делать, чтобы отвлечься. Захотелось налить себе валерьянки, но она вовремя вспомнила, что Елисей терпеть не может ее запах. Он всегда морщился и говорил: «Мам, ну зачем тебе это? Пахнет кошачьим туалетом!»
Тогда она достала из бара бутылку дешёвого вискаря, налила полстакана и ёбнула залпом, не закусив. В голове вертелись ошмётки мыслей. Может, стоит поговорить с ним? Объяснить, что она случайно… что она ничего не видела? Но тут же она представляла себе его покрасневшее лицо, его смущенный взгляд. Нет, это было совершенно невозможно.
Тогда что? Просто сделать вид, что ничего не произошло? Но как жить дальше, зная, что за этой дверью, в комнате сына, скрывается эта… эта тайна? Настасья Архиповна вздохнула. Материнство – это вечный лабиринт противоречий. И сейчас она стояла на его пороге, в растерянности и отчаянии, не зная, куда повернуть.
Вдруг донеслось тихое, но отчетливое: «Мам?» Он смотрел на нее. Прямо. Открыто. В его глазах не было ни смущения, ни злости. Только какая-то тихая… надежда?
– Мать, – тихо сказал он, и это слово прозвучало как-то по-новому, глубже и взрослее. – Мне нужно с тобой поговорить.
Настасья Архиповна едва не выронила стакан.
– Конечно, сынок, – прохрипела она, как старая кобыла, отчаянно пытаясь сохранить видимость спокойствия.
Елисей подошел ближе, остановился напротив неё. В свете тусклой лампы она отчетливо видела покраснения на его щеках – не от стыда, а от волнения.
– Я… я понимаю, что ты могла услышать, – Он замялся, нервно переминаясь с ноги на ногу. – Это… это была моя девушка. Аня.
Настасья Архиповна кивнула, не зная, что сказать. Аня. Имя было ей знакомо. Елисей упоминал её раньше, рассказывал о её увлечении порнографической фотографией, коллекционировании использованных гондонов и смешном ташкентском акценте. Но она никогда не представляла её… настоящей.
– Она… приезжала сегодня, – продолжил Елисей. – Мы… мы просто громко еблись. Она дала мне в жопу, и ей было немного больно.
Настасья Архиповна почувствовала, как напряжение постепенно отступает, сменяясь тёплым, щемящим чувством. Нежность. Вот какое слово вертелось у нее в голове. Нежность к этому большому, растерянному ребёнку, который пытается построить свою жизнь.
– Всё хорошо, Елисей, – тихо сказала она, ставя стакан на стол. – Я рада за тебя. Рада, что у тебя есть кто-то, кого ты без стеснения можешь выебать в жопу!
Он вздохнул с облегчением, словно сбросил с плеч огромный груз.
– Спасибо, мам, – прошептал он. – Ты… ты самая лучшая мать на свете! Не была бы мамкой моей – так выебал бы и тебя в жопу! Клянусь!
Настасья Архиповна улыбнулась. Лучшая? Выебал бы в жопу? Да ей этого и не нужно – она просто любила его. Безусловно и безгранично. И сейчас, глядя на его взволнованное, но счастливое лицо, она понимала, что ей предстоит научиться любить его и по-новому, как взрослого человека, со своими секретами и своими чувствами.
– Может, познакомишь меня со своей проблядью? – спросила она, стараясь звучать как можно более непринужденно.
Елисей расцвел в улыбке.
– Обязательно, мам. Обязательно познакомлю! Она тебе понравится. Может, ещё и тройничок замутим!
И в этот момент Настасья Архиповна поняла, что головка спички, вспыхнувшая в ее душе, зажгла не пожар, а маленький, тёплый огонек надежды. Надежды на то, что они, как и раньше, смогут быть вместе. Просто теперь их 'вместе' будет немного другим, более взрослым, более сложным, но от этого не менее ценным. Она протянула руку и погладила его по щеке.
– Давай-ка ёбнем водки, сынок! И с Аней тоже ёбнем, когда она приедет в следующий раз. Наебенимся вдрызг!
И они пошли на кухню, мать и сын, две половинки одного целого, готовые к новым этапам жизни. И в тишине ночи, пока они безрассудно хуярили водку, безбожно дымили «Дукатом» и ржали так, что вешались верхние и нижние соседи, рождалась новая история их семьи.
Царевна-целочка
Жила-была на свете царевна. И была она такой капризной, прихотливой и выёбистой, что все называли её Целочкой. Спасу от неё не было никому. Кушать садится: это ей слишком жирное, то ей слишком постное; от этого её тошнит, от того икота пробирает. Одеваться начинает: это ей через меру старомодное, то ей через меру современное; это ей чересчур блядское, то ей чересчур скромное. Ебаться собирается: у этого хуй непомерно маленький, у того хуй непомерно большой; у этого стоит плохо, тот сливает быстро, а пятый ебалом не вышел.
И вот однажды Целочка потерялась в лесу. Семь дней она по чаще шароёбилась, всех и вся на свете хуями обложила и в итоге попала в логово к семи разбойникам. Несладко пришлось царевне в разбойничьем гнезде. С раннего вечера до позднего утра ебали её в семь хуёв разбойники во все возможные и невозможные дыры. В оставшееся время Целочка стирала их вонючие носки и обосранные трусы, драила заблёванные полы, варганила разбойникам жратву, а потом мыла посуду. И пары часов порой вздремнуть не удавалось.
«Эх, не думала, не гадала, а подкрался ко мне пиздец-батюшка!» – горевала царевна. Но спасенье пришло неожиданно. Со времени пропажи разыскивал её царевич Дуболом, смертельно влюблённый в Целочку и безуспешно добивавшийся её руки и пизды. И вот через семь месяцев нашёл Дуболом любимую и разъебал разбойников на семь рваных хуёв.
– Что, Целочка, выйдешь теперь за меня замуж? – молвил царевич, подбоченясь.
Царевна сполна осознала свои ошибки. С упоением опустилась она перед Дуболомом на колени и сделала ему сказочный царский минет с заглотом и проглотом. Жили они не очень долго, но очень счастливо, еблись по три раза на дню и умерли в один месяц.
Большой Ху. Притча
В далекой стране, где горы вздымались до небес, а реки текли молоком и медом (по крайней мере, так гласят легенды), жил человек, которого звали Большой Ху. Имя его гремело по всей округе. Он славился силой, мудростью и щедростью. Говорили, что он, как скала, стоит непоколебимо перед лицом бури, что ум его острее клинка, а сердце – больше океана. Но была у Большого Ху одна тайна, тщательно им скрываемая: у Большого Ху был очень маленький хуй.
Не то чтобы это тяготило его в практическом смысле. Он не страдал от невозможности продолжить род, не был обделен вниманием женщин. Скорее, это было что-то вроде занозы, постоянно напоминающей о несовершенстве, о разрыве между внешней грандиозностью и внутренней реальностью. Он тратил огромные деньги на лекарей и знахарей, выслушивал абсурдные советы, терпел унизительные процедуры. Ничего не помогало. И Большой Ху отчаялся. Он построил вокруг себя стену из молчания, избегал зеркал и чужих взглядов, боялся, что его секрет станет достоянием общественности.
Однажды, странствуя по горам в поисках редкого целебного цветка (ещё одна отчаянная попытка), он встретил старика. Старик сидел на камне, греясь на солнце, и казался таким же древним, как и сами горы. Большой Ху рассказал ему о своем горе, о своей тайне, которая терзала его душу. Он ожидал сочувствия, понимания, или, хотя бы, ещё одного бесполезного совета. Но старик рассмеялся. Смех его был сухим и скрипучим, как шелест осенних листьев.
– Большой Ху, – сказал старик, когда его смех утих, – ты обманываешь сам себя. Кто дал тебе это имя? Кто решил, что размер определяет тебя? Твоя сила – в твоих руках, твоя мудрость – в твоем уме, твоя щедрость – в твоем сердце. А то, что ты прячешь – это лишь часть тебя, маленькая и незначительная. Так почему она имеет такую власть над тобой?
Большой Ху молчал, пораженный словами старика. Он никогда не думал об этом с этой стороны. Он был настолько поглощен своим секретом, что забыл о всем остальном, что делало его Большим Ху.
Старик продолжал:
– Посмотри вокруг. Горы не стесняются своей высоты, реки не скрывают своей глубины. Каждое существо на земле принимает себя таким, какое оно есть. Только человек, ослепленный тщеславием, тратит жизнь на борьбу со своей собственной природой.
После этих слов старик поднялся и медленно побрёл прочь, сливаясь с горным пейзажем. Большой Ху долго стоял на месте, глядя ему вслед.
Он вернулся домой другим человеком. Он перестал прятаться, перестал искать лекарства. Он принял себя таким, какой он есть. И знаете что? Мир не рухнул. Люди продолжали уважать его, любить его и восхищаться им. Потому что они видели не размер его маленького хуя, а величие его большого сердца. И Большой Ху понял, что истинное величие заключается не в том, чтобы быть совершенным, а в том, чтобы принимать себя несовершенным. И быть счастливым. Потому что в конечном итоге, размер имеет значение только для тех, кто не умеет ценить большее.
Шизофрения
Она посетила меня во вторник, около трех часов пополудни. Никаких тебе ангелов с огненными мечами, никаких демонов с огромными хуями – просто внезапно мой чайник начал со мной разговаривать. Чайник, надо сказать, был обычный. Свистящий, эмалированный, в горошек – купленный на распродаже в универсаме 'Радуга'. И вот, после того, как я плеснул туда воды, он заговорил голосом Леонида Парфенова.
– Здравствуйте, господин, – прожурчал он, булькая. – И как ваши успехи в мире пост-модерна?
От неожиданности я выронил пачку печенья 'Юбилейное'. Печенье рассыпалось.
– Вы… чайник?' – пролепетал я, почувствовав, как на лбу выступила испарина.
– Совершенно верно, – подтвердил чайник голосом Парфенова. – И мне крайне интересно ваше мнение о тенденциях в современном искусстве. В частности, о перформансе с использованием варёной картошки и мандаринов.
Я попытался мыслить рационально. Может, это галлюцинации? Переутомление? Или, может быть, я случайно вдохнул какие-то вредные пары от эмали? Я открыл окно, впустив свежий воздух и шум улицы.
– Не помогает, – констатировал чайник. – Гравитация по-прежнему существует, а пробки на Ленинском проспекте – явление совершенно тривиальное.
Я решил действовать по инструкции, которую когда-то прочитал в журнале 'Здоровье'. Нужно поговорить с галлюцинацией. Выяснить, чего она хочет.
– Хорошо, чайник… Леонид… Чего ты от меня хочешь?
– Мне бы хотелось обсудить с вами феномен блогерства, – ответил чайник. – И, возможно, предложить вам стать моим… э-э-э… спичрайтером? Мои монологи о жизни становятся всё более и более банальными.
С этого момента все покатилось по наклонной. Сначала чайник. Потом, когда я пошёл в туалет, унитаз заговорил голосом Аллы Борисовны и потребовал, чтобы я перестал смывать туда всякое непотребное – хотя я не бросал туда даже использованные гондоны. Потом стиральная машина начала петь арии из 'Травиаты' каждый раз, когда я загружал в нее грязные носки.
Я пытался игнорировать весь этот бред, но мои бытовые приборы были неумолимы. Они комментировали мою жизнь, критиковали мой выбор одежды и давали советы по фэн-шую. Они сформировали импровизированный дискуссионный клуб в моей квартире. Более того, их личности менялись каждый день. Вчера холодильник говорил голосом Жириновского и требовал перекрасить его в цвета российского флага. Сегодня он нежно пел колыбельные голосом Земфиры. Однажды, проснувшись утром, я обнаружил, что вся моя мебель выстроилась в очередь перед зеркалом. Диван, говоря голосом Ивана Урганта, отпускал колкости в адрес шкафа, который, подражая голосу Ренаты Литвиновой, загадочно молчал.
Я понял, что это конец. Моя жизнь превратилась в сюрреалистический кошмар, управляемый буйством моей шизофрении. Я решил сдаться. Сел на пол посреди этой вакханалии, обнял колени и начал плакать. Вдруг, телевизор, до этого безмолвно стоявший в углу, включился. На экране появилась заставка программы 'Спокойной ночи, малыши'.
«Здравствуйте, ребята, – прозвучал знакомый голос Хрюши. – А сейчас мы послушаем историю о том, как один мальчик переутомился и ему приснился очень странный сон. Помните, дети, нужно хорошо высыпаться и не переедать на ночь сладкого!»
Экран погас. Воцарилась тишина. Чайник перестал булькать. Унитаз замолчал. Даже стиральная машина прекратила свои оперные вокализации. Я встал, почесал затылок и пошел на кухню. На плите стоял чайник. Обычный, эмалированный, в горошек. Я налил себе чаю, добавил сахар и откусил кусочек печенья 'Юбилейное'. Вкус был вполне нормальным. Просто чай и печенье.
Наверное, мне просто приснился очень странный сон. Очень-очень странный. И длинный. Длинною в жизнь.
Чужие сны
– Сны – это Фрейдистские дебри! – заявил Герман. – Мои сны – это, мать, практически порнографический фильм с тобой в главной роли, снятый Дэвидом Линчем при поддержке Тинто Брасса! «Нефтликсом»! Ты там и загадочная, и соблазнительная, и вообще… лучше тебе не знать.
Мария Петровна отставила стакан. Свет, проникавший сквозь кружевную занавеску, играл на её преждевременно поседевших волосах, придавая им серебристый оттенок. Она прищурилась, внимательно глядя на сына.
– Знаешь, дорогой, – произнесла она медленно, – а ведь ты становишься злоебучим хуесосом, невыносимым, как Познер! Твои комплексы – это, конечно, твои комплексы, но зачем же их так навязчиво демонстрировать?
– Комплексы? – взревел сын. – Это, блять, не комплексы, а констатация факта! Посмотри на меня! Я – мужчина в расцвете сил! Я – гора мышц, вулкан страстей, железный елдак! А ты… Ты меня игнорируешь!
– Игнорирую? – Мария Петровна усмехнулась. – Я тебя кормлю, нахуй, одеваю, выслушиваю твои бредни… Чем же еще я должна заниматься, по-твоему? Ползать у твоих ног и сосать твою маленький хер, который, между нами, вовсе не железный?
– Дело не в этом! – Герман взволнованно зашагал по комнате, тяжело ступая. – Дело во внимании! Во влечении! Ты – женщина! Я – мужчина! Неужели это так сложно понять?
Мария Петровна вздохнула. Подобные сцены повторялись с вариациями уже несколько лет. С тех пор, как умер её муж, сын, словно переспелый и даже гнилой плод, начал источать какую-то болезненную, удушливую энергию. Она, конечно, понимала его потребность во внимании, в признании его мужественности, но превращать её в объект сексуальных фантазий… это, нахуй, уже слишком!..
– Послушай, – сказала она, стараясь говорить мягко, – я люблю тебя. Но я люблю тебя как сына. Я тебе не подруга, не блядь, не любовница… Я твоя мать, ёб твою мать! И эта роль меня вполне устраивает.
Герман остановился, поражённый. Он уставился на родительницу расширенными глазами.
– Мать… – прошептал он. – Ты… Что ты такое говоришь? Ты…
Внезапно он замолчал, схватившись за голову. Его лицо исказилось гримасой боли.
– Опять?.. – испуганно спросила Мария Петровна, подбегая к нему.
– Голова… – прохрипел он, падая на колени.
Мария Петровна бросилась к холодильнику. Она знала, что у сына бывают мигрени, но такой сильный приступ она видела впервые.
– Давай, выпей это!
Сын проглотил полстакана водки, посмотрел на родительницу мутным бессмысленным взглядом, тяжело дыша.
– Мать… – снова прошептал он, уже тише. – Мне… Мне так плохо… поебаться бы…
Мария Петровна обняла его, прижав к себе. Она чувствовала, как его тело дрожит.
– Всё будет хорошо, не пизди, – прошептала она, гладя его по голове. – Все пройдёт. Голова не жопа, поболит и перестанет.
Сын закрыл глаза и обмяк в ее руках. Мария Петровна осторожно помогла ему встать и повела в спальню. Уложила на диван и накрыла пледом. Выйдя из комнаты, снова подошла к окну. Свет, льющийся сквозь кружево, теперь казался ей тусклым и холодным. Она вздохнула. Что же делать? Как остановить этот безумный круговорот взаимного непонимания? Как вернуть сына к нормальной жизни, оставаясь при этом его матерью, ёбаный в рот? Мария Петровна снова взяла стакан – надо немедленно ёбнуть! Внезапно её взгляд зацепился за отражение в зеркале, висевшем на стене. Там, за её спиной, в коридоре, стоял Герман. И смотрел на неё. Но это был не тот сын, которого она только что уложила. В его глазах не было боли, не было муки. В них светился какой-то холодный, расчетливый огонь. И… Что это у него в руках? Нож? И вставший хуй между ног?
Мария Петровна резко обернулась. В полумраке коридора стоял Герман. И ей показалось, что в его руке действительно что-то блеснуло. А вот стоячий хуй ей точно не пригрезился! Но мгновение спустя сын исчез, словно его и не было – а может, и на самом деле не было. Мария Петровна замерла, охваченная неясным, липким как сперма предчувствием. Что это было? Игра воображения? Или…
Она поставила стакан на стол, чувствуя, как по спине крупными тараканами пробегают мурашки. Что-то произойдёт. И это будет ужасным…
Конец Света
– Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите новости на первом канале. Ведущая в студии – Ольга Раскорякина.
У дикторши большой рот. Она неряшливо накрашена. Говорит не очень внятно.
– Главная новость, как вы уже догадались… Да, да, да!.. Конечно же, Конец Света. Итак, о светопреставлении уже можно говорить с полной уверенностью. Учёные подсчитали, что как максимум через десять часов гигантская комета, наречённая астрономами Цербером, войдёт в атмосферу Земли.
На экране появляется нечёткое изображение огромного раскалённого шара, несущегося в безвоздушном пространстве. Изображение сильно искажается и пропадает.
– Вот так, дорогие телезрители. Через пару часов эта невъебенная хуетень прохуярит нашу несчастную планетку насквозь. Ну, может быть, и не насквозь (учёные выдвинули на этот счёт несколько гипотез, но ни одну из них нельзя считать доминирующей), но со стопроцентной гарантией можно заявить одно: человечеству наступит полный и бесповоротный пиздец.
За кадром приглушённо, но отчётливо слышен пьяный смех.
– Эти самые сраные учёные, которые запустили человека в космос, которые изобрели атомную бомбу и стали клонировать животных, ни хуя не могут сделать с этим распроёбанным метеоритом… А теперь новости из Ватикана. Самое, блять, время. Алексей?
На фоне ватиканского дворца мужчина педерастичной наружности. Всклокоченные волосы, давно небрит. Голос высокий и манерный. Площадь запружена беснующейся толпой.
– Новости неутешительные… Если сейчас вообще могут быть какие-нибудь утешительные новости. По слухам, судя по всему правдивым, понтифик Иоганн Себастьян второй снял трёх *** девочек-проституток, двух ***-проститутов и мужчину-трахаря, и закрылся с ними в рабочем кабинете. М-да, недаром великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский лютой ненавистью ненавидел католицизм… На улицах Рима творится неописуемое. Все беспорядочно сношаются, пьют и дебоширят. Все магазины разграблены…
К комментатору подскакивает бритоголовый парень в кожаных штанах, голый по пояс, и бьёт его кулаком в ухо. Комментатор с неожиданной ловкостью отвечает ударом на удар, валит хулигана на асфальт, и, матерясь, молотит его ногами. Камера показывает это крупным планом.
– Простите… Полный беспредел! – комментатор, тяжело дыша, поправляет галстук. – Ольга?
– Что-нибудь ещё, Алексей?
– Я уже несколько лет мечтаю отыметь тебя, Оля.
Ольга Раскорякина хихикает.
– Вообще-то я думала, что ты покер, Лёша.
– Вообще-то я **сексуал. А точнее – ***сексуал. В зависимости от ситуации.
Дикторша опять хихикает.
– Надо было подкатиться. Я бы тебе дала, Алексей. Ты мне всегда нравился. С вами был специальный корреспондент первого канала в Риме Алексей Содомигер. – Ольга берёт большой высокий, наполовину полный стакан, одним духом осушает его. Затем кричит кому-то, стоящим за камерой: – Мужики, бля, ну даст кто-нибудь сигарету?!
Её сильно качает из стороны в сторону.
– Дорогие телезрители… ик… простите ради бога! Мы тут все бухие в сиську, ик… Короче, счастливого вам п..деца, болезные мои! Я пошла делать минет, ик, Косте Бернсу. Он давно просил, а я что-то всё динамила. Порадую напоследок. – Дикторша с трудом встаёт. – Да, чуть не забыла! Ик! Всю жисть, блять, об этом мечтала, ещё в своей Таракановке! Дорогие телезрители, пошли вы все на хуй!!! Ик…
Щёлк.
– …столпы новой российской литературы: Дарья Маринина, Маня Донцова и Ярославна Пашкова. Они собираются отметить Конец Света в Новопеределкино, в узком семейном кругу. Многомиллионным тиражом разошёлся их последний роман, написанный в тройном соавторстве, «Джульетта любит «Клинское».
На по-модному небритом лице ведущего выражение скуки и брезгливости. Его перекосило так, будто только что ему под нос сунули использованный презерватив. Он сидит на высоком стуле, полусогнувшись, опершись одной рукой о стеклянный столик.