Вишневый сад и другие пьесы. Том 5
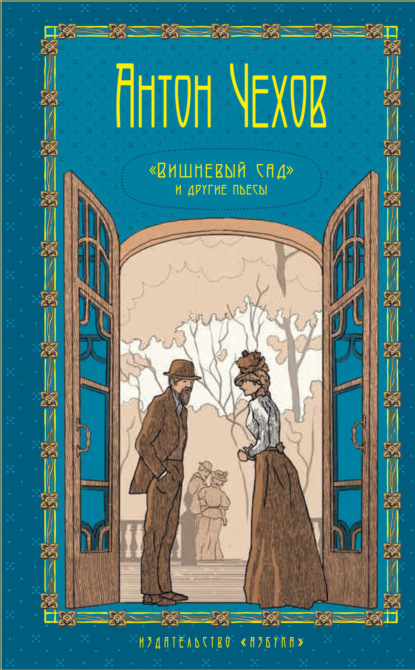
- -
- 100%
- +

Составление, вступительная статья и комментарииИгоря Сухих
© И. Н. Сухих, составление, предисловие, комментарии, 2010, 2024
© Оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
⁂
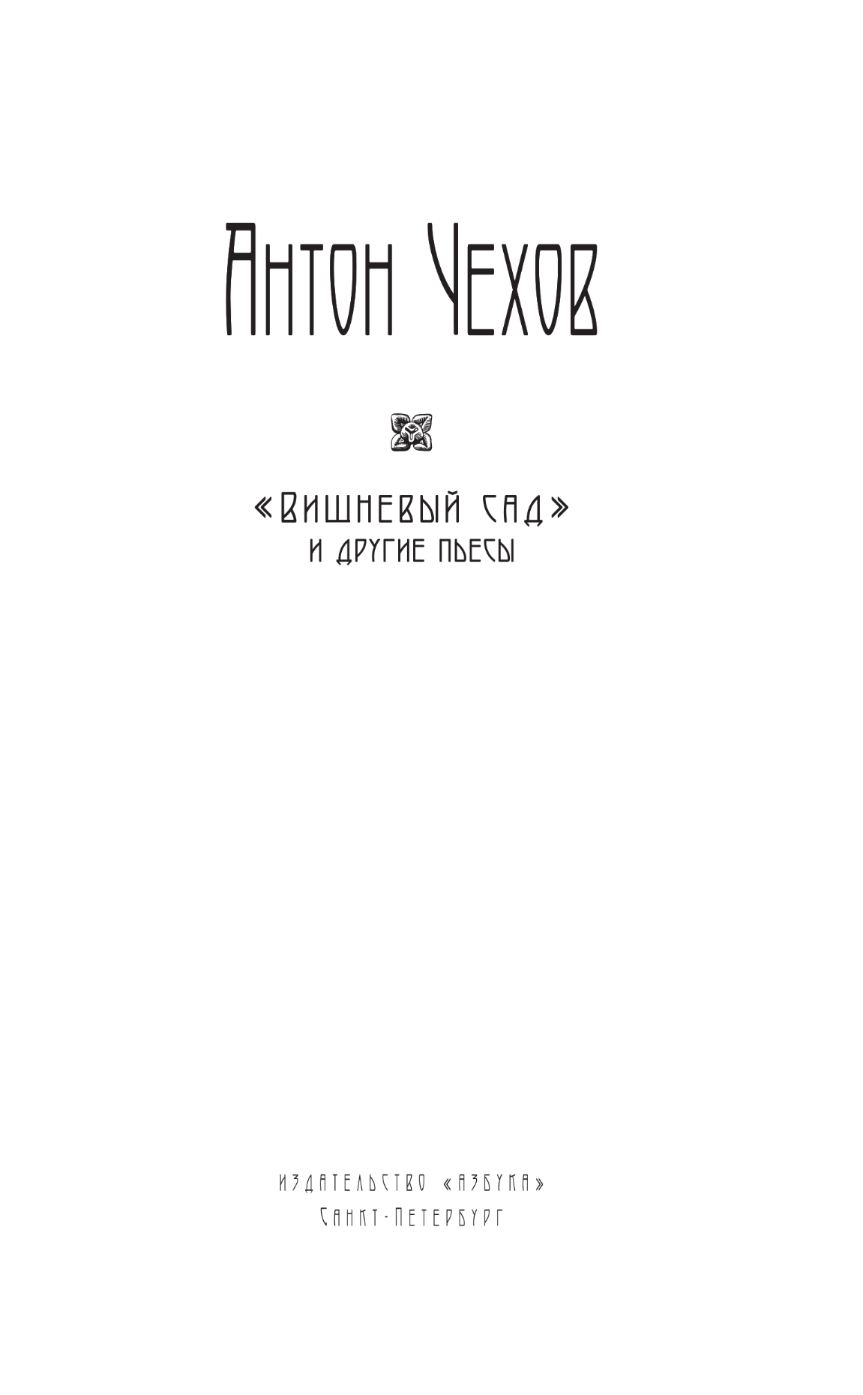
Драма Чехова: Путь и суть
1. Путь
Снег опять пошел, повалил,и с присущим бархатным тактомэтот занавес разделилпредпоследний с последним актом.Я судьбе совершенно покорен,но, смотря на валящий снег,я хочу, чтобы был спокоенэтот акт; спокойнее всех.Слишком в «Гамлете» режут и колют,мне приятней куда «Три сестры»,где все просто встают и уходят,и выходят навек из игры.Б. СлуцкийПроза и драма: кто кого?
Чехов-драматург известен много больше Чехова-прозаика. Бывает, в Москве, в Петербурге, в апрельской Ялте плачут сестры или продают вишневый сад несколько раз в неделю. На родине Шекспира его называют почетным англичанином. На Дальнем Востоке – настоящим японцем, конечно же, за цветущие вишни, так похожие на сакуру. По числу постановок, инсценировок, интерпретаций и экранизаций автор «Чайки», наверное, не уступает в ХХ веке автору «Гамлета».
С другой стороны, уже современники Чехова в восприятии его пьес разделились на два лагеря. Фанатические поклонники постановок Художественного театра, ставшего уже в начале века Домом Чехова (как Малый театр был Домом Островского), наталкивались на вежливое равнодушие или откровенную неприязнь часто очень близких и весьма расположенных к Чехову-прозаику людей.
«Чехов – несомненный талант, но пьесы его плохие. В них не решаются вопросы, нет содержания», – не раз повторял в беседах Лев Толстой[1]. Самому автору он немного подслащивал горькую пилюлю: «Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже»[2]. Все-таки несколько приятнее быть хуже Шекспира, а не какого-нибудь драмодела 1890-х годов.
И. Бунин, составлявший длинный список любимых чеховских рассказов, с удовольствием пересказывал толстовские суждения, потому что сам думал сходно. Чехов-прозаик и Чехов-драматург находились для него в разных измерениях: «Пьесы его далеко не лучшее из написанного им…»[3] Бунин считал, что славу чеховским пьесам принесла лишь их постановка в Художественном театре.
Драматургия – искусство особое. В старых поэтиках (от Аристотеля до Гегеля с Белинским) драма объявлялась вершиной словесного искусства. «Драматическая поэзия есть высшая ступень развития поэзии и венец искусства…»[4] В чеховском художественном мире эта идея подтверждается. Драма оказывается последней ступенькой жанровой лестницы, вершиной жанровой иерархии.
Чеховские повести, не говоря уже о рассказах, строятся, как правило, на линейной фабуле, связаны с развернутой характеристикой, с точкой зрения центрального персонажа (или персонажей-оппонентов). Проза Чехова практически не знает оборота «в это же самое время…» (ср. характерный толстовский прием: «В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез… с графом Безуховым сделался шестой удар»).
В драматургии же, напротив, даже при ограниченном круге персонажей (как в «Дяде Ване») обязательно присутствует многоплановость. Сюжетные линии сосуществуют – путаются, пересекаются, обрываются. Драма как бы вбирает в себя – и тематически, и структурно – несколько «сюжетов для небольшого рассказа». Со всей очевидностью это демонстрирует любимый чеховский прием параллельных диалогов (как в начале «Трех сестер»).
Скорее, «эпичен» и чеховский способ психологической характеристики. «Действие, особенно в его конфликтах и реакциях, предъявляет требование, чтобы образ был ограниченным и определенным, – писал в свое время Гегель. – Поэтому-то драматические герои большей частью проще внутри себя, чем эпические образы. Более твердая определенность получается благодаря особенному пафосу, который становится заметной и существенной чертой характера, ведущей к определенным целям, решениям и поступкам»[5].
Современный теоретик драмы, не рекомендуя «преувеличивать ограниченности возможностей театральнодраматического искусства в области постижения внутреннего мира человека, чему отдали дань Гегель и его последователи», тем не менее утверждает: «Театр и драма (в отличие от эпоса и художественной кинематографии) неукоснительно требуют резкости, строгости, предельной отчетливости психологического рисунка»[6].
Но Гегель, как и Аристотель, для Чехова – не указ, начиная уже с первой пьесы. Отчетливость психологического рисунка в его драматургии то размывается полутонами и неожиданными паузами, то резко взрывается контрастными по эмоциональному состоянию сценами. Характер чеховского драматического героя (большинства из них) не проще, не отчетливее, не определеннее, чем характер (чеховского же!) персонажа повести или рассказа. Они изображаются в сходном психологическом ключе.
Чеховские пьесы можно считать «пьесами-романами», завершающими, венчающими его жанровую систему. «Пишу, можете себе представить, большую комедию-роман…» – сообщит он во время работы над «Лешим»[7]. «Вышла повесть», – скажет о законченной «Чайке» (П 6, 100).
Соотношение повествовательной прозы и драматургии в последние столетия не было бесконфликтным. Они боролись за внимание публики, делили сферы влияния, мерились эстетическими возможностями. «У них там считается за искусство только театральная пьеса. Роман, даже новелла – не более чем мазня, – обижался на энтузиастов драматургии через четыре года после смерти Чехова Томас Манн, знаменитый (в будущем) немецкий романист. – Некий театральный критик однажды заявил в статье, что если взять повествовательную фразу: „Розалия встала, расправила платье и сказала: «Прощай!»“ – то, строго говоря, искусством здесь следует считать только слово „прощай“. Он повторил: „Строго говоря“»[8]. «Утверждение относительно Розалии и ее возгласа „Прощай!“ есть величайшая нелепость, когда-либо напечатанная черным по белому», – комментировал Манн, кажется никогда не сочинявший пьес[9].
В ХХ веке многое изменилось. С появлением и утверждением режиссерского театра драма как текст во многом потеряла свое значение. Драматург живет, пока его играют на сцене. Драма умирает в спектакле. Читают же (если читают вообще), главным образом, романы и новеллы.
И только немногие драматурги – наверное, они и называются классиками – оказываются двуликими янусами, кентаврами. Их пьесы необходимо не только видеть на сцене, но – читать. В таких случаях обнаруживается, что драма – не сценический полуфабрикат, а полноценный литературный род, «высшая ступень развития поэзии». Чеховские пьесы оказываются едва ли не первыми в этом ряду.
Первая драма: что и как?
Чехов-писатель начинается как раз с драматургии. Еще в гимназии он берется сочинять большую идейную драму о русском Гамлете, Михаиле Васильевиче Платонове, который мечтал о карьере Байрона или Христофора Колумба, но даже не окончил университет, стал сельским учителем, надорвался, запутался в своих отношениях с женщинами и в конце концов погиб от руки одной из четырех влюбленных в него дам.
В пьесе было двадцать названных по имени персонажей плюс гости и прислуга в массовых сценах. Она опиралась на целую библиотеку прочитанных книг. Герои собирались ставить «Гамлета», цитировали Пушкина, Тургенева и Некрасова, вспоминали об Илье Муромце и царе Эдипе. Текст с трудом поместился в одиннадцать самодельных тетрадей – объем в три раза больший, чем у обычной, «нормальной» драмы.
В Москве, во время учебы в университете, пьеса была дописана и показана знаменитой актрисе Малого театра M.H.Ермоловой (1853–1928). Предложение не было принято: в драме не было подходящей для Ермоловой героической роли. Но даже если бы она нашлась, пьеса вряд ли была бы поставлена: слишком непохожа она оказалась на привычную театральную продукцию начала 1880-х годов. Так начинается конфликт Чехова с современным театром, который затянется на десятилетия.
Пьеса осталась в чеховском архиве. Она была обнаружена и опубликована только через сорок лет (1923). Первая страница рукописи утеряна, так что никто в мире не знает ее точного заглавия. Ее называют то «Безотцовщиной» (по заголовку, случайно сохранившемуся в письме старшего брата), то «Платоновым» (по имени главного героя), то просто пьесой без названия. Переводчики и режиссеры придумывают свои варианты: «Этот безумец Платонов», «Дикий мед», «Дон Жуан на русский манер», «Неоконченная пьеса для механического пианино».
С драмой на какое-то время было покончено. Чехов начинает сочинять прозуАнтоши Чехонте. И первые его театральные успехи связаны с пьесами в том же духе.
Странные водевили: хлоп и тру-ла-ла
«Да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль», – заявляет грибоедовский Репетилов. Водевиль, «легкая пьеса с занимательной интригой, с песенками-куплетами и танцами»[10], был любимым зрелищем непритязательных театралов. В театре он обычно шел каждый вечер как дополнение к большой драме.
Чеховские одноактные комедии возникают в конце 1880-х годов как бы непроизвольно, случайно. «Вы спрашиваете в письме, что я пишу. После „Степи“ я почти ничего не делал, – сообщает Чехов Я.П.Полонскому 22 февраля 1888 года. – От нечего делать написал пустенький, французистый водевильчик под названием „Медведь“… Ах, если в „Северном вестнике“ (в этом журнале печаталась серьезная «Степь». –И. С.) узнают, что я пишу водевили, то меня предадут анафеме. Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ла-ла!» (П 2, 206).
Чеховские «тру-ла-ла» непохожи на привычные водевильные образцы. В них нет куплетов и танцев (хотя в современных постановках они иногда органично включаются в спектакль). Водевильные маски героя-любовника, тоскующей вдовы, молодой девушки на выданье дополняются бытовыми деталями, перерастают в характеры. Но при этом сохраняются словесные каламбуры, нелепые фамилии, динамика живого, упругого, как пружина, действия, которое все время балансирует на грани вероятного и невероятного.
«Свадьба» – в большей степени водевиль разговоров, напоминающий некоторые сцены «Платонова». Нелепые рассказы, замечательно придуманные афоризмы («Дайте мне атмосферы», «Позвольте вам выйти вон», «С кашей съем») создают образ самодовольной, воинствующей, торжествующей пошлости. Глотком свежего воздуха выглядят в этой атмосфере зычные команды приглашенного «генерала» Ревунова-Караулова (фамилия-подсказка), в которых – воспоминания о морской службе, о молодости, о счастье.
Его последние слова: «Где дверь? В какую сторону идти? Человек, выведи меня! Человек!.. Какая низость! Какая гадость!» – приобретают символический характер. Но оскорбления, низости и гадости никто не замечает: ревет музыка, кокетничают Змеюкина и Ять, старается перекричать всех гостей шафер. «Ну стоит ли говорить о таких пустяках? Велика важность! Тут все радуются, а вы черт знает о чем…» – говорит Нюнин не только об украденных двадцати пяти рублях, но и обо всем, что произошло только что.
В «Медведе» и «Предложении» Чехов дает (создает) своим героям иную атмосферу. В основе этих водевилей – ситуации-перевертыши. Смирнов приезжает получать долги, возмущается, ругается, стреляется, но в итоге смертельно влюбляется в красивую вдову. Ломов приезжает делать предложение, но насмерть ссорится со своей избранницей то по поводу размежевания, то по поводу собачьих достоинств.
Но все кончается по-водевильному счастливо: соединением влюбленных, свадьбой в перспективе.
«Чубуков. Ну, начинается семейное счастье!..(Стараясь перекричать.) Шампанского! Шампанского!» («Предложение»).
«Шафер(стараясь перекричать). Милостивые государи и милостивые государыни! В сегодняшний, так сказать, день…» («Свадьба»).
Совпадение финалов напоминает об опасностях, ожидающих впереди милых и симпатичных чеховских персонажей.
Чехов, как мы видели, насмешливо относился к своим водевилям (как и вообще критически отзывался о большинстве своих произведений). Но тем не менее постоянно обращался к этому жанру. Даже после «Вишневого сада» он собирался сочинить «водевиль хороший». Философия водевиля (все в конце концов будет хорошо) позволяла ненадолго, на миг позабыть обступающие «серьезных» чеховских героев мучительные вопросы. Но такой миг – непродолжителен.
В чеховских планах водевиль становился жанром уже совершенно не похожим на обязательную свадьбу в финале или в перспективе. Т.Л.Щепкина-Куперник вспоминала: «Помню – раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки. Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:
– Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются – потом дождь проходит, солнце – и вдруг он умирает от разрыва сердца!
– Бог с вами!? – изумилась я. – Какой же это будет водевиль?
– А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся – и вдруг – хлоп! Конец!
Конечно, он этого „водевиля“ не написал»[11].
Персонажи ненаписанных водевилей попадали, однако, в большие чеховские драмы, превращаясь там в фигуры драматические (Телегин в «Дяде Ване», Епиходов и Шарлотта в «Вишневом саде»). Водевиль – это драма, в которой конфликт благополучно разрешается. Водевильные герои в чеховских пьесах – это люди с неразрешимой судьбой. Только у Чехова «комедия» может кончиться смертью или самоубийством. «Разве так не бывает?»
Русский Гамлет: два Иванова
«Иванова» Чехов писал дважды. Первая редакция (1887) была «комедией в четырех действиях», вторая – превратилась в «драму». Различие в судьбе главного героя оказалось в том, что Иванов-комедийный внезапно умирал от нанесенного ему оскорбления, а Иванов-драматический стреляет в себя.
Герой с самой распространенной русской фамилией – несомненный родственник Платонова, новый, более совершенный вариант «Гамлета на русский манер». Совсем недавно он был полон сил, много работал, боролся за справедливость, влюблялся, шел против течения жизни. И вдруг что-то произошло. «Вероятно, я страшно виноват, но мысли мои перепутались, душа скована какою-то ленью, и я не в силах понимать себя. Не понимаю ни людей, ни себя…» Даже страдания умирающей жены оставляют Иванова равнодушным.
Герой не любуется своим разочарованием и усталостью, а боится, пугается его. «Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди… сам черт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это – позор! Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю…»
Различие между Ивановым и окружающими его людьми заключается в том, что те, другие,все понимают.
Каждый из персонажей драмы словно сочиняет свою пьесу: играет какую-то роль и надевает на Иванова простую, понятную маску. Суетливый бездельник и прожектер Боркин видит в нем ловкого пройдоху, прямолинейный фанатик Львов – лицемерного мерзавца, «идейная девушка» Саша – временно уставшего «нового человека». «Черный ящик» для себя, герой вроде бы абсолютно прозрачен и понятен для других.
Исходя из своих ролей и сложившихся представлений, люди мучают друг друга, не умея и не желая понять, что же происходит с Ивановым на самом деле.
Проблема всеобщего непонимания, некоммуникабельности – одна из главных, ключевых для Чехова. Еще в 1883 году в письме старшему брату Чехов говорил о «скверной, подлой болезни»: «Люди одного лагеря не хотят понять друг друга» (П 1, 58).
«Вы, Жорж, образованны и умны, и кажется, должны понимать, что мир погибнет не от разбойников и не от воров, а от скрытой ненависти, от вражды между хорошими людьми, от всех этих мелких дрязг, которых не видят люди, называющие наш дом гнездом интеллигенции», – скажет героиня комедии «Леший», позднее превратившейся в «Дядю Ваню».
Практически каждому герою «Иванова» дано мгновение, момент истины, когда привычная маска вдруг спадает и за ней появляется искаженное страданием человеческое лицо. Граф Шабельский мечтает поехать на могилу жены, Бабакина жалуется на свое одиночество, Саша осознает, что взятая на себя роль спасительницы Иванова фальшива и невыполнима. Ее всем угождающий отец произносит: «Замучили!» Но потом нелепая пьеса, комедия жизни, катится дальше.
И лишь Иванов живет с ощущением постоянного неблагополучия. Все его поступки, даже самые жестокие (ссора с женой в конце третьего действия, когда звучат страшные в своей правдивости слова: «Так знай же, что ты… скоро умрешь…»), вызваны этим душевным надрывом, мучительным непониманием, болезнью воли.
В письме-комментарии к «Иванову» Чехов пытался описать эту скверную болезнь на языке психологии и физиологии, перечисляя ивановских врагов: утомление, скука, неопределенное чувство вины, одиночество. «Теперь пятый враг. Иванов утомлен, не понимает себя, но жизни нет до этого никакого дела. Она предъявляет к нему свои законные требования, и он, хочешь не хочешь, должен решать вопросы… Такие люди, как Иванов, не решают вопросов, а падают под их тяжестью» (П 3, 111).
Единственное, на что хватает воли героя, – осознать безвыходность своего положения и поставить «точку пули» в конце. «Куда там пойдем? Постой, я сейчас все это кончу! Проснулась во мне молодость, заговорил прежний Иванов!.. Долго катил вниз по наклону, теперь стой! Пора и честь знать!.. Оставьте меня!(Отбегает в сторону и застреливается.)»
Начиная с первой пьесы Чехов любит повторяющиеся детали, лейтмотивы. В первой же ремарке, только появляясь на сцене, Боркин прицеливается в лицо Иванова. Это была репетиция финального выстрела.
После «Иванова» Чехов сочиняет еще несколько водевилей, комедию «Леший», но следующей важной, принципиальной для него пьесой станет еще одна комедия с самоубийством – «Чайка».
Странная комедия: верую – не верую
«Можете себе представить, пишу пьесу, – сообщает Чехов Суворину 21 октября 1895 года. – Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» (П 6, 85).
«Формула» собственной пьесы выведена изящно и точно. На фоне «колдовского озера» с восходящей луной ставится и проваливается пьеса Треплева. На другом берегу живет Нина. Тригорин ловит в нем рыбу. Над ним летала убитая чайка. В четвертом действии по озеру ходят громадные волны и стоит на берегу «голый, безобразный, как скелет» театр, в котором плачет вернувшаяся на руины Чайка-Заречная.
Озеро в «Чайке» – важный художественный символ, связывающий и проявляющий судьбы героев. Сходную функцию будет выполнять сад в «Вишневом саде».
«Пять пудов любви» в чеховской комедии – это любовь драматическая, безответная, несчастливая. Треплев любит Нину, Нина – Тригорина, Маша – Треплева, Медведенко – Машу, Полина Андреевна – Дорна, Аркадина – Тригорина. Маша мечтает «вырвать любовь из своего сердца». Тригорин легко забывает о брошенной Нине Заречной. Дорн говорит Полине Андреевне «поздно». Сеть безнадежностей опутывает героев. Вполне довольна и счастлива только самодовольная Аркадина, которая любит себя в искусстве и в жизни играет со «знаменитым беллетристом» хорошо затверженную роль.
Треплев и Тригорин оказываются в чеховской комедии соперниками не только в любви, но и в искусстве. «Разговоры о литературе» превращаются в отдельных сценах «Чайки» в своеобразный эстетический трактат о разных типах художников.
Тригорин – рационалист, подчиняющийся требованиям долга: «День и ночь меня одолевает одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен…» Он жалуется на постоянную тяжесть литературной работы («чугунное ядро» сюжета), занят изнурительной, беспрерывной наблюдательностью («ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы в литературную кладовую: авось пригодится!»).
Треплев, напротив, творит по вдохновению («Вы презираете мое вдохновение…» – говорит он Нине после провала пьесы). Он считает, что настоящее искусство возникает, когда «человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет потому, что это свободно льется из его души». Треплев – поэт, хотя сочиняет рассказы и пьесы.
По характеру творческого процесса Треплев и Тригорин – чеховские Моцарт и Сальери, перенесенные в иную эпоху и заставляющие вспомнить не о реальных композиторах, а о пушкинской маленькой трагедии.
С точки зрения поэтики Тригорин представлен в «Чайке» художником-импрессионистом, мастером точной детали (горлышко бутылки на плотине; облако, похожее на рояль) и «сюжетов для небольшого рассказа».
Треплев же проделывает в пьесе примечательную эволюцию. Пьеса о «мировой душе» напоминает (что не раз отмечалось литературоведами) старые романтические драмы и одновременно только зарождающиеся символистские. Штампы его прозы, вроде «афиша на заборе гласила…», обнаруживают в нем рядового беллетриста конца века. Новое же начало, которое он придумывает для рассказа незадолго до самоубийства («Начну с того, как героя разбудил шум дождя…»), неожиданно сближает его поэтику с художественной манерой Тригорина: так вполне мог начинаться сюжет для небольшого рассказа о погубленной девушке-чайке.
Чеховскую эстетическую позицию по отношению к героям-сочинителям можно определить как синтезирующую. И тригоринские, и треплевские приемы используются в его творчестве, становятся конкретными изобразительными аспектами его художественного мира.
Точка принципиального расхождения обнаруживается, однако, в сфере этики. Тригорин использует жизнь как материал для сочинительства, он играет и жертвует чужими судьбами. Реальность, ставшая литературой, исчезает из его памяти. «Не помню… Не помню!» – говорит он не только о заказанном чучеле чайки, но и о судьбе Нины Заречной.
Треплев строит жизнь по законам искусства и платит за свои неудачи и разочарования только собственной судьбой.
Финал четвертого действия строится на любимом чеховском приеме контрапункта – смысловых сопоставлений и противопоставлений. Появляется в комнате Треплева Нина («Я – чайка…»), а человек, сыгравший роковую роль в ее жизни, равнодушно смотрит на чучело чайки («Не помню…»). Но она – вопреки очевидности – все так же любит этого человека, превратившего ее жизнь в сюжет для небольшого и уже забытого рассказа.
Мать спокойно играет в лото, в то время как за стеной звучит тихий выстрел, похожий на звук лопнувшей склянки с эфиром.
«Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни, – говорил Чехов одному из собеседников-журналистов. – Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни…»[12]
Младшее поколение людей искусства оказывается в «Чайке» проигравшим. Не потому, что Треплев и Нина менее талантливы. Просто они меньше приспособлены к жизни: ранимы, неуверенны, простодушны.
Но противопоставление, контраст важны для Чехова и здесь. Треплев повторяет судьбу Иванова. Мучительно ощутив жизненную катастрофу, он видит выход только в смерти. Нина после всех трагедий находит силы жить дальше.
«Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни».
На это Треплев печально отвечает: «Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание».
Я верую – я не верую. Речь идет не о религиозной вере, а о какой-то идее, деле, призвании (им может стать и религия), придающим жизни смысл. В чеховской записной книжке различие между героями было подчеркнуто еще более: «Треплев не имеет определенных целей, и это его погубило. Талант его погубил. Он говорит Нине в финале: „Вы нашли дорогу, вы спасены, а я погиб“».
Люди, переживающие крушение жизненных надежд, становятся героями «Дяди Вани» и «Трех сестер». В унисон со словами Нины Заречной «Умей нести свой крест и веруй» звучит монолог Сони «Я верую горячо, страстно…» и заклинание сестер Прозоровых «Будем жить… Если бы знать…».
Чеховские «драмы настроения» эхом отражаются друг в друге. Главные темы и мотивы чеховской драматургии еще раз проигрываются и проясняются в его последней пьесе.








