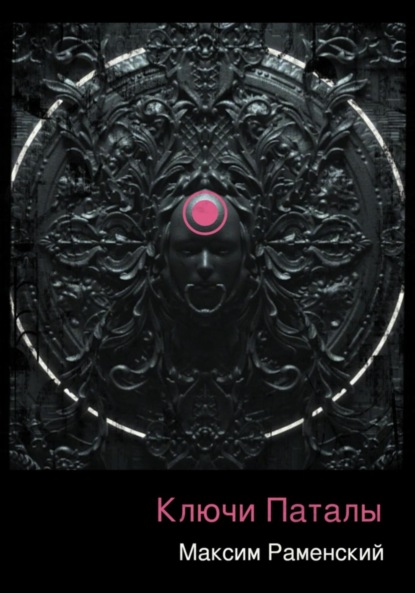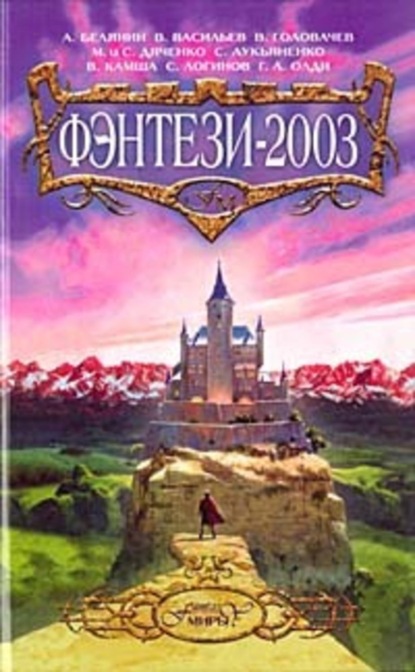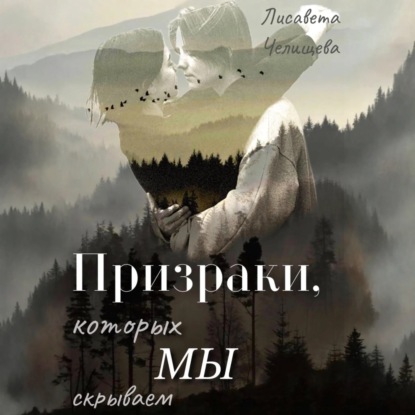Она — избранная, способная проникать в мрачный мир Нави, не теряя себя. Сбежав из рабства Княгини Чернограда, Шура скрывается в глухой деревне, но её сердце рвётся к потерянному возлюбленному — волколаку, заточенному в тенях мира за Калиновым мостом. Их разлука длится годами, и лишь её дар даёт слабую надежду на их встречу. Но Навь никогда не отпускает своих пленников так легко…
От автора: "Найду тебя в Нави" — отдельный роман цикла "Звериная Страсть" и "Желанная Шести". Можно читать отдельно.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация