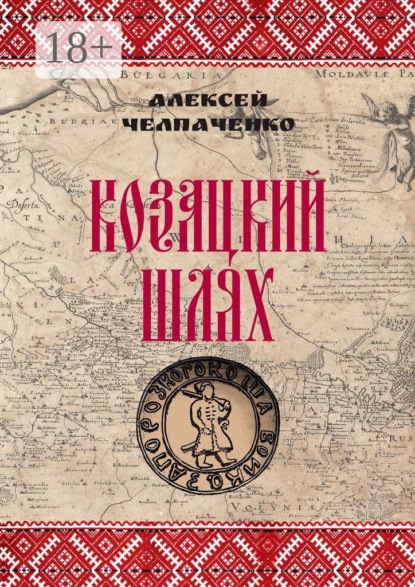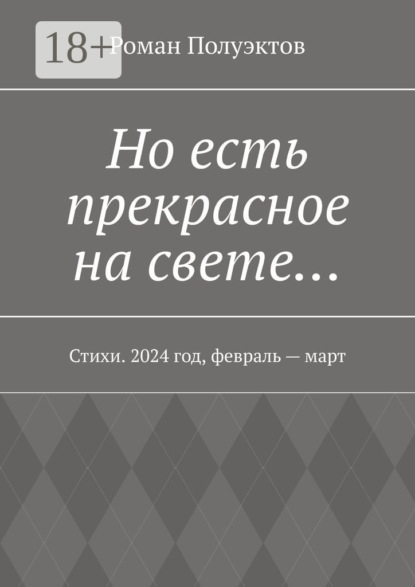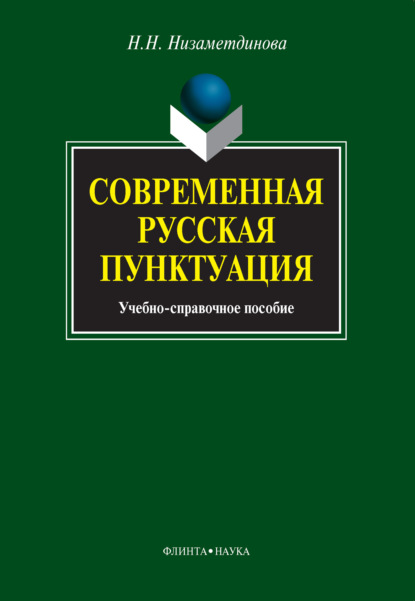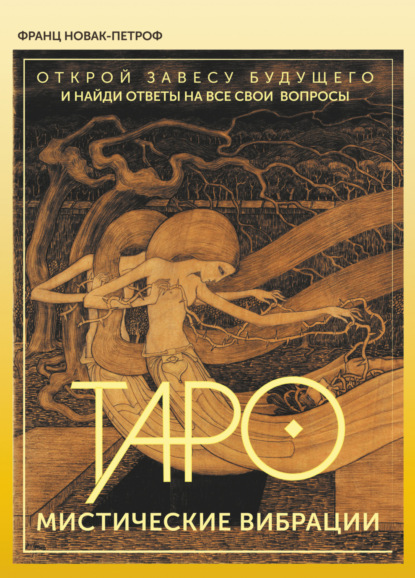- -
- 100%
- +
Будучи изначально лишь укреплённым лагерем для полудикого степового племени, а позже – засекою Байды, со временем сделалась Сечь настоящим орудием войны, по примеру древней Спарты полагая главным укреплением мужество своих обитателей. Это было то место, где культ физического совершенства был возведён в достоинство, а вельможность зависела от умения владеть оружием, удальства и наездничества.
В духовном же смысле сделалась Сечь рыцарским братством, весьма смахивающим на кочевой бранный монастырь, недаром те из его «послушников», у которых латынь и сабля не вступали в противоречие, охотно именовали себя мальтийскими кавалерами.
И уже вскоре многие мужи, среди которых не в диковинку были и гербованые, стремясь пройти науку в подлинно рыцарской школе, влеклись за пороги, ибо на ту пору пробыть некоторое время на Запорожье почиталось почти, как пройти курс военной академии. И всякая душа, жадная до приключений и войны, устремлялась на Сечь. Одни искали здесь воли и чести, другие – подвигов и приключений, третьи – добычи и славы, а уж вечная война и опасность доставляли им такую практику, которую не могло заменить самое тщательное и продолжительное мирное обучение.
Но равноправие и внешняя простота отношений, принятые в среде запорожцев, могли обмануть разве что воображение неискушённого неофита, увлечённого поэтичностью быта сечевиков и только готовящегося вступить под мрачную сень войны. Всё на Сечи, где так чтили старые обычаи, было просто, сурово и грубо, ибо всё существовало только для брани.
Немало черни из разных земель, влекомые на Запорожье байками тех, кто отродясь ниже Киева не бывал, мыслили, что на Сечи их встретят с распростёртыми объятьями поборники за вековечные чаяния хлопства о царствии Христовом на земле.
Увы! Запороги, зная сомнительность бранных свойств вчерашних свинопасов и случайность их появления, в убежище никогда не отказывали, но и брататься с ними не спешили. Этот христианский народ, волею судьбы заброшенный в дикий закуток земли, признавал человеком только рыцаря, а на всё прочее смотрел с презрением. Чуждые для Сечи идеи холопского царства, не трогали суровых сердец её обитателей, ибо здесь в почёте были иные, многовековые нравы: «Жён не держать, землю не пахать, харчеваться з скотарства, звериного лову да рыбного промыслу, а больше в добычах з народов соседственных».
Посему заброда, ошарашенный поговоркою «гусак свыни не товарыш», бывало, оказывался на положение более тяжёлом, чем там, откуда бежал. И покуда «гусаки» эти не признавали пришельцев равноправными сечевиками (а это бывало весьма не скоро, а чаще не случалось и вовсе), на них лежала вся чёрная работа на Сечи. Никакой оплаты за это не предполагалось, кроме весьма скудного пропитания из саламаты на квасе или ухе. Всё прочее приходилось добавлять на собственные средства, приобресть которые можно было двумя способами: собственно на войне, либо подавшись наймитом на хутора заможных запорогов, на рыбные промыслы и в чумацкие обозы.
На ту пору, земли Запорожья ещё не приняли того стройного паланкого порядка, установившегося много позднее, и свободных пустопашей было вдосталь. Всякий запорожец, ежели не было войны, мог с дозволения куренного пойти ловить рыбу и бить зверя. А коли было чем позвенеть в кишене, можно было на удобном месте обустроить перевоз либо млын.
Год-другой, и набегал на новое сельбище самый разношерстный люд, туда же подселялись обженившиеся и изгнанные за то из Сечи козаки, и глядишь, из нескольких выкопанных в земле бурдюгов вырастал зимовник, а из хуторка – село. Насельники разводили скот, разбивали сенокосы и пасеки, засевали поля разным хлебом, заводили огороды, сады и прочую экономию по свойству и качеству земли. За защиту от татарвы и ляхов и за пользование плодами тучной земли обязанность их была одна – кормить запорожцев, у которых, наряду с пристрастием к воле и войне, леность и праздность были в крови.
Таковым суровым образом осуществляла Сечь естественный отбор, отделяя землепашцев и скотоводов от благородных добытчиков войны.
А так как всякая колыбель мало спустя делается тесна для растущего дитя, так и Сечь, вылезши из камышей Великого Луга, вскоре повела окрепшим своим плечом. Неспокойные дети её, не наигравшись степью, показались в море, по которому три века султаны не дозволяли плавать никакому европейскому народу. Козацкая речь раздалась от Азова до Босфора, и запорожцы с донцами, дерзко сунув головы в пасть свирепому османскому льву, принялись воевать вольные божьи шляхи по Днепру и Дону в два моря.
Вскоре, уже не только желтолицые вассалы османов, но и ниже́ сам их суровый повелитель вынужден был признать, что, коли бы не козаки, то уже давно был бы, воздвигнут халифат, достойный наследников пророка. И не только все короли платили бы харадж султану, но даже повелитель Сибири возвратился бы под ярмо, из которого так ловко освободили шею его предки.
Глава III
Но вскоре для Запорожья брани с татарами и Портой отодвинулись на задний план, сделавшись развлечением от праздности и приобретением средств к существованию. Нравственную же сторону всё больше начала занимать борьба с усердными слугами Христова наместника на Южной Руси, ибо городовые козаки, связанные с Низом родовою пуповиной и никогда не забывавшие, откуда они вышли, всё чаще стали не только искать утешения своим обидам на Сечи, но и находить там живой отклик.
Всё началось с того, что Литва, допреж того не пускавшая на «Землю Козаков» (как зачастую называли край этот иноземцы) других поселенцев, объединившись с Польшею, отказалась от прав на Южную Русь. Тотчас панство польское уполномочило короля раздавать «пустыни, лежащие при Днепре», католическим монастырям и заслуженным дворянам в пользование по должности или в аренду. Так, заселившие эти земли и вольные по древним статутам козаки, невольно сделавшись подданными новой отчизны, в одночасье потеряли все права, принадлежащие им по старым привилеям.
Новая «ойчизна», хотя и явилась на берега Днепра под личиною заботливой матери, на деле являла собою лютую мачеху и, подобно дракону сказочному, была о трёх головах, одну из которых осеняла корона польская, другую можно было угадать по папской тиаре, а третья украсилась пейсами и жидовскою ермолкой.
Первая голова, хотя и прикрывалась короною, но звалась магнатом и была плоть от плоти порождением древнего польского правления, состоявшего из панских междоусобий, грызни ясновельможных крулевят и забвения государственных интересов.
Издревле кичились ляхи тем, что нет во всём белом свете другой такой державы, где бы так высоко ценилась свобода мысли, совести и слова. Но свобода, достигнув в Короне высшей степени развития, уничтожила всякие границы и погубила самое себя, допустив такие стихии, которые взяли верх над всем и стали господствовать уже насильно.
Когда утвердилось в Польше избирательное правление, одною из таковых стихий и сделалось магнатство. На пёстрой шахматной доске Речи Посполитой выборный король, над головою которого домокловым мечом висело панское право на «рокош», был фигурою слабой и зависимой. Олицетворяя собою лишь только символ власти, король правил, но не властвовал, ибо корона польская не передавалась по наследству. Истинные же владыки королевства – магнаты, чьи непомерные амбиции питались безбрежными возможностями, содержали собственные армии и самочинно воевали с другими государствами.
И вот теперь эти вельможи знатных лядских и русинских родов потащились на восток делить пышный пирог благоприобретённого края. Мало погодя, половина всего городового козацтва Южной Руси очутилась во владении князей Замойских, а Вишневецкие захватили едва ли не всё Левобережье. Острожские заправляли четырьмя огромными староствами, имея восемь десятков городов, почти три тысячи сёл и местечек. Потоцким принадлежало все Нежинское староство и Кременчуг с окрестностями, а Конецпольским – почти двести городов и местечек и семь сотен сёл!
На запятках роскошных карет магнатов, как блоха на собаке, ехала на восток вечно голодная служилая шляхта. Слуги эти большею частью были такого рода, что даже сами сюзерены отзывались о них не всегда похвально: «Давай ему фалендышевую сукню, корми его жирно и не спрашивай с него никакой службы. Только и дела у него, что, убравшись пестро, на высоких каблучках скачет около девок да трубит в большой кубок с вином. Пан за стол – и слуга себе за стол, пан за борщ – а слуга за толстый кусок мяса, пан за бутылку – а слуга за другую, а коли плохо её держишь, то из рук вырвет. А когда пан из дому, то, гляди, и к жене приласкается».
А уж следом за панством потянулись разноплемённые толпы хлопства со всего королевства, привлечённые зазвучавшими на торжищах призывами к переселению и обещаниями всевозможных льгот.
Новые державцы, найдя на «пустынях» поселения чубатых туземцев, с которыми у них ещё от ордынской эпохи велись кое-какие незавершённые счеты, нимало не смутились и начали заводить те же порядки, что и в польских вотчинах. Сделавшись пожизненными владетелями поместий, по размерам равных удельным княжествам, принялись они по частям раздавать маетности в чинш мелкой шляхте, ни в чем её своеволия не ограничивая. Повсюду были посажены польские старосты, которые, держа себя завоевателями и не считаясь ни с какими обычаями вольных людей, принялись облыжно притеснять козаков, вводить панские и арендаторские поборы, запрещать варить пиво и горилку, отбирать лучшую часть от татарского дувана, охоты и рыбной ловитвы.
Пришлось козакам сильно потесниться и, глядя, как земля их делается заимкою для чужеродных дуков, лишь обескураженно почесывать то место, куда, как известно, православные склонны обращаться в трудных случаях за умом.
Другой головою дракона сделалась церковь римская, прямо объявившая козакам, что религия их – пришелец в их же дому, а истинная госпожа и хозяйка – вера католическая. Из Вечного Города посланы были в Польшу иезуиты, которые должны были приковать к ватиканской колеснице Южную Русь.
Вскоре дворянство русинское, забыв заветы предков, полностью оторвалось от народа, из которого вышло и, перенимая обычаи и весь строй польской жизни, поголовно отступило в латинство. Всё, что ни есть сколь-нибудь просвещенного, не исключая и высшего духовенства, всё уже начало не только писать по-латыни, но даже и думать.
Но для погрязших в схизме козаков и русин пришлось ляхам выдумать религиозную унию, которая по их замыслам должна была приблизить веру греческую к римской, дабы потом поглотить первую последней.
Отступившие от своей веры ренегаты, признали своим главою Папу Римского, но, зная, как миряне, слабо разбирающиеся в церковных догмах, твёрдо чтут обрядовую сторону, прибегли к лукавству, сохранив в новостворённой церкви, католической, по сути и духу, присущие православию обряды и церковно-славянский язык. Епископам залепили рты посулами мест в сенате, a униатское духовенство освободили от налогов и податей.
Всех же, унию не принявших, объявили еретиками и схизматами, творя им всяческое притеснение и беззаконие. Униатские епископы переезжали от церкви к церкви на повозках запряжённых… православными! Да не то была беда, что в повозки запрягали людей, а то, что епископы врывались в благочестивые церквы и монастыри, разгоняли молящихся, выволакивали священников из алтарей, а божьи храмы запечатывали. Непреклонных монахов ловили, били, брали в железо и бросали в темницы, а непокорившихся священников и их семьи заставляли ходить на барщину как холопов, избивая и калеча за ослушание.
Вскоре православный люд на Южной Руси уже только по имени был христианским, а были и такие, что без крещения оставались во всю жизнь. Невенчанные повсеместно жили в грехе и распутстве, младенцы умирали без крещения, а старики – без святых таинств. Да и сами покойники вывозились как падаль, без церковного благословения, через те поганые ворота, из которых вывозят нечистоты.
Третьей головою дракона сделалось бедствие, накрывшее юг Руси подобно тьме Египетской. То притча в человечестве – польское жидовство, сочтя, что приспела пора наживаться, слетелось на козацкие палестины аки мухи на мёд. Там, где прибыточно пристраивался один, вскоре оказывались десятки и подобно прожорливой саранче начисто опустошали округу.
Заарендовав все шляхи и торги, вселенские побродяги принялись драть безбожно мыто от всякой клади, от пешего и конного и даже от милостыни, выпрошенной нищими! Как поганки после дождя повылазили на старых козацких шляхах шинки да корчмы, ибо жиды взяли монопольный откуп на табак и винокурение.
Вскоре ни один шляхтич не принимал уже важного решения, не посоветовавшись наперёд с многомудрым Соломоном в ермолке, ибо панство, не доверяя печатным новостям, больше слушало жидов, всегда непостижимо знавших все слухи и сплетни. А так как паны сами хозяйствовать были не охотчи (ибо, как известно, дворянство польское было сотворено богом для иных дел – как-то пирушек, охот, заседаний сеймиков да бряцанья саблей), то немудрено, что вскоре завелось на юге Руси арендаторство.
Негоция сия была следующего рода: сдав в посессию землю со всем, что ни есть её населявшим, пан получал твёрдую плату и мог спокойно пускать деньги на ветер, а остальное его не заботило. А враги Христовы, рассчитывая только на срок аренды, тут же облагали данями всё мёртвое и живое: каждую хату и дым, мельницу и жернов, мост и плотину, рог воловий и коровий, плод огородный и садовый, улей пчелиный и рыбий хвост. А кроме того: за вызов судящихся, за то, чтобы обжениться, а как обженятся, глядишь, тут подоспеет и за новорождённых взять. Да чего уж там «рог воловий»! За игру на дудке, свирели и скрипке! А коли козак, не дай бог, не сказавши наперёд жиду, выкуривал водки либо варил пива, то по доносу жида тотчас отправлялся вялиться на виселицу, а его жёну и детей, отобрав всякий нажиток, гнали работать на арендатора.
Надобно ли удивляться тому, что вскоре общинные кагалы сынов Израилевых прибрали к рукам более половины принадлежащих Короне земель Южной Руси?
А ляхи, ограбив храмы, пропили и пораспродали церковную утварь и убранство жидам, а поруганные церквы отдали на откуп всё тому же богоизбранному народу. Непримиримые враги христианства, хуля гойским всё христианами чтимое, тут же принялись за скверноприбытничество, переплавив чистое церковное серебро на посуду, а из риз и стихарей со знаками святых крестов, пошив исподницы своим жидовкам. Теперь при всякой требе церковный ктитор, дабы заплатить по важности отправы, принуждён был тащиться в шинок. В столь непотребном для священнослужителя месте надобно было униженно торжиться с проклятым жидом, дабы выпросить ключи от церквы и колокольную верёвку.
Кроме того, христопродавцами особая была выдумана подать, похожая на дань апокалиптическую, во дни антихристовы описываемую. Перед самым великим праздником Воскресения Христова по всем знатнейшим городам и торжищам продаваемые на Пасху хлебы брались под стражу польскими урядниками. Жиды, не имевшие никаких других убеждений, кроме поклонения золотому тельцу, при освящении, досматривали хлебы и помечали их, ставя свои нечистые значки углем или мелом.
Прозелит, имевший на груди особый лоскут с меткою «Униат», покупал пасху свободно, а не продавший своей веры, принуждён был платить унизительную дань.
Неудивительно, что при таком беззаконном притеснении, козацкий народ на Руси, менее прочих склонный к покорности, всё чаще стал искать справедливости на Низу. И покуда под боком у Короны азартно скалила зубы Запорожская Сечь, готовая изгрызть и переварить даже каменных скифских идолов, ни ясновельможному панству, ни жидам арендаторам, ни ксендзам не спалось покойно на мягких перинах, ибо во всякую пору можно было ожидать явление незваных гостей из-за порогов, имевших обыкновение ходить на волость с красным петухом.
На ту пору Запорожье, будучи на бумаге в подсудности черкасского старосты Киевского воеводства, на деле Польше не принадлежало, и ляхи, не казавшие носа ниже Ненасытца, никакой власти над Сечью не имели, очутившись на весьма щекотливом положении охотника из известной байки, которого «пойманный» им медведь не отпускает.
Более того, погрязшая во внутренних и внешних распрях Речь Посполитая, принуждена была не только терпеть Сечь, но и обращаться к ней за подмогою, ибо запороги, отражая набеги татарских улусов, за которыми маячила османская чалма, охраняли и польские пределы. Короли польские отчасти, когда приспевала нужда в козацкой силе, отчасти в пику своенравному панству, заигрывали с Сечью и, одаривая Низовое Войско клейнодами, заключали с запорожцами некоторые подобия союзов и соглашений, впрочем, весьма шатких и обеими сторонами часто нарушаемых.
В ответ уязвлённым панством на сеймах время от времени принимались самые разнообразные прожекты уничтожения «злокозненного племени», которое уже по одному несходству в религии, обычаях и нравах всегда представлялось Польше естественным врагом.
Долгое время планы эти откладывались как невыполнимые, покуда два польских круля, первый – Сигизмунд, а другой – Баторий, наконец-то не нашли верное средство. Жаждая всеми силами привязать Южную Русь к польской метрополии и оградить её от своевольного Запорожья, нашептал им враг рода человеческого выдумать Реестр и Гетманщину.
Дав малой части городовых козаков чины, уряды да ранги, заставили они-таки чуждый им народ грызть друг друга. Теперь судьба гетманских козаков была за жолд по червонцу в год и тулупу, воевать с кем прикажут, хотя бы и с низовыми своими братьями. А всякий, не попавший в реестровый полк, оказывался на положении зайца, за которым паны охотились с целью оборотить в холопа.
Козаки реестровые, чувствуя за собою естественное право местных людей, и не желая подчиняться спесивымым пришельцам, беззаконно нарушающим королевские указы, как-то постучались было в те блескучие чертоги власти, на вратах которых казалось, начертано: «Тут во всякую пору едят пшеничные паляныци6». Но отворились со страшным скрыпом врата блескучих чертогов, и высокородные владыки надменно и брезгливо растолковали ничтоже сумнящимся дурням, что они-де, действительно, составляют часть государства польского, но такую, как ногти либо волосы в теле человека – когда оные слишком вырастают, то их стригут.
Но, как известно, что посеешь – то и пожнёшь, оттого вместо цепного пса вышел из гетманского козацтва прирученный волк. И, пожалуй, не было такого козацкого возмущения, в котором бы волк этот не клацнул зубами.
Напрасно ревностный покровитель православия князь Острожский держал пламенные речи на сеймах и писал королю и епископам, напрасно многие разумные головы предостерегали, что все эти Наливайки, Подковы да Павлюки – это лишь только предтечи великих бед, а потрясение всех основ и великое кровопролитие грядут впереди.
Всё было втуне. Магнаты и шляхта с жидами арендаторами, одни под сенью короны и католического креста, другие под знаком могендавида, с удручающей глумливостью грабили и насиловали обеспамятевший край, и козацкие выступления следовали уже одно за другим. В древний Краков наносило ветром с Днепра зловещий, едкий дух непокорности, и когда на Сечи кровавые разбойники церкви Христовой запевали на клиросе псалмы, дух степной крепости заставлял вздрагивать спесивых владык.
А покуда сорокатрёхлетний Зинобий-Богдан Хмельницкий будет хозяйствовать на своём хуторе в Суботове да исправно исправлять сотницкий уряд в Чигиринском полку. И ни у кого ещё и в помыслах не было, какого пива наварит из своего хмеля сотник ляхам через десять лет!
Глава IV
Верховые шли по-татарски, седло к седлу, толкаясь мокрыми боками коней и распугивая отяжелевших сытых стрепетов, целыми стаями заполошно взлетавших прямо из-под копыт. На рысях, приправленный терпкой полынной пыльцой, ветер ещё обдувал, на шаге же, словно в баню въезжали.
Что же это были за люди?
Искушённое око по высоким бараньим шапкам да по отсутствию прапорцев на пиках тотчас бы угадало, кто́ потревожил Великую Степь. То были люди из рассеявшегося, потом по всему белому свету племени вольных мужей брани, искусных мореходов и степовых наездников, прозванные московитом «днепровским черкасом».
То были запороги.
Другой час один из них поднимался в стременах и оглядывал округу, и тогда становилось видно, что запорожцы, употреблявшие на оружие и коней всё своё богатство, снаряжены были в достатке. И хотя не видно было на них ни лат, ни панцирей, ни другого тяжёлого и дорогого доспеха, инде блеснувшая в лучах заходящего солнца кольчуга говорила о том, что век белого, честного оружия ещё не весь вышел. В подбитых сукном кожаных нагалищах были приторочены грозные самопалы, имевшие такие просторные стволы, что могли сделать в человеке дыру величиною с кулак. Из-за поясов выказывали свои чеканные рукояти пистоли, а поперёд сёдел покоились в ольстрах их долгоствольные сородичи. Неразлучные брат с сестрою – кинжал и сабля, висели по своим сторонам. У многих, по старому ордынскому заведению, за спиною виднелись татарские сагайдаки и даже щиты. Всё было приторочено так, дабы, будучи под рукою, однако, не бренчало и не звякало.
Некоторые запорожцы, с их огрубелыми на марсовой службе чувствами, сморенные усталостью и шумом трав, дремали прямо в сёдлах, намотав на руку повод. И только ежели который начинал слишком крениться, то ехавший рядом товарищ его немилосердно тыкал ему ножнами сабли в бок.
В челе полка, под бунчуком, на богато осёдланном десятитысячном анатолийском красавце аргамаке покачивался в седле козацкий полковник. Всё, решительно всё: и чистокровный конь, и властная повадка всадника, и тяжёлая золотая серьга, вдетая в ухо в память о знатной гульбе у стен Царьграда, и персидская кольчуга, и даже изумляющее тонкостью кузнечной работы стремено – всё говорило за то, что это полковник, хотя и наказной, походный, но тотчас видно – из знатной сечевой старши́ны, которая в ту эпоху, под влиянием Гетманщины уже начинала слагаться в сословность.
Оберучь от полковника ехал полковой чин, в обиходе прозываемый атаманией.
Под горбоносым смуглым и сухим, как азовский лещ, есаулом, несмотря на усталость, всё время взыгрывал вороной как бес жеребец. Да и сам есаул с виду был таков, будто за пазухой злого духа держал.
На широкой, как запечье, спине рослого гнедого подольца курганом громоздился кряжистый сотник. Омываясь горячим по́том, исполин то и дело снимал выдровую кабардинку и обтирал обритую голову и дебелую выю с чёрным, как спина столетнего днепрянского сома, гамалыком.
Рядом с ним, на золотисто-рыжем угорском иноходце, в щеголеватой посадке, баюкался другой сотник в лихо сбитой на затылок дерзкой мегерке и всем своим беспечным видом являл полную противоположность своему товарищу.
Куда же в ту сумрачную эпоху так спешили оружные мужи? К женщинам ли или на убийство, к любви или погибели, на брашна либо на тризну? Нет, эти степовые скитальцы, похоже, не так давно избегнув старухи с косо́ю, молодиц с ко́сами тем паче не искали, а что ждало их впереди – пир или поминки, знал про то один только бог всевидец.
Многое бы бросились прямо в очи всё тому же искушённому зраку, доведись ему узреть сих всадников. Немалое число перевязанных голов прямо говорило о том, что козаки шли на военном походе и не так давно побывали в жарком деле. Но пышное, чепурное убранство старши́ны и даже простых козаков тому противоречило, ибо всякий знал, что воевать запороги более привычны в подлом платье. К тому же низовые на походе не любили бахвалиться на всю степь дорогим оружием, а, напротив, по своему заведению, бывало притравливали все блескучие части рассолом.
Картинный, напоказ, кровник под полковником и множество заводных навьюченных коней, привязанных чомбурами за хвосты упряжных, заставляли думать о том, не козацкая ли то едет легация? Но зачем тогда не было среди них джур? Отчего не видно было и козаков в почтенных летах, которых обыкновенно брали в посольство за мудрость и опытный совет? И откуда взялись пораненные?
Нет, ежели это и была легация, то послы были того рода, которого боязливые мирные насельники стараются не поминать нa ночь глядя. А послал их к ляхам старый запорожский атаман Дмитро Томашевич-Гу́ня, наказав передать латинянам свинцового толокна.
…Двенадцать недель тому назад Гу́ня, поднятый козаками на регимент, подхватил выпавшую из рук гетмана Остряницы булаву, которая так несчастливо переходила из рук в руки последние несколько лет. Этой неудачной для козаков войне с «медвежьей лапой» суждено было закончилась у устья Старца – старого днепровского русла в гирле Сулы, в тех самых окопах, где когда-то уже бились они с черкасским старостой.
В тесно обложенном ляхами козацком стане, узнав о поражении полковника Филоненко, который должен был привести с другого берега Днепра припасы и помощь, к недостатку прибавились раздоры. Одни поклялись на оружии биться до последнего вздоха, другие полагали разумным сдаться на милость победителя, и все искали способа выбраться.