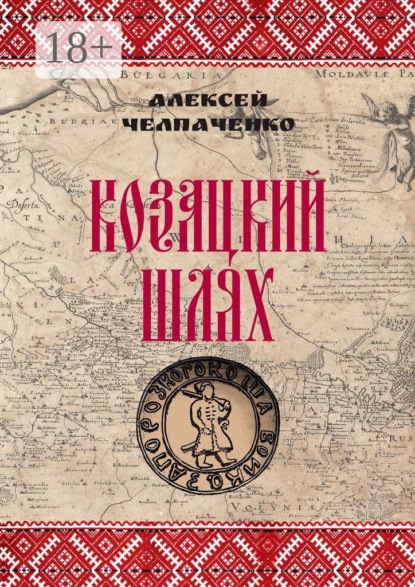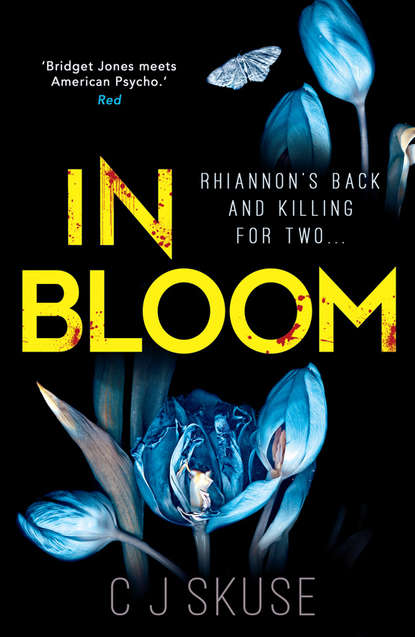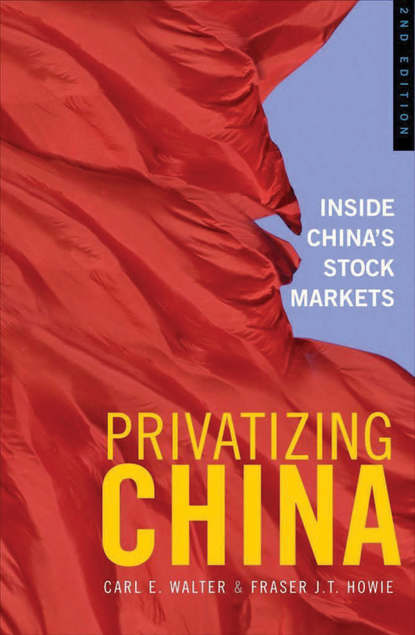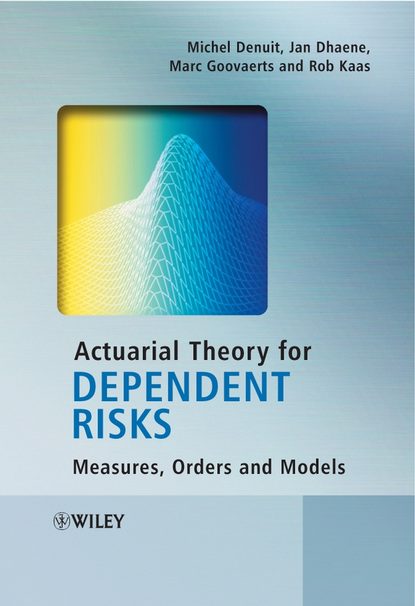- -
- 100%
- +
В ответ Шама́й, одарив ляха самой безмятежной и щирой улыбкой, презрительно сплюнул под ноги его коню. Ярость исказила побагровевший лик всадника, налитые кровью очи выпучились. Бранясь и осаживая крутящегося коня, он выкликнул бессвязно и запальчиво, немилосердно брызгая слюною:
– Иджъ до пекла159! Это шляхетные дела! Пошёл прочь, галган160, коли жизнь дорога!
– Не засти161, пане, не засти! Я уже вижу, что́ ты за шляхтич, – хладнокровно ответил Шама́й, отступая от теснившего его конём ляха. – Пёс бесчестный! Тут тебе, подлая душа, не Жечь162, тут – Дикое Поле!
Захлебнувшийся яростью лях затрясся как в падучей и выхватил саблю.
Но сей миг в воздухе фыркнул чекан Шама́я, и занозистого ляха точно порывом ветра с коня сдуло. Тут же из кустов хлопнули самопалы запорогов.
С оголённой вершины дуба, под которым отбивался юноша, с пронзительным криком сорвался и улетел перепуганный до смерти дятел, и поляну заволокло дымом. В этом дыму трое коноводов и человек с арканом, как подрезанные снопы, рухнули на землю. Юноша тоже не остался безучастным назерщиком: прыгнул как волк и напрочь снёс пол головы одному из нападавших. Остальных, не исключая и раненого, порубили запорожцы.
Когда дым рассеялся, на поляне лежали лишь трупы людоловов, а козаки ловили их коней. Шама́й, не обращая на юношу никакого внимания, присев на корточки, разглядывая убитого им ляха.
Молодой человек меж тем, обтерев саблю об ближний труп, вложил её в ножны. Прерывисто дыша и прихрамывая, он подошёл к Шама́ю и довольно учтиво заговорил, мешая польские и русинские слова.
– Дозволь поблагодарить пана за благородный поступок и моё счастливое избавление от сих лотров163! К услугам твоей пан милости, – юноша поклонился, – Януш Лисецкий с Лищек, шляхтич герба Лис164.
Шама́й поднял голову и усмехнувшись молвил, точно загадку загадал:
– Коша Низового сотник Шама́й.
Януш и секундой не замешкался.
– Запорожцы – славные рыцари, и воинству сему завидовал не один король, – так мой покойный отец говорил. А дед мой, прошу пана, с козаками достославного гетмана Ша́ха165 ходил сажать на молдавский престол Подко́ву…
– Благославен и отец, родивший такого сына! – Шама́й, испытывающий известную слабость к храбрецам, не без любопытства оглядел юного панича.
Пред собою он увидел ладного, худощавого, светловолосого и пригожего ликом молодого человека. В открытом взоре его читалось благородство и отвага, но несколько раньше срока прорезавшихся злых морщин делали его не по возрасту серьёзным и жестоким.
– Благодарю пана! – Ян склонился над трупом, вгляделся тому в лик, и улыбка, более похожая на волчий оскал, тронула его губы.
«Третий» – непонятно пробормотал он.
Ощупав проломленную подплывшую кровью грудь мертвеца, Ян поднял чекан и, взвесив его в руке, подал Шама́ю:
– Как же пан та́к чеканом распорядился, что с одного удара дух из супостата вышиб?!
В столь неприкрытой и грубой лести было столько искреннего и простодушного восхищения, что обычно невозмутимый Шама́й только хмыкнул в ус.
– Учтивая речь и открытое сердце, – буркнул он себе под нос. – Однако я вижу, лихоимец сей – знакомец панича?
– Что ж, твоя милость явил благородство, и я не буду кривить душою, – голос молодого шляхтича зазвучал глухо. – Действительно, стерво это, – Януш плюнул на труп, – мой враг заклятый. И пан не просто от погибели меня спас, но от казни лютой, которая мне уготовлена могущественными недругами, сживающими меня со свету и загнавшими, как дикого зверя, уже почитай на край земли. Отныне я должник пана…
– Пустое, панич… Божий свет тесен, как-нибудь сочтёмся…
Шама́й сунул чекан за пояс и поворотился к запорожцам, обыскивающим трупы:
– Чгун! Нехай панич берёт своего коня, – Шама́й глянул на коня Яна и покачал головою. – Дай ему ще одного коня. И припасу всякого дай на два дня.
Козак, как видно ровесник Яна, но обличья столь могучего, что каждый, видевший его впервые, поневоле добавлял ему лет, удивлённо пробасил:
– Ша́ма! З якого пэрэляку ему ще одного коня? То кони теперь по праву наши! И свого ему буде довольно! Нехай богови свичку поставит, що живым остався…
Януш, у которого к хорошему слуху бесплатным приложением был острый язык, тут же, не оборачиваясь, презрительно бросил через плечо:
– Исполняй-ка, братец, что тебе пан старшой велел, да не рассуждай!
На поляне установилась нехорошая, предгрозовая тишина, и в воздухе отчётливо запахло новым смертоубийством.
Панас, торочивший что-то на пойманного коня, оставил своё занятие. Побагровев и набычившись, тяжёлой поступью богатыря он подошёл к Яну, поворотившемуся к нему с самой независимою миной.
Шама́й, хотевший было попридержать козака, внезапно передумал и решил посмотреть, ка́к покажет себя дерзкий лях перед лицом новой угрозы.
Некоторое время противники молча стояли и смотрели друг на друга, как два диких вепря, сверкая очами и раздувая ноздри, при этом Чгун своими маленькими медвежьими глазками, казалось, пробуравил во лбу злоязыкого ляха дырку величиною с волошский орех.
Но на Яна это не произвело должного впечатления, лишь кровь напрочь сбежала с его лика.
– У которого длинный язык – у того жизнь короткая…, – угрожающе зарокотал Чгун. – Ты бы, ляшко, попридержал своё ботало166, не то…
– Не то что́? – надменно заложил руки за пояс Ян. – Пан-козак биться со мною будет?
– Биться? С кем? с тобою?! – безмерно изумился Чгун. – И на чём же панич хочет со мною биться?!
– Да на чём угодно! хоть на саблях, хоть на кулаках!
Словно громом поражённый, козак, уподобившись выброшенному из воды судаку, несколько раз открыл и закрыл рот и вдруг откинувшись назад и взявшись за пояс, расхохотался так гулко, что стоявшие поблизости кони отшатнулись.
– Сохрани меня боже от скаженой167 воши! Ось це по-нашему! От за цэ я тебе уважу! – тут Панас от всего сердца так хлопнул Януша по плечу своею дланью, напоминавшей средней величины заступ, что у того моментально онемела рука.
«Вот наградил же создатель дурня такой силою!» – так подумал юноша про нового знакомца, но в слух молвил совсем другое:
– Да пан-козак – точно античный Геркулес! Признаться, таковых могучих людей я допреж не видывал! Мыслю, не всякий медведь супротив пана выстоит!
Простодушный Панас снова было насторожился, разобрав в речи Яна, путающего русинские и польские слова, какого-то незнакомого ему «Геркулеса», и пристально вгляделся в лик шляхтича, силясь разгадать, не насмехается ли тот над ним. Но, увидев лишь восхищение и приязнь, отбросил все сомнения и, сунув ему свою лопатообразную ладонь, довольно прогудел:
– Дозволь руку панич, я – Панас Чгун, козак Коша Запорожского.
– Януш Лисецкий, и без церемоний! – шляхтич чуть поморщился, когда его узкая ладонь совершенно скрылась, стиснутая в огромной лапе запорожца.
– Як же панич, такой… – здесь косноязычий Чгун постарался подобрать такое слово, которое бы не оскорбило шляхтича, – такой… невзрачный и невеличкий168, як горобчик169, не устрашился со мною биться?
– За обиду, нанесённую чести и достоинству, никому не попущу, – ответил Ян, потирая плечо, и, поворотившись к Шама́ю, улыбнулся открыто и искренне, – Я – убогий170 шляхтич, и у меня, кроме чести и сабли нет ничего.
«З любой петли вывернется», – так окончательно определил для себя юного поляка Шама́й и огляделся. Сумрак уже клубился кругом, лес темнел всё больше и больше, и оголённая вершина дуба, того самого, под которым отбивался Ян, точно диковинными плодами покрылась рассевшимися по сучьям на ночлег тетеревами.
Шама́й вставил ногу в стремя:
– Хлопцы, побытых в кущи бросить да заложить хмызом171. До утра от них зверь и кисток172 не оставит. А нам нема за що173 тут мешкать, отъедем и заночуем в другом месте.
– Панове козаки! – неожиданно обратился ко всем Ян и снял шапку, в волнении ломая её в руках, – А возьмите меня с собою!
– Тю! – Шама́й с изумление посмотрел на панича. – Как же мы тебя возьмём? куда? Ведь мы до Сечи едем! Нет, не можно!
По лику Яна пошли красные пятна, и он задрожал всем телом.
– А хоть бы и до Сечи! Я ведь, прошу пана, до вас и пробирался!
– Хм… Не можно… Тем паче, панич – католик… Как же пан будет на Сечи?! На Запорожье, даже простое проживание иноверцев без особого разрешения его милости кошевого атамана не дозволяется. Над таковым человеком могут в любой час совершить самосуд. Панича убьют уже только в предместье! – Шама́й сел на коня. – Нет, Януш, совсем не можно! Всякий человек должен жить со своим народом.
Тут юный шляхтич вдругорядь всех удивилил, ибо неожиданно бухнулся на колени и приложил руки к груди:
– До дьябуа174! Где был мой бог в дни страшных страданий, выпавших на мою долю?! Мой бог отвернулся от меня! так и я отвернусь от него! – шляхтич остервенело рванул на груди ворот сорочки и сорвал нательный крест. – Где был мой народ, когда травили меня точно дикого зверя?! – голос Яна сделался страшен. – До дьябуа! Нет у меня больше ойчизны! Нет у меня больше веры! Панове, богоматерью вашей заклинаю! возьмите меня с собою! Перейму и веру вашу, и обычаи, и законы! Побратаюсь с вами и во всю жизнь буду делиться всем, что ни есть! Возьмите меня, панове козаки, не дайте пропасть!
Шама́й, разбирая поводья, по-новому поглядел на шляхтича, и ответил раздумчиво:
– Хм… Что ж… Я пожалуй, могу замолвить за панича слово перед кошевым. Но панич должен знать, что на Сечи его ждёт премного испытаний…
Пока обрадованный Ян возился с новоприобретённым конём, привязывая к нему своего, запорожцы, обобрав трупы, побросали их в яму, которую сотворило упавшее дерево, вывернувшее своими корнями пласт земли высотою в два человеческих роста.
Смерклось всё сильнее, и уже затрепетали в небе летучие мыши. Козаки, выбравшись из лесу, ехали нога за ногу, лениво подталкивая коней пятками сапог.
Ян был занят тем, что с любопытством приглядывался к запорожцам, к их убранству, оружию, коням и даже посадке на коней, примеряясь себе на уме, ка́к он может с выгодой для себя использовать новых знакомцев.
Панас показался ему простоватым, но вся его фигура, дышавшая удальством и выдержанной в степях устрашающей воловьей силой, заставляла поневоле относиться к нему с должным респектом.
Чгун, ехавший рядом, стремя к стремени, посапывая сосал люльку и, как истый запорожец, посматривал на нового знакомца как-то хмуро и исподлобья. Беседа не заладилась после того, как Панас невпопад спросил у молодого поляка о его родове:
– Януш, а отчего у вас прозвание Лисецкие? От хитрости, сему зверю присущей?
– То история древняя… На гербе рода нашего, к коему принадлежит более двух сотен семейств шляхетских, лис был с времён незапамятных. А отчего и как, то теперь уже никто не помнит. А вот копьё добавилось, когда предок наш, муж благородный, на поле Марса оказал отчизне памятную услугу. Сам круль Казимир Справедливый175 после победы, одержанной над ятвягами на Мзуре, даровал ему в герб этот новый знак отваги за то, что он с малым отрядом, окружённый неприятелем, дал сигнал брошенным вверх копьём с зажжённой серой, и тем спас себя и воинство от погибели…
Сирота Чгун, задетый за живое древностью рода шляхтича, знавшего своих предков в восьмом колене, заметил:
– А у меня всей родовы – Нэнька-Сич176 да Великий Луг-батько… – после чего засопел и закурил люльку.
Некоторое время ехали молча. Ян подумывал, что не мешало бы узнать поболе о том месте, в котором ему теперь предстояло обретаться.
С таковым вопросом он прямо обратился к новому своему товарищу:
– Панас, друже, ты бы рассказал про Запорожье!
Чгун, как всякий запорожец, неприветливый на первых порах к постороннему человеку, попервой заговорил весьма неохотно, с грехом пополам связывая польские и русинские слова, но затем мало-помалу смягчился, и суровый его лик постепенно начал принимать живой вид.
– Да разве у нас так, как в вашей тесной земле лядской? – Панас вынул люльку изо рта и довольно презрительно сплюнул на сторону. – Что ты! У нас – простор и воля! У нас – Днепр! По козацким землям течёт он вёрст с пять-сто! Островов на нём – несчётно! Все берега, окромя порогов, коих числом девять, сплошь покрыты топкими плавнями, заросшими непролазным очеретом. В плавнях берём мы и лес, и сено, и рыбу, и зверя, и воск, и мёд. А самая знатная плавня – Великий Луг! Начинается она на Левобережье, как раз против острова Хортица177, и тянется вниз вёрст на сто, до самого Микитина Рога178. А той птицы в плавнях – Боже Великий! Как поднимутся с земли – солнце застилают. А раков?! а рыбы?! Да у вас и в помине нет таковой рыбы! Та рыба, что у вас, то так, сор против нашей!
– Ну и брехун же ты, Панас, – звонко, будто пригоршню серебра по каменному полу рассыпал, рассмеялся панич.
– Ей-бо! Истинный крест, не брешу! – забожился Чгун. – На Домоткани179 я раков ловил… просто штанами! А на Орели180 я в одну тоню181 вытаскивал по две тысячи рыб, так что на весь курень хватало! А мёду?! У нас больше всёго меда от дикой пчелы, она везде сидит, и на вербах, и на очерете. Мы их прямо дуплами вырубаем. Бывает, медведи, добравшись до мёда, околевают, обожравшись. А того зверя?! Сила! Волки, лисицы, барсуки, дикие козы – так и пластают по степи. А дикие свиньи?! Такие гладкие да здоровые, что шесть козаков насилу на сани поднимают! А степь?! – перегибаясь в седле, жарко дышал на поляка луком и табаком раздухарившийся Панас. – Вы, ляхи, степи настоящей сроду не видели! А вот ещё: есть дикие кони, они целыми табунами ходят по степи, так, что их на дальности расстояния можно принять за татарский чамбул. И упаси тебя боже натолкнуться на них, едучи на кобыле! Ежели который жеребец из табуна почует кобылу – побьет оглобли, поломает возы, а кобылу за собою непременно уведёт!
Ян, как всякий истый поляк, услышав о лошадях, тотчас оживился.
– А объездить дикого коня не пробовал?
– Пробовал, – Чгун безнадёжно махнул рукою с подвешенной на петле нагайкой, – Всё без толку. Дикого коня усмирить не можно, он либо убежит, либо сдохнет, – Панас рассмеялся. – Чисто запорожец! не может, скурвый сын, жить в неволе! И хотя жеребята их могут сделаться ручными, но, ни до какой работы не способны и, ни к чему не пригодны, разве только на убой.
– Панас, а какие на Сечи, к примеру, увеселения? – перебил Януш расходившегося запорожца. Видя, что тот не совсем понял его польскую речь, панич повторил: – Ну, забавы, какие?
– Забавы? – Чгун задумался и, наморщив необъятный лоб, прикрыл очи. Явственно привиделись ему морозная зима и скованный льдом Днепр…
…Идут последние дни Филипова Поста и на заметённую снегами Сечь отовсюду начинают стекаться ватаги запорожцев. Полупустые по зимней поре курени наполняются шумной братией. Всё оживает, везде встречи старых товарищей, всюду жаркие объятия, крепкие рукопожатья и хлопанья по крутым плечам. Но хмельных не сыщешь – пост. Отовсюду разноситься козацкая речь: «Навики Богу слава! Почеломкаемся182, пан Святы́й!», «Га!? Да ты ли цэ, пан Рога́чик?!», «Ей-бо, друже Васы́лько! а ведь я почитал, шо минувшего году, колы шарпалы183 Бешикташ184, утоп ты в море!».
Со всех зимовников и хуторов тянуться на Сечь санные обозы с разного рода припасами, и гонят целые гурты всякого скота, предназначенного для праздничного стола.
Над Сечью, пробудившейся от сонной одури зимней спячки, сотни дымов и рев забиваемой в предместье скотины.
И вот канун Рождества Христова! С вечера, присмиревшие и чинные козаки, принаряженные в самое чепурное убранство и при оружии, собираются вокруг сечевой церквы. Тесно стоят омноголюдевшие курени, и сквозь клубы выдыхаемого на крепком морозе пара мреют непокрытые, чубатые головы.
Как только завершается праздничная служба и из церквы с пением выходит сечевой клир и старши́на с почтенными стариками, все курени, развернув хоругви, присоединяются к крестному ходу. Несколько тысяч луженых глоток поют так сурово, гулко и стройно, что в предместье у торгашей-иноверцев замирают сердца, и мороз продирает по коже.
По завершению крестного хода, со всех четырёх окон церковной колокольни разом дают залп пушки, и козаки зачинают палить в воздух из всего, что ни есть под рукою.
А уж после этого, сечевики садятся за накрытые в куренях столы и вознаграждают себя за долгий пост так, что пот прошибает!
После праздничного застолья особо завзятые гуляки, сбившись в ватаги, в складчину нанимают в предместье возниц с санями и, повалившись кучами в шкуры, отправляются гулять на волость – в Канев, Переяслав, Чигирин, Черкассы.
До двух недель сечевики шумно бражничают, чудят и гуляют. Об той поре во всём христанском мире едва ли найдутся другие такие беззаботные головы, как козацкие! Напиваться тихо и уныло – не в запорожском заведении, и потому пыль в очи пускается такая, точно последний день на белом свете осталось прожить.
Появление запорожцев, окружённых лирниками, песенниками и целым хором музыкантов, пробуждает средневековые города от спячки обыденной жизни, и шинкари, предвкушая прибыток, обыкновенно загодя готовятся к этому событию. Шумные ватаги запорожцев в сопровождении толпы праздных зевак обходят все городские торжища, из козацкого молодечества и для потехи откупая всё, что попадается под руку. Бочки с горелкой и варенухой опорожняются одна за другою, и каждый приставший к процессии христианин может рассчитывать на дармовую выпивку…
– Панас! Я про забавы тебя спросил… – потерял терпение юноша.
– Забавы? – очнулся Чгун и огляделся вокруг невидящим взором. – Да какие, панич, на Сечи забавы? – с досадою пробасил козак. – Разве добыча зверя да рыбы? Ну, ещё молодые козаки затевает скачки об заклад, стрельбу по фигурам и рубку на тупых саблях. А сивочупринное, степенное рыцарство любит, лёжа на боку, курить тютюн, играть в кости да слушать лирников, а не то нанятый вскладчину хор церковных певчих. Да, вот ещё: в воскресные дни, после праздничной церковной службы, курени, затевают на майдане промеж себя многолюдный кулачный бой, в коем, ежели ты лантух185, то могут приколотить и до смерти…
Молодой поляк не нашёлся что сказать, услышав о таком сомнительном увеселении, и только удивлённо покрутил головою.
– Да наперёд говорю паничу, меня в кулачном бою на Сечи ещё никто не одолел! – тут Панас не без гордости показал Яну свой чудовищный кулак.
Здесь до Януша начало доходить, что простоватый с виду запорожец, которого он уже было записал в дурни, ничего полезного ему не поведал.
– Ты бы, Панас, рассказал о статутах186 принятых в Войске! – желая навести козака на нужную материю, сказал Ян с некоторой досадою.
– Так то паничу до Ша́мы надобно, бо вин у нас голова, и ему решать, шо́ паничу можно рассказать, – довольно усмехнулся Чгун.
Януш, мысленно посулив тугому запорожцу чёрта, пришпорил коня и, догнав Шама́я, едущего в челе, обратился к нему с тем же.
«Голова», которому молодой поляк глянулся, внимательно посмотрел на тонкую шею Яна с выпирающим кадыком, перегнулся в седле и достал из сумы пресную лепёшку, завёрнутый в чистую тряпицу изрядный шмат сала и вяленого леща размером с полено. Дух от сала с чесноком, смешанный с острым запахом солёной рыбы пошёл такой, что у поляка рот тотчас наполнился клейкой слюною.
Отхватив кинжалом добрый кус сала, Шама́й накрыл его лепёшкою, приложил рыбу, и без слов протянул всё это паничу.
Юноша, поблагодарив, поднёс было руку ко лбу, но вспомнив, что и креста католического уж нет на нём, смешался и сделал вид, что поправляет шапку.
Шама́й усмехнулся в ус и медленно заговорил, подбирая польские слова:
– Кош Низовой – суть Войско Божье Запорожское, в корене своём имеет козаков запорожских…
– А как вступают в козаки? – давясь и с трудом прожёвывая, спросил Януш.
– Вступить, панич, можно только в говно. В козаки не вступают, поступают на Сечь, в Войско. Козаком не можно сделаться, козаком надобно родиться, ибо козак – это кровь, племя то бишь, таковое же как, к примеру, лях либо литвин. Уразумел?
– А откуда вышли козаки запорожские?
– Откуда вышли? – Шама́й неожиданно расхохотался, так, что ехавшие сзади и тихо напевавшие песню запорожцы удивлённо замолчали. – Из тех же ворот, что и весь народ! Матерь от козака родила…
– А те козаки, что по всей украинной Руси, по всем южным воеводствам живут, с вами, с запорожцами, единокровны? – бубнил набитым ртом юноша.
– Мы одной матери дети… но… – Шама́й нахмурился, и тень набежала на его лик, – братья наши на волости, сделавшись оседлыми и начав кровь мешать с кем ни попади, из воинов переродились в земледельцев, скотоводов и торгашей, – Шама́й презрительно сплюнул. – Бабиться с жёнами, торговать, пахать землю и пасти свиней – не дело рыцарства. На Запорожье уважение зависит не от величины добра, а оттого, коим образом оно тебе досталось.
– А то правда, прошу пана, что на Сечи безбрачия придерживаются? – забрасывал вопросами Януш.
– То так, – подивился Шама́й неожиданному повороту мыслей панича.
– Отчего? Разве вы, мосьпане, чернецы?
– Сеч воюет, почитай, непрерывно. А война сватает только со смертию. Оттого, рыцарство запорожское, до холостой жизни страстное и по старожитному обычаю не признаёт брачных уз. Дабы совершенно выполнить долг козацкой жизни, надобно совсем отказаться от всех семейных обязательств, ибо по слову Апостола Павла сказано: «Не оженившийся печется о Господе, а оженившийся – о жене». От бабы и в раю человеку житья не было, а на Сечи ей и подавно делать нечего! Истый сечевик может обжениться, только когда с разрешения кошевого совсем оставит Сечь. Но это бывает весьма не часто, ибо до таковой поры мало который доживает. Те же несчастные, которые имеет жёнок, скрывают это, боясь насмешек, презрения и поражения в правах, ибо таковых, невзирая на заслуги, лишают голоса и изгоняют из Сечи.
– Весьма сурово! – поперхнулся Ян.
– А как панич себе думал?! – Шама́й протянул юноше пляшку с горилкой.
– Посвятивши себя единственно делу рыцарства, мы неохотно занимаемся чем-либо иным, кроме оружия, но, имея нужду в ремеслах, купле и продаже нужных вещей, рукодельях и искусствах разного рода мы дозволяем некоторым козакам обжениться и заниматься этим, но с тем, чтобы таковые, вместе с женами и детьми жили вне Сечи, на хуторах. Эти изгнанники составляют особенное, подданное сословие. Прозвище им – сидни, зимовчики либо гнездюки. Им дозволяется селиться в пределах Запорожья и заниматься скотоводством, ремёслами, хлебопашеством, промыслами и торговлей. Но их главная обязанность – кормить Сечь. Выставляют их и в бекеты и на кордоны, обязывают чинить на Сечи строения, но на войну призывают только в исключительных случаях. Но уж тогда, невзирая на семью и хозяйство, они обязаны тотчас явиться в Кош, с добротным военным снаряжением и, имея при себе всё необходимое для похода.
– А как же, милостливый пан, племя ваше не пресекается, коли вы женщин чураетесь? – подивился Ян возвращая наполовину опорожнённый сосуд.
– А кто мешает запорожцу дитя та́к прижить? – хмыкнул Шама́й. – На Руси бессчетно вдов и девиц, которые никогда уже не будут выданы замуж.
– Отчего? – не понял поляк, несколько осовело глядя на Шама́я.
– Оттого, что поруганные, порушенные во время войн и набегов. Хотя обычай и не дозволяет приводить на Сеч женщин…
– А я слыхал, что вы с набегов на Крым и Анатолию берёте женщин, – неожиданно перебил Шама́я Ян, которому крепкий козацкий сикер ударил в голову.
– Хм… – опешил Шама́й. – Бывает. Всё что добыто с боя, будь то оружие, конь или ясырь, ежели только он не нашей веры – всё дуваниться промеж товарищей честно. И уж коли досталась тебе полонянка, твоё дело, ка́к с нею поступить. Коли она знатного или богатого роду – можешь затребовать за неё окуп187, а нет, так убей либо продай или обменяй, а хочешь – так отпусти. И вмешиваться в это не в праве хотя бы и сам ясновельможный пан кошевой. Ежели удаётся довести полонянок до Запорожья, то их частью покупают жиды-перекупщики или знатные ляхи, а частью некоторые козаки без огласки селят по хуторам. Только я тебе, Януш, наперёд скажу, я этого не одобряю! Возня с бабами приобретению веса в среде честного рыцарства не способствует. Всякая баба, по моему разумению – ведьма…
Шама́й умолк, прислушиваясь, как звякают на зубах его коня удила.
– Так вот, хотя обычай и не дозволяет приводить на Сеч женщин, но не возбраняет всякими способами отовсюду привозить детей мужского пола. Вот потом их отцы и приводят, говоря обыкновенно: «От гляньте, браты, яких я вам соколив прывив188»! И никто не спрашивает, откуда у безжённого козака взялись «соколы». И не суть, которая баба выпустила их на божий свет, хотя бы и некрещёная татарка, ибо козацтво по батьке ведётся.
– Так на Сечи – всё сплошь козаки? – спросил Ян, обескураженно сдвинув шапку на затылок.
– Почти что так. Но не всякий сечевик – козак. Мы принимаем любого, которому бог дал силу и смелость. Промеж нас живут наши побратимы с Дону и даже имеют свой, собственный, Динский курень; прибегают во множестве реестровые и городовые козаки с Гетманщины, по той поре, когда ваш пан-лях им хвост прищемит. Ну и на́плыву189 народов и племён всяких бывает изрядно: семиградцев190, крещёных татар, литвин, ляхов, москалей, волошин191, франков192 и ещё бог знает кого! Но! человеку пришлому сделаться сечевым рыцарем так же просто, как бесу, – Шама́й, поворотившись лицом на восток, перекрестился, – войти в церкву в престольный праздник.