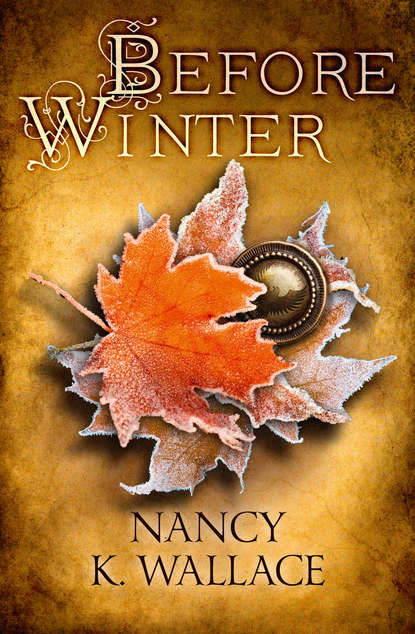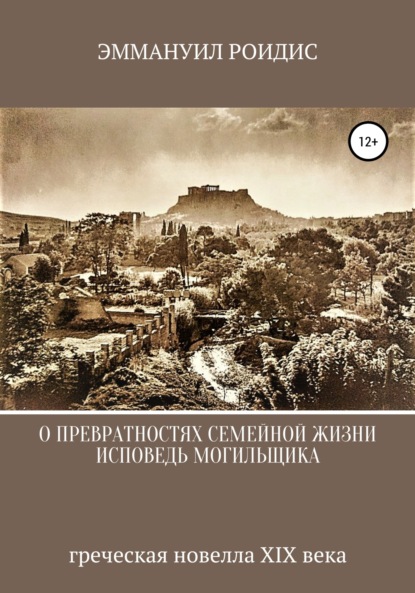- -
- 100%
- +
– Счастливчик… – искренне завидую Андрею, который сбегает из дома.
– Ты можешь сходить сегодня с мамой на пляж? Понимаешь, она же всё равно пойдёт плавать. Я боюсь, мало ли что…
– Схожу, конечно…
Вдооох-выыыдох. Представляю себя сидящей на корточках в углу террасы. А потом я пойду и покурю…
Анжела Львовна – очки на кончике носа – нависла над журнальным столиком. Там, под гнётом ваз и чайной чашки, распрямлялся макет презентации, над которым я засиделась чуть не до утра. Блииин, забыла убрать.
– Завтракать садись! Сырники ещё тёплые, – мама Андрея указывает пальцем с ярким маникюром в сторону стола. – А это что у тебя?
– Рабочие моменты… Ничего такого…
– Ты посмотри, Андрюша, что она делает. Она собирает импрессионистскую атрибутику и накрывает всё это сверху книгой Боттичелли. Ты понимаешь, она не может отличить эпоху Возрождения…
– Это ещё не финал! Мне просто была нужна книга, любая пока книга!
– Нет, Андрей, сколько волка ни корми… Вот что толку ты по всему миру её возишь? Столицы, музеи, достопримечательности, лучшие виды и лучшие гиды!
– Ну ма-а-ма! – Андрей дёргает обувную ложку, но та словно навек решила остаться между его взмокшей пяткой и тонкой кожей парадной туфли.
Мать направляется к нему. Словно под воздействием ударной волны, ложка выскакивает и бряцает о стену. Анжела Львовна забирает строптивый предмет, властно направляет сына в дверной проём, наружу, на крыльцо. Дверь хлопает за их спинами.
Ну уж нет! Провожать жениха – роль его будущей жены и нечего тут… Решительно толкаю дверь, выныриваю из-за спины чужой мамы. Тянусь к галстуку на нервно сглатывающей шее Андрея, поправляю, чмокаю в гладко выбритую, ароматную скулу: пусть всё пройдёт успешно.
– А виноград-то что-то болеет, Андрюша. Вызови садовника.
– Да, мам. Потом. Я поехал.
Мы стоим рядом на крыльце, плечо к плечу, две главные женщины одного мужчины. Впереди длинный летний день.
Потом, ожидая будущую свекровь, я заберусь на качели под широкой кроной старого ореха, чтобы чувствовать ладонями приятные покалывания грубой, лохматой верёвки из пеньки, поджав пальцы ног, отталкиваться краем вьетнамок от сухой проплешины земли, поднимая облачко серой пыли. Толстая ветка будет привычно жалобно поскрипывать в такт размеренному движению. Как в детстве.
Дедуля смастерил для меня эти качели. Давно, как же давно. Андрей выкупил участок после смерти моего папы. Так мы познакомились пять лет назад. Дом перебрали до фундамента, сделали пригодным для круглогодичного проживания, осовременили, надстроили третий этаж, огромный солярий… Мама Андрея ни разу не приехала в старый дом. Только в тот, что построил её сын. Одалживает своими приездами, но попробуй не позови… Внуков любит, занимается с ними самозабвенно, когда те приезжают. Чуткий, глубокий мир между ними. Пусть. А качели я не даю переделать – это моё место, мой уголок. И верёвка должна быть такой, колючей.
Синяя стрекоза с перламутровыми зеленоватыми крылышками зависает в воздухе на уровне моих колен. Раскачиваясь, я приближаюсь и удаляюсь, а стрекоза утюжит маленький пятачок пространства. Храбрая какая, будто ждёт чего. Тихонько вынимаю смартфон, включаю камеру, захватываю красивую картинку: изумрудная зелень мягкой, под покос, травы, алые пятнышки мелкого полевого мака, белые шарики спелых одуванчиков, синий металлический блеск тельца насекомого, солнечные сполохи слюдяных крылышек… Вдруг в окошке камеры появляется вторая стрекоза – кроваво-красная, матовая, с абсолютно прозрачным, невидимым крылом. Свидание? Секунд пять стрекозы кружат на одном месте и резко, друг за другом, не сокращая дистанции, уносятся в сторону обрыва. Не выпуская из объектива воздушных танцовщиц, спрыгиваю с качелей и иду следом.
Выбеленная временем и водой сучковатая палка слишком быстро проносится вдоль берега. Сегодня сильное обводное течение. Неширокой полосой, вырываясь из-за мыса, всегда холодный поток идёт вдоль нашего берега. Сильнее или слабее – зависит от дождей, волнения на воде, ветра, других каких-то сил… Андрей маму одну бы сегодня не пустил. Поплыл бы с ней. Они отличные пловцы. Оба. Я только и могу барахтаться на мелководье, нервически щупая ногами доступность дна. За мысом, в ста метрах, лодочная станция и дежурный спасательный катер. Моя миссия – дозвониться до них, если что. Если что?
– Что высматриваешь там? – раздаётся за спиной немилый голос Анжелы Львовны.
Вздрагиваю от неожиданности.
– Течение сегодня сильное. Может, не поплывёте?
– Вот что ты, что Андрюша – паникёры. А ведь он не был таким! Никогда таким раньше не был!
Будущая свекровь подбирает подол тяжёлого махрового халата и боком спускается по широким, специально под её шаг вымощенным ступеням.
– Может, я вперёд пойду? – суечусь, тянусь к сумке в руках Анжелы Львовны.
– Да не мельтеши ты. Сумку, правда, возьми. Надо было такое место выбрать? Кругом берег чистый, пологий. А тут ни детям, ни старикам… О чём думали только?
– Два метра всего. Прекрасно все справляются.
Тугим канатом скручивается застарелая ответная неприязнь. Вдох-выдох.
Крохотный пятачок персонального, чистейшего пляжа слепил глаза белоснежным песком и обжигал босые ступни. Я ступила и сразу привычно зарылась в прохладную глубину. Анжела Львовна поспешила к деревянному, серому, неподъёмному лежаку. Села, поджала ноги, требовательно протянула руку: сумку! Покопалась внутри. Надела маску, ласты, скинула халат – вперевалку поспешила к воде. Вступила без сомнений. Нырнула. Пошла отменным кролем. Смотрю с завистью. Ложусь на второй лежак, завожу руки за голову. Жмурю глаза до узеньких щёлочек, пока солнечные лучи не начинают мельтешить в гуще ресниц. Ровные шлепки по воде, тихий плеск мелкой волны. Тонкие перистые облака широкими, полупрозрачными мазками растянуты по яркой небесной сини.
– Лиза! Лиза!
И хаотичный, бессмысленный водяной шум.
Что – Лиза? Что – Лиза?
– Лиза, помоги! Помоги, Лизааа!
Кому «помоги»? Зачем «помоги»? Так хорошо, так спокойно, тепло. Свои все дома. Все живы. Мама режет колбасу и овощи на окрошку, папа опять разобрал карбюратор, разложил железяки на промасленной тряпке, высвистывает модную мелодию, совершенно счастливый… Вечером я надену новый сарафан в красный горох – тётка приезжает и привезёт старшего брата, двоюродного брата… Рождённая Венера Боттичелли в платье нюдового шёлка под сенью векового ореха, вся в подвижных пятнах солнца и тени, поверх кудрявых зелёных трав укладывает скатерть кипенной белизны и из недр плетёной корзины – один за другим, один за другим – вынимает румяные, бархатистые персики, подёрнутые патиной лиловые сливы, оранжевые продолговатые абрикосы… длинный, бесконечно длинный багет… Разворачивает большой пакет крафтовой бумаги, высвобождая упругие, сомкнутые, чуть вспотевшие влагой головки пионов цвета бедра испуганной нимфы…
– Лиза! Лиза! Противная ты девка!!!
Обедать? Нет, нет – мама никогда не бывает такой злой… Как удар в солнышко, ледяной водой по животу, по шее, в ухо. Я подскочила, захлопала глазами. Тяжело дыша, Анжела Львовна отжимает толстую ткань сплошного купальника. Прямо надо мной.
– Спишь? Или уже думала избавиться от бабушки?
– Я заснула, да, извините. А что случилось?
– Судорога, чёрт бы её побрал. Звала тебя, звала. Чуть в стремнину не утащило. Да у берега уже, выбралась, справилась. Не повезло тебе, спасительница.
– Да что вы такое говорите, Анжела Львовна?!
– Знаю я тебя. Это Андрею, дураку, можешь лапшу на уши вешать. А я тебя насквозь вижу!
– Да говорите, что хотите, – стряхиваю воду с волос, с одежды. Нет никакого желания что-то доказывать. – Пойдёмте домой?
– Иди. Я передохну тут немного. И не трогай на кухне ничего! Внуки завтра приезжают, я сама им приготовлю. Хоть нормальной еды детям…
– Ладно.
Встаю и, яростно вкручивая пятки в песок, ухожу.
Поднимаюсь по тёплым деревянным ступеням. Выдыхаю. Подбираю вьетнамки, пропускаю шёлковый травяной ковёр сквозь пальцы босых ступней – песчинки послушно осыпаются. Нагибаюсь над каменной оградой, смотрю вниз. Рот наполняется горькой, вязкой слюной. Песчано скрипит шаткий валун. Ровно под ним изголовье лежака…
«Избавиться от бабушки? Избавиться от бабушки?»
Вдооох-выыыдох. Это всё закончится. Уедет – брошу курить.
Верила, что брошу. Тогда так и не бросила. Потом уже, в своей одинокой квартирке, когда никто меня не ограничивал, я укуривалась до головокружения. В какой-то момент стала противна сама себе и перестала. Просто перестала – и больше никогда не захотела пропускать через себя вонючий дым. Прожили мы с Андреем почти семь лет. Почему не женились? Сначала – стройка, потом – защита научных степеней, потом – привычка. И вот я забеременела, откладывать дальше было некуда, да и приличия требовали – подали заявление в ЗАГС. Выкидыш на раннем сроке не был для меня трагедией масштабов конца света. Я будто не успела проникнуться материнством и не убивалась от горя, как от меня того ожидали. Анжела Львовна обвинила меня в жульничестве и попытке женить на себе её расчудесного мальчика. Андрей меня защищал, но как-то робко, чуть ли не извиняясь за мой дефект. В эти дни, не получая должной поддержки от человека, который должен был быть моим «всем», я и решила, что не хочу детей с этим вечным маменькиным сынком в постоянном поиске утешения и одобрения. А значит – не хочу ничего.
Впервые мы встретились, когда Андрей с Анжелой Львовной приехали смотреть наш загородный дом. После смерти папы мы с мамой были, как две испуганные птички, потерянные в своём горе, одиночестве и безденежье. Взрослый, состоятельный мужчина, проявивший ко мне повышенный интерес – Андрей старше на двенадцать лет, – показался спасением. Высокий, статный, светловолосый, он отдалённо напоминал мою первую, почти детскую, влюблённость, и я позволила себя спасти. Мама была счастлива: нас не разлучали с домом и дочь пристроена в надёжные руки. Смотри, как он внимателен и заботлив со своей мамой! Так же он будет относиться и к тебе. Сначала моей маме не нашлось места в отстроенном «дворце», а потом и я начала чувствовать себя лишней. Пышные приёмы для высокоинтеллектуального общества, на которых мне отводилась роль то ли прислуги, то ли безмозглой финтифлюшки: промолчишь – за умную сойдешь. Шумные встречи многочисленных родственников, где кто-нибудь каждый раз указывал на моё проходное место. Везде царила непревзойдённая Анжела Львовна. В общем, я не соответствовала и не прижилась. Или не захотела подстраиваться. Для установления своих порядков во мне не хватало воинственности. Я была слишком юна и неопытна. Расстались мы мирно и с явным облегчением. Сейчас у Андрея семья, ему уже под пятьдесят, он всё так же красив и всё так же слушается маму.
Я живу в квартире, которую тайком от Анжелы Львовны для меня купил Андрей. В его порядочности я не ошиблась. Моё заблуждение было только в том, что я решила, будто он может стать моим мужчиной и отцом моих детей.
Глава 5. Вибрация
Итак, мне тридцать семь. У меня есть хорошая, небольшая квартира в тихом центре, отлично оплачиваемая работа и истекающее «стрекозье время». Так мама называет мой возраст и образ жизни. Типа танцуй, моя прекрасная девочка, танцуй, но не пора ли уже остепениться, а то ведь можешь и не родить… Мама, мама. Я вовсе не героиня «Секса в большом городе» – все мои романы основательны, протяжённы во времени, оттого каждый печальный финал оставляет новый болезненный рубец и нарастающее недоверие к людям.
Мне всё чаще кажется, что в отношениях я бесталанна.
Сегодня подстригла и уложила волосы у своего мастера – очень экспрессивной девушки. После общения с ней я всегда немного эмоционально перегружена и потрясена.
Ой, два месяца была в депрессии, – выдает она, – и все мои прекрасные жизненные обстоятельства (однушка в Подмосковье) и неотложные обязательства (тройняшки дошкольного возраста) никак не пробуждали во мне охоту жить. Ага, вот так! И спасла меня только… – фен замолкает, она смотрит на меня своими большими блестящими глазами, – неутомимая любовь к самым первичным человеческим потребностям: сексу и еде.
Ух ты! – думаю, – ничего ж себе, как можно, оказывается, называть вещи своими именами! И ни разочку не подумать, как тебе это вернут. Смело. Я тоже так хочу. И, в свою очередь, рассказываю, что мне кажется, будто я – хрустальный бокал в буфете, который вибрирует каждый раз, когда по улице перед домом проходит трамвай.
На одной из центральных улиц перед Оперным театром стоял большой четырёхэтажный каменный дом, построенный своевременно раскулаченным купцом N. Новые власти устроили в торговой галерее склад, а над ним – Городской совет. Потом уже образовались центральная аптека и коммуналки. Затем первые кооператоры всё выкупили, организовали первый частный гастроном и шикарные квартиры. Новое время вымело шикарных граждан в новые дома, а супермаркеты обосновались на каждом углу. И вот перед Оперным театром нарядными витринами засияли Ювелирный магазин и Салон музыкальных инструментов. В квартирах с высокими потолками поселились обычные, хорошие люди.
Под самой крышей, в квартирке с мансардными окнами, посреди бабушкиной мебели, жил музыкальный человечек. В его буфете с посудой на коричневой деревянной полке стоял последний уцелевший резного хрусталя бокал…
Экспрессивная девушка смотрит на меня выразительно и говорит:
– Я знаю одного Волшебника. Он творит чудеса – задаёт вопрос, потом касается тебя – и жизнь сразу начинает играть новыми красками…
– Что вас беспокоит? – спросит меня Волшебник.
– Меня беспокоит хрустальный бокал, – отвечу я…
…Мансардные окна пропускали и множили самые ценные, самые редкие и самые яркие потоки света. Хрустальный бокал почти каждый день купался в лучах солнца; блики, пущенные резным узором – суматошные, хаотичные, разноцветные, – плясали по стенам, полу, потолку, по всем предметам обстановки, прорезая огненными стрелами неторопливый танец невесомой пыли.
Волны полнолуния накатывали ритмично и протяженно, посылая холодные, серебристые струи, играя на резных гранях бокала. Музыка, рождённая голубым ответным мерцанием, разливалась по комнате, проникала во все уголки, проникала в уши спящего музыканта.
Пронзительный металлический визг первого утреннего трамвая, сворачивающего за угол дома, разбивал спящий город на тысячи суетливых осколков. Музыкальный человечек подпрыгивал в своей постели, садился и, всё ещё во власти сна, продолжал слушать незнакомую волшебную мелодию. В задумчивости вставал, варил кофе, разливал в две толстостенные глиняные чашки и спускался вниз. Там на узком дерматиновом топчане бессонно грустил пожилой сторож. За кружку ароматного, горячего кофею, за человеческую компанию и душевное тепло одинокий старик пускал музыканта к самому лучшему в городе роялю – и до появления первого служащего магазина успевала родиться новая песня.
Жизнь хрустального бокала была наполнена прекрасными, упоительными моментами игры и творчества. Размеренное и предсказуемое существование обещало долгое и волшебное будущее. Да только городские трамваи катили свои железные вагоны по чугунным рельсам прямо перед домом, делали на пересечении улиц лихой разворот, дребезжали болтами на стыках и визжали ободами колёс. Механический такт ловил хрупкое, беспомощное хрустальное тело и заставлял его трепетать и вибрировать в своих беспощадных объятиях. Изо дня в день. Из часа в час…
…Волшебник скажет:
– Это вам, милочка, к другому специалисту, к другому.
И не станет касаться волшебным касанием – ведь у него свой хрустальный бокал, и хоть он упакован в «пупырку», а всё равно может заразиться чужой вибрацией.
– Я вам лишь посоветую цветотерапию. Езжайте к синему-синему морю.
Хм, думаю я, в сказке, что ли, живем? И сама себе отвечаю: я же не из тех, кто не получает того, что хочет. Я из тех, кто получает. Я могу достать своё самое синее на свете пальто, бросить его на диван и смотреть на него хоть весь день, а могу купить «горящую путевку» – и правда рвануть к морю…
…И однажды придёт к нашему музыканту большой и громкий человек.
Такой важности человек, что музыкальный человечек враз занервничает, засуетится: куда посадить, что подать дорогому гостю? И вынет из буфета самый красивый свой бокал, и подаст в нём визитёру напиток.
Не с предложением, не с просьбой явится гость. Дурные намерения, нечестные помыслы. И откажет музыкант, и укажет: подите, пожалуйста, вон!
Важный человек рассвирепеет, схватит бокал и швырнёт его прямо в окно.
Тяжёлое хрустальное ядро сквозь клинья оконного стекла вылетит прямо в небо и взорвётся в воздухе от накопленного внутреннего напряжения. Мириадами ослепительных звёзд вспыхнет хрустальное облако и опустится на землю бриллиантовой пылью.
В этот момент у ног стройного молодого человека чёрный, с палевыми бровками, френч Лила понюхает красный кленовый листок. Облако коснётся треугольников ушек, осядет хрустальной короной.
– Лила, Лила, ты куда это опять влезла?
Лила задерёт мордочку, чихнёт – и серебристая пыльца растает в воздухе…
Стилист выслушает меня безропотно, лишь брови её ни разу не опустятся из-под чёлки короткой стрижки. Будто я немного «мадам ку-ку». Ничего, дорогая, ты тоже меня изрядно удивила своей откровенностью. Не решаюсь спросить: какого именно «волшебника» она имела в виду. Зато мастер всецело поддержит идею ехать к морю и поинтересуется, есть ли у меня фотографии собачки. А у меня есть. Лила живет в соседней квартире, и мы часто с ней пересекаемся. Милейшее существо.
Ничто не мешает мне сорваться и улететь на неделю. С кем? Все семейные и «детные», только начался учебный год. С мамой? Ну нет. Одной?! Я никогда не ездила отдыхать одна. Это может быть занимательный опыт. Представляю загадочную, манящую, воздушную девичью фигурку в пенной кромке прибоя – ветер треплет лёгкое платье, длинные распущенные волосы… Кто-то смотрит на неё, надвигается из-за спины, тянет руку, окликает. Девушка пугается и делает шаг к глубине… Мне становится неуютно и тревожно. Не хочу одна. И можно не к морю.
Это было двадцать лет назад, в первых числах сентября. Нас с Ней не взяли в «колхоз». Не подходящие, сказали, и должен же кто-то готовить корпус к занятиям! Пришлось смириться. А как мы уговаривали, убеждали! Шучу. Я пришла на отработку к назначенному часу, и меня отправили ждать прочих «негодящих» в коридоре первого этажа экономического корпуса. Сидела на подоконнике, скучала, думала о своём. И они пришли, «негодящие». Их было несколько девочек, но сохранённая памятью картинка отображает только Её. Она надвигалась – грудью вперёд, задрав подбородок, погромыхивая оцинкованным ведром, расхлябанной походкой, вперив в меня взгляд Царицыокраин. Лара Крофт отдыхает.
– Ты – Елизавета?
– Ну, я, – ответила я и покачала ногой, демонстрируя полную независимость.
– Тогда нам вместе отмывать стены в коридоре. Меня зовут Вета.
– Ты тоже – Елизавета? – я пристальнее посмотрела на возможную тёзку.
– Нет. Вета. У меня так в паспорте записано.
Девушка явно гордилась своим неординарным именем.
– Необычное имя, красивое. Я – просто Лиза.
– Ладно, Лиза.
Она открыто и прямо смотрела мне в глаза, протягивая руку для пожатия. Это было первое в моей жизни представление с рукопожатием. Я спрыгнула с подоконника и сжала её прохладную ладонь: Лиза. Вета! – откликнулась она. (Мы были предназначены друг для друга изначально. С «высоты прожитых лет» это стало очевидным.)
– А у меня волосы звенят, когда я трясу головой. Послушай!
(Точно не помню, когда Вета сообщила мне о суперспособности своих волос, но пусть это произойдёт именно тогда.)
Я послушала.
– Точно, звенят! – тоже помотала головой. – А у меня не звенят.
Она звонко рассмеялась, и мы отправились в туалет набирать воду. Ничто так не объединяет, как совместный труд и признание выдающихся качеств другого. Потом мы сидели на батарее в коридоре, и она сказала:
– Так курить хочу!
– Ты куришь?!
У меня до сих пор не было курящих подруг, я ещё раз впечатлилась.
– Ага. Только сигарет нет. Надо стрельнуть, но я стесняюсь.
Лара Крофт стесняется?! «Круче меня только яйца», решила я, делая шаг навстречу сбегающему по лестнице человеку…
Я позвонила Вете, и уже следующим вечером мы выехали на её небольшом внедорожнике в Суздаль. Хотелось посмотреть на осень. В Москву она пришла пожухлым бежевым скучным листом, будто кто-то изорвал в клочья плащ паркового маньяка. Ехать по новой трассе было одним большим удовольствием. Свежий асфальт гладко стелился под колёса машины, мелькали берёзы, оголяющиеся без прелюдии, не желтея, а мы орали песни Земфиры. Ни у неё, ни у меня нет голоса, мы обе чувствительны к чужой фальши, но друг другу прощаем всё, хохоча и дурачась. Счастье в такой, казалось бы, ерунде – безоглядно быть собой. Мы были любовными зеркалами друг друга, никогда не «я знаю про тебя», всегда – «я вижу тебя», и смех, и солнце в глазах. Вспоминали, как суровой зимой ехали к ней домой в далёкий провинциальный городок: наш автобус застрял в рытвинах посреди поля. Мои ноги уже даже не болели от холода. Я оглядела салон, забитый нахохленными, укутанными людьми и, вздёрнутая инстинктом самосохранения, вскричала: «Что ж вы (гой еси), здоровые крепкие люди, сидите мёрзнете – нас так много, что ж, не вытолкнем мы автобус?!» Мы его вытолкнули, не успев и до трёх сосчитать, а я так старалась, что упала чуть ли не под колеса. До сих пор смешно. А потом её маленькая мама Зоя удивила меня «каравашками» с расплавленными карамельками в шариках пушистого теста и баней «по-чёрному».
В Суздаль приехали глубокой ночью. Воздух был тих, пронзительно влажен и душист – пахло печным дымком и яблоками. Заселились в маленький отель с купеческим антуражем. Не разбирая вещей, упали в сон. Проснулись в осень. Небо опустилось, хвостики тумана забились в овражки. Поют птицы, лает собака, звонарь разминается. Перед окном – заброшенный сад соседнего участка, весь в зарослях малины и сорняков, под деревьями – стол для большой дружной семьи, которая где-то, не здесь; длинная столешница потемнела и провисла. Поблёскивают маковки церкви. Воздух промозглый. На душе тоска. Такая поэтическая безнадежность. Откуда бы, и с чего? Это память тех времен, когда я не умела выбирать свои чувства. Теперь умею – и выбираю капельку осознанной грусти. Неотъемлемый флёр маленького места, где некуда спешить, где всё идёт своим чередом.
После завтрака распогодилось, стало по-летнему тепло. Милый, уютный городок горит кострами дикого винограда и мягким золотом берёз. Колокольный звон нежен и деликатен – церквей слишком много – никто не пытается солировать. Мы гуляем по улицам с миниатюрными нарядными домиками в пышных садах – желтобокие яблоки в густой листве веток висят прямо над головами прохожих. Магия медленной мелкой речушки в зарослях камыша. Чумазые мальчишки, земляные тропки, склоны, покрытые лопухом. На каждом углу продают яблоки, груши, варенья, соленья. К вечеру чуть гаснет солнце, воздух густеет запахами и комарьём. Здесь всё ещё звенят комары… Мы надышались, нагулялись – засыпаем мгновенно. Посреди ночи просыпаются петухи – их так много, они так спешат наораться до колокольных перезвонов.
– Куку-у! – хрипит долгожитель курятника.
– Куку-ри! – отвечает середнячок.
– Куку-ри-ку-у! – заливается совсем молоденький петушок.
Начинают они почти одновременно, потом голоса рассыпаются, позднее переходят в перекличку. Постепенно паузы становятся длиннее. И вот, кажется, всё. Будто вся вода из крана откапала, и можно снова спокойно заснуть. Но нет, хриплая зараза продолжает самоутверждаться, выдавливает своё обрезанное «куку» снова и снова, безо всякого ритма.
Хватит – я закрываю окно. А Вета спит, хоть бы хны.
Весь следующий день мы снова гуляем. Куда ни выйдешь – попадаешь на петлю реки Каменка. Решаем прокатиться на ладье. Речушка почти без течения: расширена, приподнята для судоходства двумя насыпными дамбами. Вода чистая, берега в камыше, кувшинках и лилиях. На воде все приветливо машут встречным лодкам. Мальчишки сигают с мостков. Невозмутимый бобёр раздвигает широкой спиной спокойную воду. Потом мы слушаем церковный хор в монастырском храме. На памятной табличке – цитата Тонино Гуэрры: «Именно здесь, в Суздале, я открыл для себя, что густую русскую грусть можно резать ножом». Начинается лёгкий дождик – прячемся в синекупольном Кремле. Полной дугой встаёт радуга под тучным, мягкой синевы небом. Благолепно, колокольно, песнопенно, одухотворенно, размеренно. Если всё это и есть грусть, то – пусть.