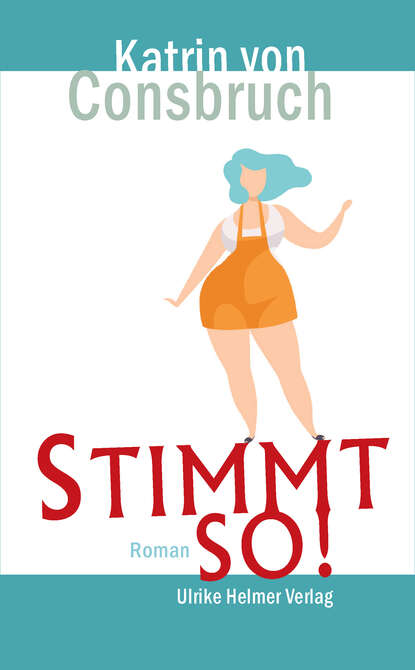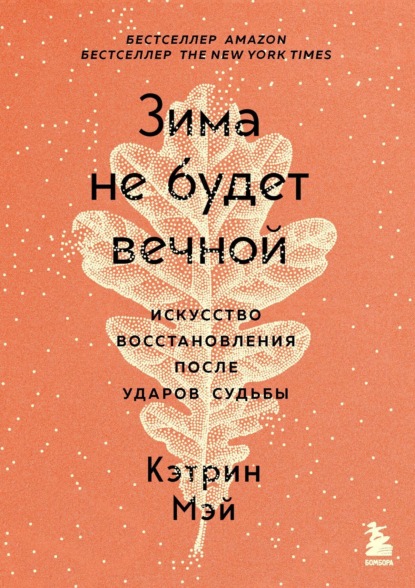Когда Молчат Князья. Закон Топора

- -
- 100%
- +
Он хохотал, размахивая руками, и этот дикий, безумный хохот был страшнее любого рыка. Это был хохот человека, который падает в бездну и пытается увлечь за собой весь мир.
Дружинники, подбадриваемые его безумием и предвкушением новой "потехи", с криками и гиканьем бросились выполнять приказ.
Гридница снова наполнилась шумом. Шум, крики, пьяный смех. Все, что угодно, лишь бы не тишина. Волх тяжело опустился на свое место. На мгновение его взгляд упал на струйку крови на ноге девушки. Он смотрел на нее, и в его пьяных глазах не было ни похоти, ни сострадания. Только черная, бездонная пустота. Он был зверем, который пожирал сам себя изнутри. И ему постоянно требовалось свежее мясо, чтобы заглушить вкус собственной гнили.
Глава 5: Огонь и вилы
Ближе к полуночи рев в гриднице начал стихать, сменяясь тяжелым, сытым сопением и пьяным бормотанием. Несколько дружинников уже спали, уронив головы прямо на липкие девичьи тела. Мед был выпит, мясо съедено, потеха прискучила. Страх, который боярин Волх так отчаянно пытался заглушить шумом, снова начал подкрадываться к нему, холодный и трезвый. В тишине его пьяный разум начинал работать, подсовывая ему образы – холодные глаза черниговского наместника, презрительную усмешку соседа Тугара, невидимую, но ощутимую ненависть его собственных смердов.
Он не мог этого вынести. Он ударил тяжелым кулаком по столу. Одна из девок-подносов вскрикнула от боли. "Еще! – взревел он, и его голос сорвался в поросячий визг. – Веселья! Крови!"
Его воевода Мстивой, седой, одноглазый наемник, чье лицо было испещрено шрамами, как карта дорог, поднял голову. "Вся округа выпита, княже, – прохрипел он. – Всех девок, кого можно было взять без боя, уже взяли".
"Без боя? – глаза Волха налились кровью. – Кто смеет отказывать мне? Кто?!"
"Да эти… вересовские, – лениво протянул Глеб, прихлебывая остатки меда из рога. – Их староста давеча сказал, мол, последнюю дань отдали, и девок на игрища не дадут, ибо не по-божески".
Слово "отказали" ударило Волха как плеть. Оно было хуже любого оскорбления. Это было посягательство на его власть, на сам его мир, в котором его воля должна быть законом. Отказали. Ему.
"Не по-божески?!" – он вскочил, опрокинув кресло. Пьяная тяжесть вмиг слетела с него, уступив место бешеной, деятельной ярости. – "Я им покажу, что по-божески! Мстивой! Поднять людей! Коней! Едем в Вересово! Научим их богов бояться!"
Дружина, оживившись при запахе свежей крови и легкой добычи, загалдела, начала подниматься, искать брошенное по углам оружие. Сборы были короткими и пьяными. Через полчаса два десятка всадников, шатаясь в седлах и горланя песни, выехали за ворота острога, унося с собой запах перегара и предвкушение насилия.
**
Аленка проснулась оттого, что залаял их старый пес Трезор. Он не просто лаял – он выл, тонко и жалобно, как по покойнику. Мать, спавшая рядом на лавке, тоже заворочалась. "Угомонись, дурной", – сонно пробормотала она. Но Трезор не унимался. А потом издалека донесся шум. Пьяные крики и конский топот.
Отец, спавший у печи, вскочил. Он подбежал к оконцу, выглянул. "Лихо", – коротко бросил он. И в этом одном слове было все: страх, отчаяние и приговор.
Деревня просыпалась в панике. Вересово было маленьким, всего десяток дворов, и упрямым. Староста их, Мирон, был мужик гордый. "Хватит кланяться, – говорил он. – Мы люди, а не скот".
Сейчас эта гордость должна была стоить им жизни. Мужики выбегали из изб. Не с мечами – мечей у них не было. С топорами, вилами, косами. Отец Аленки схватил тяжелый рогач, которым вынимал из печи горшки.
"Аленка! Мать! В погреб! Живо!" – крикнул он, и его голос дрогнул. – "И сидите там, не дышите".
Мать схватила ее за руку, потащила во двор, к темному квадрату лаза в земле. Аленка, сонная, ничего не понимая, упиралась. Последнее, что она увидела, прежде чем мать столкнула ее вниз по скользким ступеням, был отец, стоящий у ворот своего двора с рогачом в руках, и рядом – староста Мирон с охотничьим копьем. Их было семеро против двадцати.
Лязг и грохот тяжелой крышки погреба отрезали ее от мира. Они с матерью остались в холодной, пахнущей землей и квашеной капустой темноте. Сверху доносились крики, конское ржание, звук ударов. Потом – женский визг, от которого у Аленки заледенела кровь. Мать зажала ей рот рукой, и сама закусила свою ладонь, чтобы не закричать.
Бой был коротким. Против конных, в броне, пусть и пьяных, у мужиков с вилами не было ни шанса. Старосту Мирона проткнули копьем насквозь. Отца Аленки один из дружинников с хохотом сшиб с ног конем, а другой развалил ему череп ударом топора.
Через щели в крышке погреба Аленка видела мечущиеся отблески. Пахло дымом. Жгли. Потом один из отблесков остановился прямо над ними. Заскрежетал засов, и кто-то попытался поднять крышку.
"Тут еще один лаз, – прозвучал сверху пьяный голос. – А ну, поглядим, какая мышка спряталась".
Крышка поддалась. В проеме появилось бородатое, потное лицо дружинника. Он ухмыльнулся, увидев внизу две пары перепуганных глаз. "О, да тут две! Молодая и… постарше. Ничего, и на квашеную капустку найдется любитель".
Он начал спускаться. Мать Аленки сделала то, чего он не ожидал. Она оттолкнула дочь за бочку с соленьями, а сама схватила с полки тяжелый глиняный горшок с маслом и со всего размаху шарахнула его о голову спускавшегося воина. Раздался глухой звук, воин охнул и, потеряв равновесие, тяжело рухнул на земляной пол.
Но наверху были другие. "Ты чего там, Стрига?" – крикнул второй голос. Не дождавшись ответа, второй дружинник спрыгнул вниз. Он увидел своего товарища, лежащего на полу, и женщину с осколком горшка в руке.
"Ах ты, с**а!" – взревел он и ударил.
Аленка сидела за бочкой, зажмурившись и зажав уши. Она не видела, но слышала хруст, глухой удар и короткий, прервавшийся вздох матери. Когда она осмелилась открыть глаза, второй дружинник уже поднимался наверх, вытирая меч о штаны. Тело ее матери лежало у лестницы.
Погреб снова погрузился во мрак. Аленка сидела, не шевелясь. Она не плакала. Слез не было. Внутри было только звенящее, ледяное ничего. Сверху доносился треск горящего дома, пьяный хохот и крики. Кричали их соседка Дарья, потом закричала молодая жена старосты. Потом крики стихли.
Она не знала, сколько просидела там, в темноте, рядом с телом матери и раненым дружинником, который тихо стонал. Может быть, час. Может быть, вечность. Потом наверху все стихло. Слышался только рев огня. Пьяная стая, насытившись и разрушив все, уехала.
Когда отблески пламени наверху стали слабее, она выбралась наружу. Ее дома больше не было. Был огромный, дымящийся костер. Вся деревня была одним костром. Между догорающими срубами лежали тела. Ее отец. Староста Мирон. Другие мужики. Их всех убили. А где-то в углях дотлевали те, кого они не смогли защитить.
Аленка стояла посреди этого пепелища, маленькая девочка в одной ночной рубахе, босая на горячей земле. И смотрела в сторону леса. Туда, куда, как она знала, вела тропа к деревне Полынная. И в ее детских глазах, отражавших отсветы пожара, не было слез. Было только то, что страшнее любой ярости. Пустота.
Глава 6: Дым на горизонте
Дым они заметили задолго до рассвета. Это был не дым из трубы – ровный, сизый, который поднимается к небесам мирным столбом. Этот был другой. Он валил с северо-востока, со стороны Вересово, рваными черными клубами, пачкая низкое, предрассветное небо. Ветер, ленивый и сырой, тянул его прямо на их деревню. Скоро в воздухе появился и запах – едкий, горький, ни с чем не сравнимый запах горящего дома, горящего сена и чего-то еще, чего-то неуловимо-сладковатого и тошнотворного, о чем не хотелось думать.
Первыми его заметили старики, вышедшие до ветру. Потом – бабы, затопившие печи. Вскоре вся деревня была на ногах. Люди стояли у своих изб, кутались в тулупы, хотя дело было не в холоде, и молча смотрели на черный столб на горизонте. Никто не задавал вопросов. Все и так всё понимали.
Ратибор стоял на крыльце своей избы, рядом с Богданом. Он смотрел на дым, и тот самый гвоздь, что сидел у него внутри, провернулся с новой, острой болью. Три дня назад они писали жалобу. Верили. Надеялись. А вот он, ответ. Написанный не чернилами на бересте, а огнем на теле целой деревни. Ответ был прост и понятен: вы – никто. Ваша жизнь – ничто.
Он вспомнил старосту вересовского, Мирона. Крепкий, упрямый мужик. "Хватит кланяться". Ну что, хватило?
Богдан рядом с ним дрожал. Не от холода. От злости и страха, смешавшихся в один тугой, горький комок.
"Это они, брат, – прошептал он. – Псы. Это они сделали".
Ратибор не ответил. Он молча смотрел на дым. В его глазах отражались далекие, невидимые отсюда отблески пожара. Он не чувствовал ни ярости, ни страха. Он чувствовал, как внутри него что-то умирает. Что-то, что позволяло ему до сих пор терпеть. Надежда? Вера в порядок? Нет, что-то более простое. Ощущение, что всему есть предел. Теперь он понял: предела нет.
**
Весть пришла с первым светом, вместе с живым ее воплощением. Из леса, шатаясь, вышла девочка. Босая, в одной обгоревшей и разорванной рубахе. Ее лицо и руки были в саже, светлые волосы спутались и пахли гарью. Это была Аленка, младшая дочь вересовского пахаря. Ее глаза были огромными, сухими и абсолютно пустыми. Она не плакала. Она шла, спотыкаясь, прямо через всю деревню, ни на кого не глядя.
Женщины ахнули, бросились к ней. Ее закутали в тулуп, повели в избу старосты Данилы. Она не говорила. Она просто сидела на лавке, раскачиваясь взад-вперед, и смотрела в одну точку. Через час ее начало трясти, и она заговорила. Рассказывала она обрывками, захлебываясь, и от ее слов у суровых, привыкших ко всему мужиков седели виски. Она рассказала про пьяный рев, про отца с рогачом, про погреб, про то, как убили ее мать. Про крики соседки Дарьи. Про то, как потом горели дома. И про то, как она шла через лес, а за спиной все еще слышала, как трещат бревна.
Когда она закончила, в избе старосты повисла такая тишина, что было слышно, как гудит в ушах. Мужики смотрели друг на друга, в пол, на свои мозолистые, бесполезные руки. Каждый из них думал об одном и том же.
Это могло быть их село. Это мог быть их дом, который сейчас догорает. Их жена, лежащая в погребе. Их дочь.
Наружу они вышли другими. За эти несколько часов, пока они слушали рассказ Аленки, они постарели на десять лет. В их глазах умер страх. Страх – удел тех, кому есть что терять. Они только что поняли: терять им больше нечего. Осталась только жизнь, которая, как оказалось, ничего не стоила.
Началась паника. Но паника не шумная, а тихая, деловитая. Кто-то бросился прятать остатки зерна, закапывая его в лесу. Кто-то начал собирать узелки с самым необходимым. Несколько семей, самые трусливые, просто запрягли своих тощих лошаденок, погрузили на телегу детей и скарб, и, ни с кем не прощаясь, уехали на юг, в никуда.
Староста Данила стоял посреди улицы, растерянный, сломленный. Вся его вера в княжью правду, в жалобы и челобитные, превратилась в пепел и дым там, на горизонте. Он пытался что-то говорить, успокаивать, но его никто не слушал.
Ратибор вошел в свою избу. Велеслава сидела на лавке, прижимая к себе Аленку, которую привели к ним – в доме старосты было слишком много людей. Жена баюкала девочку, что-то тихо ей напевая, хотя та, казалось, ничего не слышала.
"Они придут сюда", – сказала Велеслава, не глядя на мужа. Это был не вопрос.
"Придут", – подтвердил Ратибор.
Он подошел к сундуку. Отодвинул старые тулупы. На самом дне, завернутый в промасленную тряпицу, лежал его старый боевой меч. Неказистый, с простой рукоятью, но из хорошей стали. Подарок воеводы еще с того, греческого похода. Он не брал его в руки с тех пор, как вернулся. Он думал, что никогда больше не возьмет.
Он вытащил меч. Медленно провел пальцем по холодному лезвию. Оно все еще было острым.
Богдан, вошедший в избу, замер на пороге, увидев меч в руках брата.
"Что… что ты будешь делать?" – спросил он.
Ратибор посмотрел на брата, потом на жену, потом на маленькую девочку с пустыми глазами. Он посмотрел на свою жизнь. На поле, которое он пахал. На дом, который он построил. На унижение, которое он терпел.
Терпение кончилось. Оно выгорело дотла, как деревня Вересово. Осталась только холодная, твердая, как сталь этого меча, решимость.
"Хватит прятаться. Хватит ждать", – сказал он. И в голосе его не было ни страха, ни гнева. Только спокойная, окончательная ясность. – "Мы уходим. Но уходим не для того, чтобы бежать. А для того, чтобы вернуться".
Глава 7: Исход
Вечером того же дня Ратибор обошел несколько дворов. Не все. Он шел только к тем, в ком чувствовал не страх, а затаенную ярость. К кузнецу Остапу, чьи плечи, казалось, стали еще шире от горя и гнева. К трем братьям-охотникам, молчаливым и угрюмым, жившим на отшибе. К тем нескольким мужикам, кто в свое время, как и он, хлебнул походной жизни и знал, с какого конца браться за оружие.
Разговоры были короткими, почти без слов. Он не убеждал и не призывал. Он просто ставил перед фактом.
"Ночью я ухожу в лес. Моя семья идет со мной", – говорил он, глядя прямо в глаза. И ждал.
Некоторые отводили взгляд, качали головой. "А хозяйство? А дом? Как же все бросить?" – бормотали они. Ратибор молча поворачивался и уходил. Он не спорил. Тот, кто цеплялся за теплый хлев, когда волк уже ломал забор, был обречен.
Но были и другие. Остап, выслушав его, лишь крепче сжал кулак размером с голову ребенка. "Моя Милада с нами", – коротко бросил он. – "Кузницу жаль… да хрен с ней. Новую наладим. А вот честь новую не выкуешь".
Братья-охотники, выслушав, переглянулись. Старший, хмурый бородач по имени Лют, кивнул. "Лес – наш дом. Давно пора было".
К ночи, когда деревня, измученная страхом, наконец забылась тяжелым сном, у околицы, в тени старого вяза, собралось с десяток семей. Около тридцати человек. Мужчины, женщины, дети. На них были лучшие, самые крепкие одежды. За спиной – узелки с едой, солью, огнивом и тем немногим, что можно было унести. Мужики были вооружены. Кто топором, кто охотничьим ножом, кто простой дубиной. Это было все, что у них было, кроме собственной ярости.
Прощание Ратибора со своим домом было безмолвным.
Он вошел в избу в последний раз. Велеслава уже вывела Богдана и закутанную в тулуп Аленку на улицу. В избе было темно, лишь угли в печи отбрасывали слабый красный отсвет. Пахло домом: дымом, сушеными травами, хлебом, его женой. Этот запах он знал с детства. Он был самой сутью его жизни.
Он медленно провел рукой по теплой еще печи, по бревенчатой, шершавой стене. Здесь он родился. Здесь умер его отец. Здесь он привел свою молодую жену. Каждый сучок, каждая трещинка в бревнах были ему знакомы, как линии на собственной ладони. Этот дом был его корнями, его крепостью, его миром. И он сейчас добровольно вырывал эти корни из земли.
На поясе у него висел меч. Тяжелый, холодный, чужой в этом мирном, домашнем полумраке.
"Дом – это четыре стены. А жизнь одна". Он повторил про себя эти слова, но сейчас они звучали фальшиво. Дом был не просто стенами. Это была память. Это была сама жизнь. И он бросал ее. Ради чего? Ради смутной надежды на то, что можно будет построить новый? Или просто ради того, чтобы умереть не как овца в хлеву, а как волк в лесу? Он не знал. Знал только, что остаться – невозможно.
Снаружи ждали. Он глубоко вдохнул родной запах в последний раз. И вышел, плотно притворив за собой дверь. Не обернулся.
Они двинулись в путь под покровом темноты, бесшумной процессией теней. Шли не по дороге, а краем леса, по звериным тропам, которые знали охотники. Ратибор шел впереди, прокладывая путь. Он чувствовал за спиной дыхание своих людей, чувствовал их страх, их надежду, их невысказанные вопросы. Он сам вызвался быть вожаком. Теперь их жизни были на нем.
Они взошли на небольшой холм, откуда открывался вид на деревню. Маленькая, спящая, беззащитная. Отсюда она казалась такой родной и жал-кой. Казалось, протяни руку – и коснешься крыши своей избы. Кто-то из женщин всхлипнул. Один из стариков перекрестился на темные силуэты домов.
Ратибор тоже остановился на мгновение. Он смотрел на свой дом, на свою деревню, на свою прошлую жизнь. Чувство горечи было таким сильным, что перехватило дыхание. Это было похоже на ампутацию. Отсекали живую, кровоточащую часть тебя. И он знал, что эта рана никогда не заживет.
Богдан подошел и встал рядом. Он тоже смотрел на деревню.
"Мы вернемся, брат?" – спросил он тихо.
Ратибор оторвал взгляд от темных срубов и посмотрел вперед, в непроглядную, враждебную черноту леса. Лес ждал. Он мог дать им убежище. Он мог стать их могилой. Это был их единственный путь.
"Да", – твердо сказал Ратибор. И эта твердость была обращена не столько к брату, сколько к самому себе. Ему нужна была вера. Хоть какая-то. – "Обязательно вернемся. Но это будем уже не мы. И деревня будет другой".
Он повернулся спиной к своему прошлому и шагнул во тьму. За ним, как за последней надеждой, двинулись остальные. Исход начался.
Глава 8: Первый круг у холодного огня
К рассвету они были уже далеко в глубине леса. Шли всю ночь без остановок, подгоняемые страхом. Когда серая полоса на востоке наконец окрасила небо в цвет больного, остывшего железа, Ратибор дал команду остановиться. Он выбрал место в густом ельнике, в низине, у ручья с ржавой, торфяной водой. Место сырое, неуютное, но скрытое от чужих глаз.
Люди валились с ног. Они бросали свои узелки прямо на мокрый мох, садились, прислоняясь к стволам деревьев, и застывали в тяжелом, бездумном оцепенении. Женщины пытались успокоить плачущих детей. Мужчины молча смотрели в одну точку, их лица были серыми от усталости и бессонной ночи. Первый порыв отчаянной решимости схлынул, оставив после себя пустоту и липкий страх перед неизвестностью.
Это был не отряд. Это был табор погорельцев.
Огонь развели с трудом. Дрова отсырели и не хотели заниматься. Раздували по очереди, кашляя от едкого, чадящего дыма. Наконец, слабое, чахлое пламя заплясало на куче мокрых веток. Оно почти не давало тепла, лишь отгоняло мрак и обозначало центр их маленького, растерянного мира. Этот первый, холодный огонь стал их первым кругом.
Люди сбились вокруг него, протягивая к слабому пламени озябшие руки. Ратибор видел, как они кучковались – семья к семье, двор ко двору. Его люди, из деревни Полынная, держались вместе. Охотники – чуть поодаль, сами по себе. Кузнец Остап с семьей – тоже отдельно. А еще были чужаки.
За ночь к ним прибились другие. Выжившие из Вересово, прятавшиеся по лесам, вышли на дымок их костра. А чуть позже подошла еще одна группа – несколько семей из соседнего поселка Заречье, которых привел кряжистый, немолодой мужик с широкой седой бородой и спокойными, внимательными глазами. Это был Вепрь, их староста. Он тоже понял, что ждать больше нечего.
И когда все расселись, когда женщины разделили припасенный хлеб и вяленое мясо, и люди начали жевать, молча, жадно, начался первый разговор. И этот разговор сразу показал, что единства среди них нет и не будет.
"Что дальше?" – спросил Вепрь, обращаясь ко всем, но глядя на Ратибора. В его голосе не было вызова, только трезвый, хозяйский вопрос. – "Мы ушли. Хорошо. Спрятались. Что теперь? Зима на носу. Нам нужно место, нужно пропитание. Детей кормить надо".
Ратибор молчал, давая высказаться другим. Он хотел понять, кто есть кто в этом сброде.
"Надо мстить!" – раздался резкий, скрипучий голос.
Все повернулись. Говорил один из вересовских. Молодой парень, которого Ратибор раньше не знал. Он был худ, высок, и его лицо было похоже на обтянутый кожей череп. Но страшнее всего были глаза – они горели сухим, лихорадочным огнем на дне темных впадин. Звали его Горислав. У него в ту ночь, во время резни, боярин Волх лично, на потеху дружине, сжег на костре молодую жену. Горислав выжил чудом, спрятавшись в камышах.
"Какое пропитание? Какая зима?" – продолжал он, и его голос дрожал от ненависти. – "Они вырезали наших жен, наших детей! Они сожгли наши дома! Мы должны ответить. Мы должны резать их! Каждого! Его псов, его прихлебателей, его самого! Пускать им кровь, жечь их острог, как они жгли наши дома! Кровь за кровь!"
Несколько мужиков из Вересово согласно зашумели. Кузнец Остап, услышав его, тяжело поднял голову, и в его глазах блеснуло одобрение. Жажда мести была простой и понятной. Она согревала лучше любого огня.
Но тут снова заговорил Вепрь. Спокойно, рассудительно, словно остужая их пыл своей сединой.
"Месть – это хорошо. Это правильно. Но месть – это для сытых и сильных. А мы – голые и голодные. У них – кони, мечи и стены. А у нас что? Два десятка топоров да злость? Полезешь со злостью на меч – останешься без головы. И дети твои с голоду помрут. Нет. Горислав неправ".
Он обвел всех тяжелым взглядом. "Нам сейчас одно дело – выжить. Схорониться. Уйти глубже в леса, в болота, куда их конница не дойдет. Построить землянки, поставить силки, набить зверя, пока снег не лег. Пережить зиму. А уж по весне… по весне видно будет".
"Прятаться, как крысы?!" – взвился Горислав. – "Ждать, пока они нас по одному переловят?"
"Жить", – твердо ответил Вепрь. – "Крыса, что сидит в норе, живет дольше волка, что лезет на рожон".
И его тоже поддержали. В основном те, у кого были маленькие дети. Мужики из его Заречья. Матери, прижимавшие к себе сонных малышей. Им была понятна его правда. Правда выживания.
Два полюса. Две правды. Месть или жизнь.
И все взгляды обратились к Ратибору. Он привел сюда большинство. Он начал этот исход. Теперь ему предстояло решить, куда он их поведет. В безнадежный бой или в глухое выживание.
Ратибор поднял голову. Он смотрел то на пылающие глаза Горислава, то на спокойное, разумное лицо Вепря. И он понимал их обоих. В нем самом жили оба этих человека: воин, жаждущий отмщения, и пахарь, желающий сберечь своих.
"Вы оба правы", – сказал он наконец, и от его тихого, уверенного голоса споры стихли. – "И оба неправы".
Он посмотрел на Горислава. "Месть – это то, что не дает нам превратиться в скот. Это наша последняя гордость. Мы будем мстить. Но мстить будет не толпа отчаявшихся смердов. Мстить будут воины".
Потом он повернулся к Вепрю. "А чтобы стать воинами, нам нужно выжить. Нам нужно есть, нужно спать в тепле, нужно учиться. Твоя правда, Вепрь, – это корень. Правда Горислава – это ветви. Но у дерева должно быть и то, и другое, иначе оно засохнет или его свалит первый же ветер".
Он встал. Он больше не был одним из них. В этот момент он стал их вождем.
"Мы сделаем и то, и другое. Сначала – найдем место. Построим лагерь. Наладим охоту. Укрепимся. Как сказал Вепрь. А потом, – он перевел взгляд на Горислава, и глаза его потемнели, – мы начнем учиться. Учиться быть волками. Я научу вас. И мы начнем нашу охоту. Не наскоком, не на рожон. А тихо. Больно. Так, чтобы боярин Волх взвыл от страха в своем тереме. Мы будем его ночным кошмаром. Мы станем для него лесом, который ожил и пришел за его душой".
Он замолчал. В его словах была и логика Вепря, и ярость Горислава. Он объединил их, дал им общую, пусть и далекую, цель. Мужики смотрели на него. Кто-то с надеждой, кто-то с сомнением. Но никто не возразил.
Первый круг у холодного огня закончился. У них появился план. И появился вожак. Но Ратибор знал, что это лишь начало. Спор был не окончен. Он просто ушел внутрь, затаился. И теперь в его маленьком, разрозненном отряде было три силы: жажда мести, воля к выживанию, и он сам, пытающийся удержать их вместе на пути, который, скорее всего, приведет их всех к гибели.
Глава 9: Закон стаи
Эйфория от принятого решения и обретения цели продержалась недолго. К полудню, когда скудный завтрак давно переварился, а холодная сырость снова пробрала всех до костей, наружу полезла человеческая природа. Усталость, голод и страх – плохие советчики.
Первый конфликт вспыхнул из-за пустяка, как и все самые страшные ссоры. Один из вересовских мужиков, угрюмый здоровяк по имени Рогдай, поймал в ручье двух жирных рыбин. Вместо того, чтобы нести их к общему костру, он развел свой собственный, маленький дымный костерок в стороне, и, насадив рыбу на палки, начал жарить ее для себя и своей семьи.
Запах жареной рыбы, дразнящий, восхитительный, пополз по лагерю. Его учуяли голодные дети и начали хныкать. Его учуяли мужики, жевавшие черствые корки. И этот запах стал искрой.
К Рогдаю подошел один из людей Вепря, тощий и жилистый мужик. "Слышь, Рогдай. Дети плачут. Дай хоть кусочек для малых".
Рогдай оскалился, блеснув крупными желтыми зубами. Он был одним из тех, кто громче всех кричал о мести, но месть для него была лишь оправданием собственной злобы.