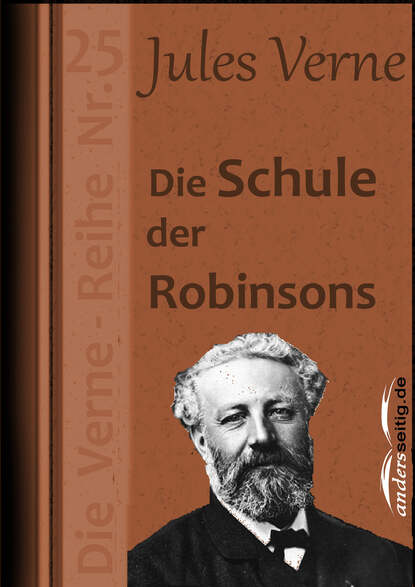Молот и плеть. Где кончается Русь

- -
- 100%
- +

Глава 1: Ритм Молота
Песня кузницы была единственной, что имела смысл.
Она начиналась с низкого, утробного гула мехов, вдыхающих и выдыхающих воздух, словно спящий лесной бог. Затем вплетался голодный треск древесного угля в горне, пожирающего жар, чтобы выплюнуть его обратно столпом дрожащего марева. И над всем этим, задавая ритм самому дню, царил он – звук молота. Не просто удары. Нет. Это был пульс мира, каким его видел и создавал Ратибор.
Бум. Глухой, тяжелый удар по раскаленной добела полосе железа, осаживающий металл, делающий его плотнее, послушнее. Тоннн. Звонкий отскок от наковальни, эхо, которое заставляло вибрировать воздух в полутемном срубе. Шшшшш… Шипение, когда он окунал заготовку в дубовую кадку с водой, и клубы пара взмывали к закопченным балкам потолка, неся с собой запах мокрого камня и обожженного железа.
Ратибор стоял перед горном, и казалось, сама кузница была продолжением его тела. Огонь плясал в его серых, как грозовое небо, глазах. Жар не причинял ему неудобств, лишь заставлял капли пота обильно стекать по широкой груди и рельефным мышцам спины, чертя блестящие дорожки на коже, покрытой тонким слоем сажи. На нем были лишь свободные порты из грубого льна, подпоясанные кожаным ремнем, да фартук из толстой бычьей шкуры, защищавший его от летящих искр.
Его тело было картой его ремесла. Широченные плечи и мощные руки, способные согнуть подкову, были покрыты сетью вздувшихся от напряжения вен. Каждый мускул на его торсе и спине был очерчен так четко, будто его вырезал из камня искусный ваятель. Длинные, выгоревшие на солнце русые волосы были стянуты на затылке кожаным шнурком, но несколько влажных прядей все равно прилипли ко лбу и вискам. Он был молод, едва ли разменял третий десяток, но в его облике была зрелая, первобытная сила, которая одновременно пугала и гипнотически притягивала взгляды. Особенно женские.
Он работал над лемехом для нового плуга старосты. Заказ был простой, но Ратибор не умел делать просто. Он вкладывал в каждый изгиб, в каждое уплотнение металла часть своей души. Для него это было не просто железо. Это был хаос, которому он давал форму и цель. Огонь делал металл мягким, покорным, обнажал его суть. А молот превращал эту суть в нечто полезное, прочное, вечное.
С людьми все было иначе. Они были куда сложнее раскаленного железа. Их слова были мягкими, но за ними часто скрывалась пустота или яд. Их взгляды обещали жар, но этот жар не созидал, а лишь сжигал дотла, оставляя после себя холодную золу разочарования. Ратибор чувствовал эти взгляды на себе каждый день. Когда шел к реке умыться, когда нес в дом дрова. Он видел их в глазах деревенских девок – любопытные, голодные, оценивающие. Они смотрели на его руки, плечи, на то, как движутся мышцы под кожей, и в их глазах он видел тот же огонь, что и в горне. Но этот огонь он не мог контролировать. А то, что он не мог контролировать, он презирал.
Поэтому весь свой пар, всю свою ярость и страсть, которые кипели в его молодой крови, он выпускал здесь, в кузнице. Каждый удар молота был невысказанным словом, каждое шипение остывающего металла – подавленным вздохом.
Скрипнула дверь, впуская в кузницу полосу яркого дневного света и свежий запах скошенной травы. На пороге стоял его отец, Борислав. Мужчина уже в летах, но все еще кряжистый, с такой же широкой костью, как и у сына, только время и жизнь сгладили его углы, покрыли лицо морщинами и присыпали бороду сединой.
– Опять говоришь с железом больше, чем с людьми, сын? – голос у Борислава был низкий, с хрипотцой. Он вошел и присел на старую колоду у стены, с кряхтением распрямляя больную спину.
Ратибор, не отрываясь от работы, вытащил клещами лемех из огня, положил его на наковальню и нанес еще несколько точных, выверенных ударов. Искры разлетелись веером.
– Железо честнее, отче, – наконец ответил он, и его голос, глубокий и рокочущий, казалось, был частью кузнечной песни. – Оно не лжет. Если в нем есть изъян – оно сломается. Если ты приложил мало силы – оно не согнется. С ним все понятно.
Борислав покачал головой и достал из-за пояса простую деревянную трубку.
– Понятно… – протянул он, набивая ее сухим пахучим табаком. – Понятно – это хорошо. Только жизнь, Ратибор, она не из одного железа состоит. Она еще из мяса и крови. Из тепла женского тела зимней ночью. Из крика первенца, который будет носить твое имя.
Ратибор опустил лемех в воду. Кузницу наполнил густой пар. Он повернулся к отцу. Его обнаженный по пояс торс блестел от пота в свете горна, и на мгновение он показался отцу языческим божеством огня, сошедшим со своего капища.
– Тепло женского тела… – Ратибор усмехнулся, но в усмешке не было веселья, лишь горечь. – Их тепло, отче, как лесной пожар. Сегодня он греет, а завтра от твоего дома останутся одни угли. Ты сам учил меня: хороший клинок должен пройти закалку. Огонь и вода. Жар и холод. А их тепло – оно без закалки, оно просто плавит, превращает твердое в жидкое, а потом оставляет остывать в кривой форме.
Борислав раскурил трубку, выпустив облако сизого дыма. Он смотрел на сына с любовью и тревогой.
– Ты говоришь так, будто уже обжегся сто раз. А ведь ни к одной даже близко не подошел. Зоряна-то, старосты дочь, глянь, какая стала. Яркая, как маков цвет. Бедра – хоть сейчас на них дитя качай. Как ты мимо проходишь, она взглядом на тебе рубаху прожигает. Милава, дочь бортника, похитрее будет, но и она глаз с тебя не сводит, смотрит, как кошка на сметану. А Лада… та совсем еще дитя, но в глазах у нее такая тоска по тебе, что волки в лесу воют. Неужто ни одна не по сердцу? Неужто кровь в тебе не играет? Я в твои годы уже тебя на руках нянчил.
Ратибор взял со стола тряпку и медленно вытер лицо и грудь.
– Кровь играет, отче. Еще как играет, – тихо сказал он. – Потому и стою здесь с рассвета до заката. Всю игру сюда, в молот, вкладываю. Потому что вижу я их насквозь. Зоряне нужен самый сильный жеребец в деревне, чтобы все подруги обзавидовались. Милаве – крепкий хозяин, чтобы отцовское добро приумножить. Ладе… Лада, может, и смотрит искренне, но она смотрит не на меня, а на мечту, которую сама себе придумала. Им всем что-то нужно от меня. Моя сила, мое ремесло, мое имя. Но никто из них не хочет заглянуть вот сюда, – он ткнул большим пальцем себе в грудь. – Никто не хочет понять, почему я лучше поговорю с наковальней, чем с ними. Они хотят сломать меня, переделать под себя. А я, отче, не сыродутное железо, чтобы меня любая баба под свой ухват гнула.
Наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием углей. Борислав долго смотрел на сына, и в его взгляде была и гордость за его твердость, и отцовская печаль.
– Ты слишком много думаешь, Ратибор, – наконец сказал он. – Иногда надо не думать, а чувствовать. Ты боишься не того, что они тебя сломают. Ты боишься того, что одна из них окажется сильнее твоего железа. Что найдется такая, что заставит тебя забыть про молот и горн. Ты боишься потерять себя. Но, сын, может, иногда, чтобы найти себя, нужно сначала в ком-то потеряться?
Ратибор ничего не ответил. Он снова взял в руки клещи и вернулся к горну. Для него этот разговор был окончен. Слова отца, как вода на раскаленный металл, лишь на мгновение охладили поверхность, но внутри по-прежнему бушевал огонь.
Борислав посидел еще немного, докурил трубку и, тяжело вздохнув, поднялся и вышел.
Оставшись один, Ратибор со всей силы ударил молотом по готовому лемеху. Звук получился оглушительным, яростным. Он бил снова и снова, вымещая непонятное раздражение, которое оставил после себя разговор с отцом.
«Потеряться…» – стучало у него в висках в такт ударам. Он знал, что это такое. Он терял себя каждый раз, когда брал в руки раскаленный металл. Он сливался с огнем, с железом, с ритмом. Но это была честная потеря. Это было созидание. А потеряться в женщине… это было похоже на падение в бездонный омут.
Он закончил работу, когда солнце уже начало клониться к закату. Идеально откованный, острый лемех лежал на каменном полу, остывая. Ратибор провел по нему мозолистой ладонью. Гладкий, прочный, совершенный. Вот то, что было ему понятно. То, что имело смысл.
Он вышел из кузницы на свежий воздух. И тут же почувствовал на себе знакомый взгляд. У калитки их двора стояла Зоряна. Она сделала вид, что просто проходила мимо, но он-то знал – ждала. На ней был яркий сарафан, подчеркивающий высокую грудь и крутые бедра. Распущенные волосы горели золотом в закатных лучах. Она улыбнулась ему медленной, томной улыбкой.
Ратибор кивнул ей – ни холодно, ни тепло, просто знак вежливости – и пошел к дому. Он слышал, как она вздохнула ему в спину. Он чувствовал ее обжигающий взгляд на своей потной спине. И единственным его желанием было вернуться обратно, в спасительную тишину и понятный ритм своей кузницы. В мир, где самым страстным признанием был удар молота, а самой нежной лаской – покорность раскаленной стали.
Глава 2: Зоряна
Зной сгустился в кузнице до плотности горячего меда. Ратибор закончил с лемехом и теперь выпрямлял зубья на старой бороне, монотонно и яростно отбивая каждый изгиб. Эта работа не требовала того полета души, что нужна была для клинка или узора, и оттого была ему сейчас сподручнее. Она позволяла освободить голову, отдать тело чистому, животному труду. Пот лил с него ручьями, и казалось, вместе с соленой влагой из него выходит и раздражение после отцовских слов, и тяжесть одиночества, которую он сам на себя взвалил, как лучший доспех.
В проеме двери, вырезая черный силуэт на фоне ослепительно-желтого дня, появилась она.
Зоряна.
На мгновение, пока глаза привыкали к свету, он видел лишь очертания. Высокая, статная фигура, где каждый изгиб был обещанием. Обещанием плодородия, как у Матери Сырой Земли. Обещанием жаркой ночи, как у пламени в его горне. Затем свет сдался, и она шагнула внутрь, принеся с собой запах полевых цветов, парного молока и чего-то еще – неуловимо-пряного, чисто женского, от чего у него на мгновение перехватило дыхание.
Она была воистину самым ярким цветком в их деревне. Не нежным, что клонится от ветра, а гордым, упругим, тянущимся к самому солнцу. Ее волосы, густые и тяжелые, цвета спелой пшеницы под полуденным светом, были небрежно заплетены в толстую косу, что змеей лежала на плече, но множество золотых прядей выбились на свободу и ореолом обрамляли ее лицо. Лицо, которое могло бы свести с ума любого мужчину. Высокие скулы, чуть вздернутый нос, полный, четко очерченный рот, словно созданный для поцелуев и дерзких слов. И глаза. Цвета летнего неба в ясный день, синие, глубокие, и в этой синеве плясали бесстыжие, уверенные искорки.
На ней был простой льняной сарафан василькового цвета, без вышивки, но он облегал ее налитое, сильное тело так, что любая богато расшитая одежда показалась бы безвкусной тряпкой. Высокая, полная грудь натягивала ткань до предела, и при каждом ее движении было видно, как под льном ходят упругие холмы. Тонкая талия резко переходила в крутые, широкие бедра – бедра женщины, рожденной, чтобы рожать сильных сыновей. Она стояла босая, и ее ноги, сильные и стройные, были покрыты легкой пылью.
В руках она держала запотевший глиняный кувшин.
– Я смотрела, как ты работаешь, – ее голос был низким, с легкой хрипотцой, бархатным, он проникал под кожу и заставлял вибрировать что-то глубоко внутри. – Сам, как твой горн, горишь. Подумала, что у тебя в горле, должно быть, пересохло. Принесла тебе холодного квасу.
Она говорила это так просто, будто заботилась о младшем брате, но во взгляде ее не было ничего сестринского. Он был тяжелым, оценивающим, почти осязаемым. Он скользнул по его обнаженному торсу, задержался на рельефных мышцах живота, прошелся по мощным рукам. Ратибор чувствовал этот взгляд как прикосновение.
Он молча отложил молот, звук удара которого, казалось, все еще дрожал в воздухе, и подошел к ней. Взял тряпку, вытер руки от сажи, хотя знал, что это бесполезно – копоть въелась в его кожу навсегда.
– Спасибо, Зоряна, – сказал он ровно, стараясь, чтобы его голос не выдал того смятения, что поднялось в его груди. Он протянул руку к кувшину.
И тут она сделала свой ход. Вместо того чтобы просто отдать кувшин, она подала его вперед так, чтобы их пальцы встретились. Его грубые, обожженные, покрытые мозолями и черной пылью пальцы коснулись ее – гладких, теплых, с аккуратными, чистыми ногтями. Он ощутил ее кожу как разряд.
Но она не отпустила. Ее пальцы, вместо того чтобы разжаться, скользнули по его руке, задержались на запястье на долю секунды дольше, чем позволяли приличия. Это было легкое, почти невесомое движение, но для Ратибора оно было громче удара молота. Он резко отдернул руку, словно обжегся, крепко сжав холодную глину кувшина.
Зоряна усмехнулась, одними уголками губ. Она видела его реакцию. Она знала, что достигла цели.
– Что с тобой, кузнец? – ее голос стал еще ниже, интимнее. – Боишься прикосновения? Или только раскаленный металл тебе не страшен?
Он поднес кувшин к губам и сделал несколько больших, жадных глотков. Холодный, кисловатый напиток обжег горло, привел мысли в порядок. Он пил долго, давая себе время, чтобы совладать с собой.
– Спасибо. Квас хороший, – сказал он, опуская кувшин и вытирая губы тыльной стороной ладони. Он намеренно не ответил на ее вопрос-укол.
– Я знаю, что хороший. Матушка моя на травах его ставит, чтобы силу мужскую крепил, – она сделала шаг ближе. Теперь запах ее тела стал еще отчетливее. Ратибор чувствовал, что задыхается, будто она вытеснила из кузницы весь воздух. – Гляжу я на тебя, Ратибор, и думаю… Столько в тебе силы, столько огня. Хватит на десятерых. Неужели ты хочешь всю ее в железо вложить? Оно же холодное, мертвое. Оно не обнимет тебя ночью, не согреет.
Она говорила медленно, обволакивая его словами, как паутиной.
– Этот огонь, Зоряна, он чистый, – ответил он, ставя кувшин на край наковальни. Он заставлял себя смотреть ей прямо в глаза, принимая ее вызов. – Он создает, а не сжигает попусту. Этот лемех будет пахать землю, и земля даст урожай. Этот топор нарубит дров, и дрова согреют дом. Этот меч защитит от врага. У моего огня есть цель. А какой прок от того огня, о котором ты говоришь? Он лишь вспыхнет на миг и оставит после себя золу и сожаление.
Зоряна рассмеялась. Негромко, но раскатисто, от души.
– Ты такой смешной, Ратибор. Ты рассуждаешь об огне, стоя по пояс в его пламени. Рассуждаешь о жизни, запершись в этой темной конуре. Разве жизнь – это только цель и прок? А где же радость? Радость просто от того, что ты живешь, что ты сильный, молодой? Что кровь твоя горячая? – она снова шагнула вперед. Теперь их разделяло не больше локтя. – Твоя сила… она дана тебе богами не для того, чтобы ты в одиночестве ее в землю зарывал. Сила должна порождать силу. Огонь должен зажигать другой огонь.
Она протянула руку и, прежде чем он успел отстраниться, коснулась его груди. Ее ладонь была прохладной на его разгоряченной коже. Он замер, как олень, увидевший охотника.
– Посмотри на себя, – прошептала она, ее пальцы медленно скользили по рельефу его мышц. – Ты как бог. Как сам Сварог у своей небесной кузни. Неужели ты думаешь, что такая красота и мощь должны пропадать даром? Мужчина неполноценен без женщины, как и женщина без мужчины. Это как замок и ключ, как земля и семя. Ты куешь замки, Ратибор. Но ты боишься ключа, который может тебя отпереть.
Ее слова были ядом и медом одновременно. Он чувствовал, как слабеют его колени, как туманится разум. Ее запах, ее голос, ее прикосновение – все это было мощным заклятием. Он видел перед собой не просто деревенскую девку. Он видел первобытную силу, равную его собственной. И эта сила звала его, манила, обещала сдаться и одновременно поглотить без остатка.
Он перехватил ее запястье. Его хватка была железной, но он старался не причинить ей боли.
– Мой замок крепок, Зоряна. И я сам выковал его таким, чтобы ни один ключ не подошел, – его голос был хриплым. – Я знаю, чего ты хочешь. Ты видишь во мне дикого зверя, которого хочешь приручить и показывать потом подругам. Но я не конь, чтобы меня запрягали, и не медведь, чтобы водить на цепи для потехи.
В ее глазах не было ни обиды, ни страха. Лишь азарт.
– А может, я не приручить хочу? – промурлыкала она, не пытаясь вырваться. – Может, я хочу выпустить зверя на волю? Побегать с ним по лесу наперегонки. Ты прав, кузнец, я хочу тебя. Так же, как ты, я уверена, хочешь меня, просто боишься в этом признаться даже себе. Я хочу твою силу, твой гнев, твою страсть. Я хочу взять все это и вернуть тебе вдвойне.
Он разжал пальцы.
– Уходи, Зоряна.
Она отступила на шаг, и на ее губах играла все та же уверенная, всезнающая улыбка. Она победила в этом поединке, и они оба это знали. Она разбудила в нем то, что он так старательно усыплял ударами молота.
– Хорошо. Я уйду. На сегодня, – она повернулась и пошла к выходу, ее бедра качались в такт шагам, приковывая взгляд. Уже в дверях она обернулась. – Думай, кузнец. Думай о том, что мертвое железо никогда не ответит на твою ласку.
И она ушла, оставив после себя в душной кузнице звенящую тишину, аромат своего тела и раскаленный след от своего прикосновения на его коже, который жег сильнее любой искры из горна. Ратибор стоял не двигаясь, тяжело дыша. А потом схватил молот и со всей дури обрушил его на наковальню.
БУМ!
Но на этот раз звук не принес облегчения. Он лишь вторил бешеному стуку его собственного сердца.
Глава 3: Пустой разговор
Прошло два дня. Два дня, в течение которых Ратибор пытался выковать из своей памяти образ Зоряны, выжечь его из мыслей так же, как он выжигал примеси из рудного железа. Он работал с остервенением, почти не выходя из кузницы, доводя свое тело до полного изнеможения в надежде, что усталость убьет желание. Но образ возвращался. В пляшущих языках пламени ему мерещился блеск ее золотых волос. В шипении остывающего металла он слышал ее шепот. И жар от горна казался прохладным по сравнению с тем огнем, что оставило на его коже ее мимолетное прикосновение.
Он как раз вытягивал изящный завиток на навершии ритуального ножа, который заказал ему волхв для грядущего праздника. Эта работа требовала не столько силы, сколько точности и чувства. Металл под его молотом изгибался, становился податливым, почти живым. В эти мгновения Ратибор чувствовал себя творцом, способным придать хаосу форму, подчинить стихию своей воле. И в этом он находил покой.
– Опять творишь красоту, которую никто, кроме старого волхва, не оценит?
Ее голос за его спиной прозвучал так неожиданно, что он едва не промахнулся молотом. Он не услышал, как она вошла. Она двигалась, как рысь – бесшумно и грациозно. Он не обернулся. Продолжил наносить легкие, точные удары, концентрируясь на узоре.
Зоряна обошла наковальню и встала напротив, прислонившись бедром к краю дубовой кадки с водой. На этот раз на ней был сарафан из неотбеленного льна, перехваченный на талии плетеным красным поясом. Простая одежда, но она лишь подчеркивала ее природную стать. Она смотрела на его работу, но он чувствовал, что ее взгляд на самом деле направлен на него.
– Он словно живой в твоих руках, – сказала она, нарушая тишину. Ее голос был тихим, задумчивым. – Я видела, как другие мужики работают. Стучат, как дятлы по сухому дереву. Грубо, без души. А у тебя… железо словно слушается тебя, само хочет стать таким, каким ты его видишь. В тебе магия, Ратибор.
Он окунул раскаленный кончик ножа в масло. Комнату наполнил густой, терпкий запах.
– Это не магия. Это ремесло, – ответил он сухо, не глядя на нее. Его пальцы крепко сжимали рукоять молота.
Её слова – как летний пух, – подумал он про себя. – Легкие, пустые, лезут в глаза и в нос, мешают дышать и работать. Она думает, что лесть – это тот ключ, что откроет любую дверь? Глупая.
– Ремесло – это когда ты делаешь плуг или скобу, – не сдавалась она, игнорируя его холодность. – А это… это песня, застывшая в металле. Ты вкладываешь в него всего себя. Всю свою силу. Я вижу это. Вижу, как ходят мышцы на твоей спине, когда ты заносишь молот. Каждая жила наливается, как тетива у лука перед выстрелом. Вся деревня это видит. Мужики завидуют, а бабы… – она сделала паузу, ее голос стал ниже, – …бабы вздыхают.
Он снова положил заготовку в горн, раздувая огонь мехами. Гудение наполнило кузницу, давая ему повод не отвечать. Он сосредоточился на пламени, на том, как металл начинает наливаться сначала багровым, а потом почти белым светом. Он пытался уйти в свою работу, построить вокруг себя стену из звуков, жара и концентрации. Но ее присутствие было слишком ощутимым. Она стояла рядом, и он чувствовал ее тепло, ее дыхание, ее запах.
– Для чего тебе такая сила, Ратибор? – продолжила она, и ее вопрос прорвался сквозь его защиту. – Ты ведь сильнее всех. Отец говорит, ты один можешь поднять на плечо бычка-двухлетку. Зачем она тебе? Чтобы ковать ножи для волхва и подковы для чужих кобыл?
– Сила нужна, чтобы делать свою работу хорошо, – ответил он, вынимая нож. Металл светился. Бум… то-ннн… бум… то-ннн. Он работал быстро, точно, вкладывая в удары сдерживаемую ярость.
– Работу… – она горько усмехнулась. – Другие мужики своей силой хвастаются на праздниках. Бревна кидают, друг с другом борются, чтобы девкам понравиться. А ты свою силу прячешь здесь, в темноте. Ты ее боишься? Или ты боишься того, на что она способна вне этой кузни? Что такое сила, если ее не с кем разделить? Если она не приносит радости ни тебе, ни другим? Она как вода в пересохшем колодце – есть, а толку нет.
Его рука дрогнула. Удар получился чуть сильнее, чем нужно, и на долю мгновения он нарушил идеальную линию завитка. Он мысленно проклял ее. Она мешала ему. Она проникала под кожу, отвлекала, заставляла его ошибаться в единственном мире, где он был безупречен.
Он с шипением опустил клинок в воду и наконец повернулся к ней. Его глаза, серые и холодные, как зимнее море, встретились с ее синими.
– Ты ничего не понимаешь в силе, Зоряна, – сказал он медленно, отчетливо выговаривая каждое слово. Его голос был низким, в нем вибрировал металл. – Сила, которой хвастаются, – это не сила, а слабость. Это крик о том, "посмотрите на меня, я чего-то стою". Сила, которую делят со всеми подряд, утекает сквозь пальцы, как вода. Настоящая сила – она внутри. Она для дела. Для того, чтобы созидать, а не для того, чтобы пускать пыль в глаза на потеху пьяной толпе.
Он ожидал, что она обидится или начнет спорить. Но она лишь склонила голову набок, и в ее глазах появилось что-то новое – не просто желание, а глубокий, почти хищный интерес.
– Значит, твоя сила – для дела… – протянула она, и ее взгляд медленно, нагло прошелся по его телу, от мокрых от пота волос до напряженных мышц на ногах. – И какое же у нее главное дело, кузнец? Какая работа для нее самая важная? Или твоя сила… она только для молота? В постели ты так же тверд и неутомим, как у наковальни?
Воздух в кузнице сгустился так, что его можно было резать ножом. Это был прямой удар, без намеков и уловок. Ее слова нарисовали в его воображении картину – яркую, бесстыдную, обжигающую. Картину их сплетенных тел, ее стонов, его силы, наконец-то нашедшей иное применение.
– Я бы хотела увидеть твою силу в настоящем деле, Ратибор, – прошептала она, делая крошечный шаг к нему. – Когда ты возьмешь меня так же крепко, как держишь свой молот. Когда войдешь в меня так же точно и глубоко, как твой клинок входит в масло. Я хочу, чтобы ты забыл про свое железо, про весь мир… Я хочу принять в себя весь твой огонь, всю твою ярость, пока ты не выгоришь дотла… А потом зажечь тебя снова.
Кровь ударила ему в голову. Он сжал кулаки так, что костяшки побелели. Дыхание сперло. Он хотел сказать ей, чтобы она замолчала, чтобы убиралась, но язык прилип к небу. Он мог согнуть стальной прут голыми руками, но против ее слов, против образов, что они породили, он был бессилен.
В ее глазах он увидел не похоть. Он увидел вызов. Она предлагала ему не просто ночь любви. Она предлагала ему поединок, битву двух равных стихий.
Он резко отвернулся, схватил еще не остывшую заготовку и снова сунул ее в огонь.
– Разговор окончен. Уходи.
Он не кричал. Его голос был почти шепотом, но в нем было столько сдерживаемого напряжения, что он прозвучал страшнее любого крика.
Зоряна постояла еще мгновение, глядя на его напряженную, дрожащую спину. Она снова улыбнулась своей тайной, победившей улыбкой.
– Язык у тебя твердый, кузнец, – сказала она ему в спину. – Посмотрим, что еще у тебя такое же твердое.
И, не сказав больше ни слова, она повернулась и вышла, оставив его одного в тишине, нарушаемой лишь гудением мехов и бешеным стуком его сердца. Он стоял перед горном, глядя на огонь, но не видя его. Внутри него все было перевернуто. Этот разговор не был пустым. Он был как капля яда в чаше с чистой водой. И яд уже начал действовать.