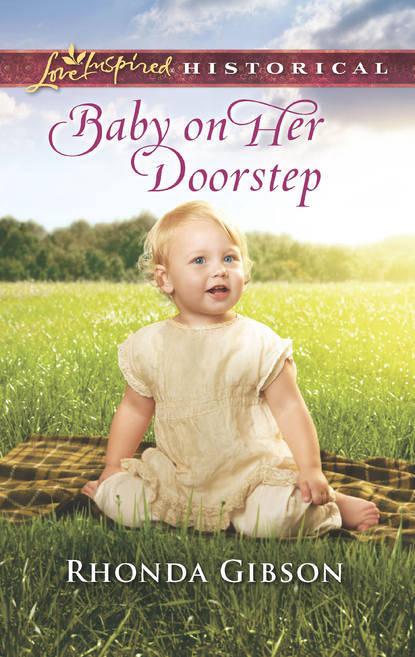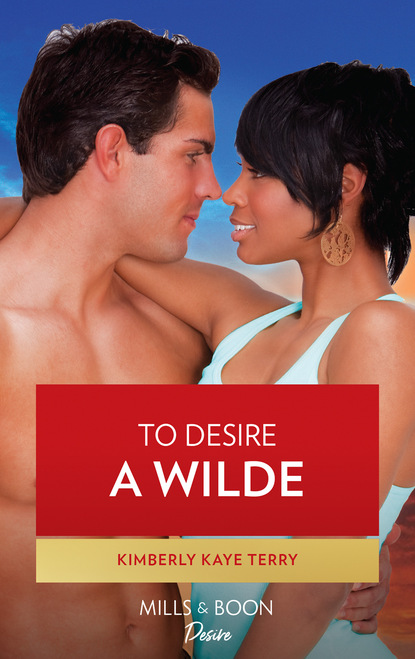Молот и плеть. Где кончается Русь

- -
- 100%
- +
– Ратибор… здрав будь, – промямлил Прохор, не решаясь войти. – Я это… не хотел беспокоить… Знаю, у тебя… свои заботы. Да вот, беда… мотыга… в самый сенокос…
Прохор попытался было завести разговор о погоде, о вчерашнем, как-то сгладить неловкость, но Ратибор прервал его, не дав даже закончить фразу.
– Что сломалось? – спросил он, и его голос был глухим, лишенным всяких эмоций. Он даже не повернулся, продолжая смотреть, как разогревается в горне его сокровище.
– Да вот, черенок рассохся, лезвие и выпало, – виновато ответил Прохор.
Ратибор молча отошел от горна. Взял из рук соседа мотыгу. Осмотрел её. Работа была пустяковой, на несколько минут.
– Подожди, – бросил он и принялся за дело.
Прохор стоял и смотрел, как работают руки кузнеца. В них не было лишних движений. Четко, быстро, почти механически. Он вынул остатки старого черенка, подогнал лезвие, закрепил его новым, прочным железным клином, который он выковал, казалось, из воздуха, за несколько ударов. Он работал молча. Его тело было здесь, в кузнице, починяя эту несчастную мотыгу. Но его мысли, его душа – были далеко.
– Вот. Держи, – он протянул починенный инструмент соседу. – Крепче новой будет. Не выпадет.
Прохор с благодарностью взял мотыгу и полез было за пазуху за монетой.
– Ратибор, я тебе…
– Потом, – оборвал его Ратибор, уже поворачиваясь обратно к горну. – Потом занесешь.
Прохор понял, что разговор окончен. Пробормотав еще раз спасибо, он попятился к выходу и исчез.
Ратибор смотрел на пустой дверной проем, сквозь который пробивался серый утренний свет. Он смотрел на спину уходящего Прохора.
«Они приходят и уходят, – подумал он, и в этой мысли была вся горечь его существования. – Мотыги, плуги, скобы, серпы… Вся моя жизнь здесь – это починка их мелких, бесконечных поломок. Я латаю их мир, чтобы он не развалился. А кто починит мой? Я выковываю им инструменты, чтобы они еще глубже вросли в эту землю, в эту рутину, в этот бесконечный круг. А сам хочу вырвать себя из нее с корнем».
Он снова повернулся к горну. Его заготовка уже пылала белым, яростным светом. Он взял её клещами. Положил на наковальню.
Он вернулся к своему тайному делу. Работа над этим оружием была не починкой. Она была сотворением. Он создавал не вещь. Он создавал ключ. Ключ, который должен был отпереть его клетку. И пусть даже этот ключ был выкован в форме смертоносного боевого топора. Сейчас для него это был единственный путь на свободу.
Глава 20: Горечь жатвы
Через несколько дней после Купалы жара стала невыносимой, и рожь на полях дозрела, склонив тяжелые, налитые золотом колосья. Староста Демьян объявил начало общей жатвы. В такой момент личные обиды и деревенские склоки отступали на второй план перед лицом вековой необходимости. Хлеб – это жизнь. И убирать его нужно было всем миром, быстро, пока не налетели дожди.
Ратибор не мог отказаться. Это был неписаный закон, кровный долг перед общиной. Уклониться от общей работы означало стать изгоем, отрезанным ломтем. А он, несмотря на свое внутреннее решение, еще был частью этого мира. С тяжелым сердцем он взял в руки косу, отбитую и наточенную им же до остроты бритвы, и вышел в поле вместе со всеми.
Мужики выстроились в одну длинную цепь, и по команде старосты работа началась.
Вж-ж-жих… вж-ж-жих…
Десятки кос в одном, мерном ритме ложились в рожь. Этот звук был похож на глубокий, усталый вздох самой земли. Позади мужчин шли женщины, которые собирали срезанные колосья в снопы и связывали их.
Ратибор работал молча, полностью отдаваясь ритму. Он шел вторым в цепи, сразу за самым опытным косцом. Его движения были мощными, широкими и в то же время удивительно легкими. Коса в его руках, казалось, пела. Он не рубил, а срезал рожь, и за ним оставалась идеально ровная, гладкая стерня. Его огромная сила, помноженная на привычку к тяжелому труду, делала его лучшим работником.
Другие мужики, пыхтя и обливаясь потом, с завистью и уважением косились на него. Он не уставал. Он был машиной. Совершенным инструментом для этой работы. Он был частью этого слаженного механизма, этого коллективного тела, единым порывом склонившегося над землей под безжалостно палящим солнцем. Он был среди них. Плечом к плечу.
Но он не был с ними.
Он чувствовал это каждой клеточкой своей кожи. Он чувствовал это по тому, как замолкали разговоры, когда он подходил. Он чувствовал это по взглядам. Особенно по одному взгляду.
На соседней полосе, возглавляя другую цепь косцов, работал староста Демьян. Он был уже немолод, и работа давалась ему тяжело. Но он упорно не отставал, показывая пример. И всё утро Ратибор чувствовал на своей спине его взгляд. Тяжелый, полный немой, удушающей ненависти. Взгляд человека, чью дочь, чью гордость, чью честь он растоптал. Демьян не говорил с ним ни слова, но его молчание кричало громче любого проклятия.
В полдень, когда солнце начало жечь немилосердно, объявили перерыв. Косцы с облегчением побросали косы и сгрудились в тени одинокого дуба на краю поля. Женщины принесли им квас, хлеб, вареные яйца.
Ратибор сел чуть поодаль, прислонившись к стволу. Он не хотел быть в центре, не хотел слушать их разговоры. Но от них было не скрыться.
Демьян, выпив залпом кружку кваса, нарочито громко, чтобы слышали все и, в первую очередь, Ратибор, обратился к сидящему рядом мужику.
– Да-а, – протянул он, вытирая усы. – Гляжу я на молодежь… Силы-то в них, может, и много. Больше, чем в нас было. А вот чести… Чести-то – ни на грош.
Мужики, услышав это, неловко замолчали. Все поняли, в чей огород брошен камень.
– Нынче мужчинами себя кличут те, кто способен лишь девок позорить да от настоящих дел по темным углам прятаться, – продолжал Демьян, его голос был полон яда. – Вместо того чтобы семью создавать, род продолжать, они, как жеребцы бездомные, по деревне носятся, по чужим лугам скачут, а потом – в кусты. Не мужики, а срам один.
Ратибор сидел, уставившись в одну точку. Он делал вид, что не слышит. Но каждое слово впивалось в него, как заноза. Его скулы окаменели, а пальцы сжались в кулаки так, что побелели костяшки. Унижение было публичным. Он не мог ответить – Демьян был старостой, стариком, отцом опозоренной девушки. Любой ответ был бы нарушением всех правил. Он мог только молчать и терпеть.
А напротив него, словно в насмешку, сидел отец Лады, щуплый, робкий мужичок. Он, поймав взгляд Ратибора, испуганно-благодарно кивнул ему. Он помнил про починенный серп. Он видел в Ратиборе не обидчика, а почти благодетеля.
И этот контраст был невыносим. С одной стороны – испепепеляющая ненависть. С другой – заискивающая, унизительная благодарность. Одни его ненавидели, другие боялись, третьи жалели. Но никто. Никто не видел в нем просто человека. Он был отщепенцем. Чужим. Даже здесь, в общем поле, выполняя общий долг, он был один.
Он поднял глаза и посмотрел на бесконечное, колышущееся под ветром море ржи.
«Они срезают колосья, чтобы испечь хлеб и пережить эту зиму, – пронеслось в его голове. – Чтобы следующей весной снова бросить зерно в землю. И снова ждать. И снова жать. И так – год за годом. Круг. Один и тот же, нескончаемый, предсказуемый круг. Они все – его часть».
Он почувствовал, как к горлу подступает тошнота.
«А я… я чувствую, что срезаю не рожь, а свои собственные дни. Каждый взмах моей косы – это еще один шаг к той жизни, от которой я бегу. Каждый срезанный колос – это еще один день, украденный у моей настоящей судьбы. Эта земля кормит их. Дает им жизнь. А меня она душит. Закапывает живьем».
– Перерыв окончен! – прокричал староста, с вызовом глядя в сторону Ратибора. – За работу!
Ратибор медленно поднялся. Он взял свою косу. Руки его были тверды. Но внутри все дрожало от сдерживаемой ярости и глухого отчаяния. Он вернулся в строй. Снова стал частью этого слаженного механизма.
Вж-ж-жих… вж-ж-жих…
Косы снова запели свою монотонную песню. Но теперь для Ратибора это была не песня жизни. Это была погребальная песнь по его собственной свободе. И он знал, что должен вырваться. Как можно скорее. Иначе эта земля, такая плодородная и щедрая, станет его могилой.
Глава 21: Взгляд из чащи
После унизительного дня в поле Ратибор не мог оставаться в деревне. Стены избы, тихие укоры в глазах матери, даже привычный гул пустой кузницы – всё давило, душило. Ему нужен был воздух. Ему нужен был лес.
На рассвете, когда деревня еще спала, он взял свой большой тисовый лук, колчан со стрелами, которые сам же и делал, длинный охотничий нож и ушел. Лес встретил его влажной, прохладной тишиной. Здесь, под сенью вековых сосен и елей, он наконец смог дышать полной грудью. Лес был его второй кузницей. Местом силы, где всё было по-настоящему. Здесь не было лжи, интриг, осуждающих взглядов. Здесь были только простые и вечные законы: выживает сильнейший, умнейший, терпеливейший. Здесь он был дома.
Он двигался по лесу бесшумно, как тень, ступая по мягкому мху и прошлогодней хвое. Каждый звук, каждый запах был для него понятным языком. Треск ветки под лапой рыси. Острый, мускусный запах лисьей норы. Шелест крыльев вспорхнувшего рябчика. Он читал эти знаки, как волхв читает свои руны.
Вскоре он нашел то, что искал. Свежие следы. Глубоко вдавленные в сырую землю отпечатки раздвоенных копыт и характерные борозды от клыков. Крупный вепрь-секач. Одиночка. Старый, хитрый и невероятно опасный зверь.
И Ратибор пошел по следу.
Охота началась.
И это был почти чувственный, эротический акт. Всё его существо сконцентрировалось на одной цели. Он перестал быть человеком, отягощенным мыслями и сомнениями. Он стал хищником. Его слух обострился, ловя малейший шорох. Его зрение отмечало каждую сломанную веточку, каждый примятый листок. Он втягивал носом влажный воздух, пытаясь уловить густой, тяжелый запах зверя.
Он слился с лесом. Стал его частью. Он чувствовал, как под кожей просыпаются древние, забытые инстинкты. Это было чистое, первобытное состояние. Полное погружение в "сейчас".
Несколько часов он шел по следу, и напряжение в нем нарастало. Это была не тревога. Это было предвкушение. Возбуждение, куда более сильное и чистое, чем то, что будили в нём женщины. Женское желание было мутным, полным уловок, требований, ожиданий. А это было просто. Честно. Жизнь против жизни.
Он настиг его в густом овраге, где вепрь рыл землю в поисках корней. Огромный, темный, покрытый свалявшейся щетиной, с желтыми, как старая кость, клыками, торчащими из пасти. Услышав хруст ветки, зверь резко вскинул голову и уставился на Ратибора маленькими, злыми, налитыми кровью глазками.
Мгновение они смотрели друг на друга. Охотник и добыча. Два самца, два хозяина этого леса.
Ратибор медленно, без резких движений, поднял лук. Положил стрелу на тетиву. Его дыхание стало ровным и глубоким. Сердце перестало бешено колотиться, его удары стали медленными, тяжелыми, как удары молота.
Он начал натягивать тетиву. Мощные мышцы на его спине и плечах напряглись. Лук изгибался, сопротивлялся, стонал. Это было как объятие. Он обнимал силу дерева, вбирал её в себя, чтобы через мгновение выпустить наружу. Наконечник стрелы, острый, трехгранный, выкованный им же, смотрел точно в цель – в убойное место под лопаткой зверя.
Вдох.
Он задержал дыхание. Мир замер. Остались только он, натянутая до предела тетива и злой, красный глаз зверя.
Выдох.
И вместе с выдохом он отпустил.
Т-сс-с-у-ухх…
Сухой, змеиный шелест стрелы, разрезающей воздух.
И глухой, влажный звук удара.
Вепрь взревел. Это был не рёв боли, а рёв ярости. Стрела вошла глубоко, но не убила его наповал. Он мотнул головой и, взрывая копытами землю, бросился на своего врага. На своего любовника в этой смертельной игре.
Ратибор отбросил лук и выхватил нож. Он не отступил. Он ждал.
В последний момент, когда огромная, несущаяся на него туша была уже в шаге, он отскочил в сторону, как танцор, пропуская её мимо себя. И в тот же миг, развернувшись, он нанес удар. Он всадил свой длинный охотничий нож зверю под ребра, снизу вверх, целясь прямо в сердце.
Он почувствовал, как горячая, густая кровь хлынула ему на руку.
Вепрь пробежал еще несколько шагов по инерции, потом споткнулся, закружился на месте и с грохотом рухнул на бок. Несколько мгновений он еще судорожно дрыгал ногами, а потом его предсмертный хрип затих в лесной тишине.
Всё.
Ратибор стоял над поверженным зверем, тяжело дыша. Его грудь вздымалась. Он был весь в грязи, в листьях, его рука по локоть была в чужой крови. И он чувствовал не жалость. А первобытный, чистый восторг. Восторг победы. Он забрал жизнь, чтобы утвердить свою собственную. Эта страсть, эта близость к смерти была созидательной. Она очищала его, смывала с него всю деревенскую грязь, все унижения.
Он взвалил тяжелую тушу на плечи и пошел обратно.
Солнце уже стояло высоко, когда он вышел на большую поляну, где обычно собирали ягоды. И увидел их. Несколько девушек, в том числе и Лада, с туесками в руках. Увидев его, они замерли.
Он остановился. Огромный, дикий, с окровавленной тушей кабана на плечах. Его волосы были спутаны, лицо – измазано кровью и грязью, в глазах еще горел хищный огонь охотника. Он пах лесом, потом и смертью. Он был не человеком из их деревни. Он был существом из другого мира. Духом леса. Лешим.
Их взгляды встретились. Его – тяжелый, спокойный, ничего не выражающий взгляд хищника. И её – огромные, испуганные глаза лани.
На мгновение она замерла, её лицо стало белым как полотно. В её глазах он увидел всё – и прежнее, детское обожание, и новый, животный страх. Она видела не удачливого охотника. Она видела дикое, первобытное существо, которому не место рядом с ней.
Она не выдержала его взгляда. Тоненько вскрикнув, она выронила свой туесок, из которого по траве рассыпались красные ягоды. И, подхватив юбки, бросилась бежать в чащу, прочь от него, словно спасаясь от зверя.
Ратибор смотрел ей вслед. Другие девушки, испуганно перешептываясь, тоже поспешили скрыться. Он остался один посреди поляны, рядом с рассыпанными ягодами.
И в груди у него было ледяное, абсолютное спокойствие.
«Вот кто я для них на самом деле, – подумал он. – Не кузнец, не пахарь. Зверь. И они боятся меня. И правильно делают. Потому что зверю не место в человеческом стойле».
Он поправил тушу на плечах, ощущая её мертвый, тяжелый вес, и, не взглянув больше на рассыпанные ягоды, пошел дальше, в деревню. Нести им свою добычу. И свое проклятие.
Глава 22: Чужой на пиру
Когда Ратибор, весь в крови и грязи, ввалился в деревню с огромной тушей вепря на плечах, его встретило ошеломленное молчание. Люди, видевшие это, застывали на месте. Это был не просто удачливый охотник, вернувшийся с добычей. Это было зрелище из древних преданий – первобытный герой, победивший лесное чудовище.
Новость разлетелась мгновенно. Вепрь-секач, в одиночку! Такого старики не помнили. Такой зверь мог завалить и двух, и трех охотников. А этот… этот принес его на плечах, будто мешок с мукой.
Вечером деревня гудела. Повод для общего праздника был слишком хорош, чтобы его упустить. Огромный костер зажгли прямо на площади, и тушу вепря, разделанную и выпотрошенную, водрузили на вертел. Жир шипел и капал в огонь, распространяя по всей округе головокружительный, дразнящий запах жареного мяса.
Женщины вынесли столы, накрыли их тем, что было в домах. Мужики выкатили бочонок с пивом, оставшийся с недавнего праздника. Атмосфера была почти праздничной, она на время смыла и горечь Купальской ночи, и тревожное ожидание, висевшее в воздухе.
Ратибор был в центре этого праздника. Герой дня.
Он смыл с себя кровь и грязь, надел чистую рубаху, но ему казалось, что запах леса и сырого мяса въелся в его кожу навсегда. Его усадили на самое почетное место, рядом со старостой. Ему наливали лучшую брагу, ему подкладывали самые сочные, дымящиеся куски мяса. Ему жали руку, хлопали по плечу.
– Ну, Ратибор! Ну, богатырь!
– Такого зверя завалить! Это ж сила какая нужна!
– Да не только сила, тут умение! И храбрость!
Он принимал похвалы молча, лишь изредка кивая. Он ел мясо, которое сам добыл. Он пил пиво, которое подносили ему с уважением. Он сидел среди них, в центре всеобщего внимания. И никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким.
Даже староста Демьян, его заклятый враг, был вынужден отдать ему должное. Добыча была общей, она накормила всю деревню, и проигнорировать это староста не мог.
– Благодарим тебя, Ратибор, – процедил он сквозь зубы, поднимая свою кружку. – Накормил общину. Доброе дело сделал.
Это была не похвала, а констатация факта. Но и за это Демьяну пришлось переступить через свою гордость.
Ратибор лишь кивнул в ответ. Он видел, как в стороне, в тени дома, стоит Зоряна и смотрит на него. В её взгляде больше не было ненависти. Было что-то другое, сложное: восхищение, смешанное с горькой обидой. Обидой на то, что этот герой мог бы быть её.
Когда пир был в самом разгаре, к нему на лавку подсел Еремей, отец Милавы. Старый бортник был трезв, и глаза его, как всегда, смотрели хитро и проницательно.
– Хороший кабан, – сказал он, отрезая себе кусок мяса. – Крепкий. Старый, видать. С таким справиться – дорогого стоит. С таким охотником, да хозяином, никакая зима не страшна. Хозяйству такой мужик – опора.
Ратибор продолжал молча есть. Он знал, что это не просто разговор.
Еремей хитро прищурился, пожевал мясо.
– Моя Милава намедни говорила… – как бы невзначай начал он. – Говорила мне, мол, Ратибор – он не просто сильный, как другие думают. Он, говорит, надежный. Как старый дуб – и в грозу укроет, и дом из него крепкий построить можно. Глубоко смотрит девка-то. Понимает суть.
Ратибор молча кивнул, отпивая пиво. Он понимал всё. Старый лис не сдавался. Он делал последний, самый тонкий ход. Он не сватался в открытую. Он показывал "товар" с лучшей стороны – через ум и проницательность своей дочери. Он пытался взять его не страстью, а логикой, обещанием надежного будущего.
– У вас, бортников, всегда дел много, – сказал Ратибор, намеренно переводя разговор. – Пчелы, поди, роятся уже? Погода жаркая.
Еремей понял намек. Он не стал настаивать. Он был умным игроком и видел, что эта партия проиграна.
– Роятся, – вздохнул он. – Дел всегда хватает. Были бы руки работящие да голова светлая рядом.
Он доел свой кусок, крякнул и, пожелав доброго вечера, отошел, оставив Ратибора одного с его мыслями.
Он сидел среди них. Он был сыт, пьян, увенчан славой героя-охотника. Но он чувствовал себя так, словно смотрит на всё со стороны, через толстое, мутное стекло. Он видел их лица, слышал их смех, но не мог разделить их радости.
«Они хвалят меня, потому что я принес им еду, – думал он, глядя на пляшущий огонь. – Потому что я выполнил свою функцию. Завтра у кого-то сломается телега, и они снова придут ко мне. И снова будут хвалить. Они видят во мне пользу. Как в хорошем топоре или в дойной корове. Я для них – полезная вещь. Надежный инструмент».
Он посмотрел на свои руки. Сильные, мозолистые. Руки, которые могли созидать и убивать.
«И этот пир – не в мою честь. Это пир в честь хорошего инструмента, который еще послужит общине. В честь вола, который хорошо пашет и способен защитить стадо. Но никто из них не спросил, чего хочет сам вол. Может, он не хочет пахать. Может, он хочет быть диким туром и носиться по лесу на свободе».
Он почувствовал, как к горлу подкатывает горечь, еще более сильная, чем горечь пива.
«А я больше не хочу быть инструментом. Ни для них. Ни для их дочерей. Ни для кого».
Он поднялся. Пир был ему не в радость. Шум стал невыносим.
– Устал я, – бросил он сидевшему рядом Прохору. – Пойду.
И, не прощаясь больше ни с кем, он ушел с площади, оставив за спиной костер, смех и запах жареного мяса. Ушел в темноту, в тишину. К себе. В свое спасительное, глухое одиночество.
Глава 23: Разговор вполголоса
Пир отгремел. Деревня, сытая и пьяная, погрузилась в тяжелый, беспокойный сон. Лишь собаки лениво перелаивались во дворах, да тусклый месяц одиноко висел в беззвездном небе.
Но Ратибору было не до сна. Чужое веселье лишь обострило его внутреннюю боль, сделало его решение еще более твердым. Он не пошел в избу. Как всегда, когда ему было особенно тяжело, он пошел в свое единственное убежище. В кузницу.
Внутри пахло остывшим металлом и углем. Он не стал зажигать лучину, ему хватало света из горна, который он начал потихоньку раздувать. Ему нужно было работать. Ему нужно было говорить со своим единственным настоящим другом – с металлом.
Он достал из тайника свою заготовку. Будущий боевой топор. За последние дни она уже начала обретать форму – хищную, смертоносную.
Он сунул её в разгорающийся огонь, и звук мехов, ровный и глубокий, наполнил ночную тишину, как дыхание шамана.
Он был так поглощен своей работой, своим ритуалом, что не услышал тихих шагов.
– Топор куешь?
Голос отца, Борислава, раздался из темноты, и Ратибор вздрогнул от неожиданности. Старик стоял на пороге, его кряжистая фигура черным силуэтом вырисовывалась на фоне бледного ночного неба.
Ратибор не ответил. Он вынул из горна раскаленную добела заготовку, положил на наковальню, и по кузне разнесся тихий, мелодичный перестук. Он пытался уйти от разговора в свою работу.
Борислав медленно вошел, прикрыл за собой дверь и присел на старую колоду в углу, где не мешал свет. Он молча смотрел, как сын работает.
– Добротный получается, – снова сказал он, и голос его был спокойным, почти безразличным. – Только узор на нем не для дров. И лезвие не для того, чтобы ветки рубить. – Он сделал паузу, а потом спросил прямо, без обиняков. – Боевой топор, сын. Скажи мне, с кем ты здесь собрался воевать?
Ратибор продолжал наносить удары, но они стали короче, злее.
– Не молчи, – голос отца стал тверже. – Я не слепой. И не глухой. Я вижу, как ты маешься. Вижу, как на пиру на тебя смотрели, как на героя, а ты – как волк затравленный. Вижу, как смотришь ты на всех, будто ты уже не здесь. Будто тело твое еще ходит по этой земле, а душа уже улетела далеко-далеко. – Он снова помолчал, давая словам впитаться. – Ты уйти хочешь.
Последние слова упали в тишину. Ратибор прекратил стучать. Он опустил молот. Положил клещи. Он медленно повернулся к отцу. Его лицо, освещенное снизу отсветами горна, казалось лицом статуи – с резкими тенями и застывшей болью в глазах.
– Да, – просто сказал он. И в этом одном слове была вся его правда.
Отец ожидал этого ответа. Но все равно вздрогнул, будто его коснулись холодным железом.
– Куда? – спросил он тихо. – Зачем? От девок бежишь? От позора Зорянки, от слёз Лады? Думаешь, убежишь, и всё само забудется?
– Не от них, отче. От себя, – Ратибор шагнул в тень, подальше от огня, и прислонился к стене. Он чувствовал смертельную усталость. – От того, кем я здесь стану. От того, кем вы все хотите меня видеть. Я… я задыхаюсь.
Он говорил, и это было похоже на исповедь. Впервые в жизни он пытался облечь в слова то, что мучило его, что скреблось у него на душе.
– Понимаешь, вы все видите во мне силу. И каждый хочет эту силу использовать. Девушки – чтобы получить сильного мужа и красивых детей. Мужики – чтобы я ковал им плуги и добывал кабанов. Ты – чтобы я продолжил наш род. Вы все правы. По-своему. Но никто из вас не спросил, чего хочу я сам. А я… я не хочу быть просто быком-производителем. Не хочу быть просто полезным инструментом. Это… клетка, отче. Сытая, теплая, правильная, но клетка. И стены её с каждым днем сжимаются всё сильнее.
Он умолк. Борислав сидел, опустив голову, и слушал. Он слушал не только слова сына. Он слушал его боль.
– Моя сила, – продолжил Ратибор глухо. – Она здесь, как река, запруженная плотиной. Она бродит, гниет, ищет выхода. Я выплескиваю её на железо, на зверей в лесу. А она должна… она должна делать что-то настоящее! Понимаешь? А не латать дыры в этом вашем тихом, сонном болоте.
Он закончил. Он сказал всё. Или почти всё. И теперь ждал. Ждал отцовского гнева, упреков, приказа.
Но Борислав долго молчал. В кузне было слышно лишь, как потрескивают угли в остывающем горне.
– Я знал, что так будет, – сказал он наконец, не поднимая головы. Голос его был хриплым и уставшим. – Знал, еще когда ты мальчишкой был. Ты всегда был другим. Не таким, как все. Смотрел не под ноги, а за горизонт. Спрашивал не "как", а "зачем". Таким… не место на этой земле. Наша земля любит тех, кто смотрит в неё, а не на облака.