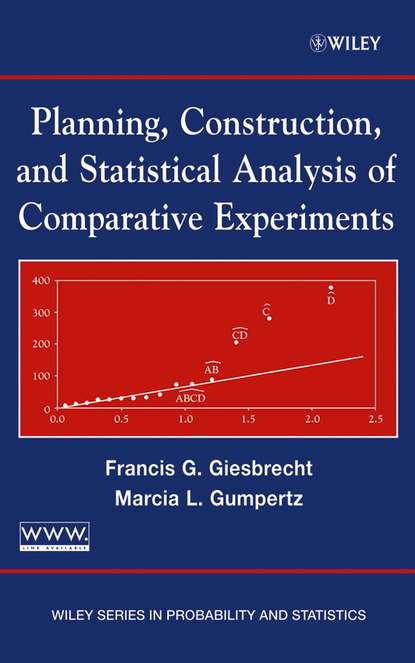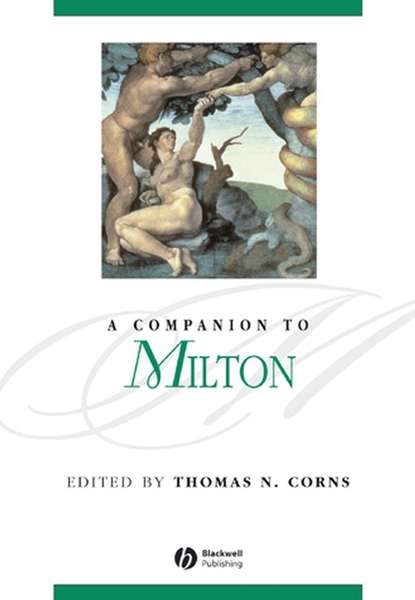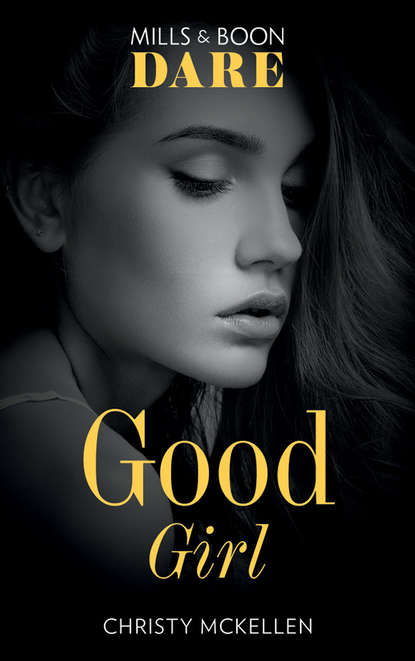- -
- 100%
- +

Глава 1: Золото в грязи
Туман над Полотой стоял такой густой, что казалось, будто мир кончается на расстоянии вытянутого весла. Утро было серым, промозглым, насквозь пропитанным сыростью ранней осени и запахом тины.
Рыбак Митрофан сплюнул в зеленую воду, подгребая левой рукой, чтобы выровнять лодку-долбленку.
– Греби давай, Олешка, не спи, – прохрипел он напарнику, конопатому парню, который клевал носом на корме. – Рыба ждать не будет.
Олешка вздрогнул, потер замерзшие плечи под грубой рубахой и неохотно взялся за весло. Камыши шуршали сухо и тревожно, словно перешептывались о чем-то недобром. Лодка медленно скользила сквозь высокие стебли, разрезая молочную пелену тумана.
– Тихо, – вдруг сказал Митрофан, поднимая руку.
– Что там, дядька? Щука зашла? – оживился Олешка.
– Тш-ш… Смотри. Вон там, у коряги. Цветом больно ярко.
В серой, безрадостной палитре речного утра, среди бурого камыша и черной воды, пятно ярко-алого цвета резало глаз. Ткань. Дорогая, крашеная ткань, какую простой люд надевал разве что на похороны или свадьбу, да и то не свою.
Лодка мягко ткнулась носом в переплетение корней прибрежной ивы. Камыши расступились, открывая то, что скрывала река.
Это был не топляк и не дохлая скотина. В воде, зацепившись дорогим, шитым золотом кафтаном за сук, лежал человек. Голова его была откинута назад, наполовину погружена в ряску, но лицо… лицо виднелось отчетливо.
– Матерь Мокошь, заступись… – прошептал Олешка, крестным знамением закрываясь от увиденного, но глаз отвести не смея.
Мертвец был богат. Сапоги из красной кожи, сафьяновые, на пальцах, сжавших речную траву – серебряные перстни с каменьями. Но не богатство испугало рыбаков.
Штаны купца – а это явно был купец – были спущены до щиколоток, открывая худые бледные ноги и срам, посиневший от холода воды. Однако самым жутким был цвет кожи. Тело не разбухло, как обычно бывает у утопленников. Наоборот. Оно казалось высохшим, словно старый пергамент, который забыли на солнцепеке. Кожа, серая, с сеткой мелких трещин, обтягивала череп так плотно, что казалось, вот-вот лопнет. Глазницы запали глубоко, превратившись в черные провалы.
И при всем этом ужасе, на лице мертвеца застыла улыбка. Блаженная, почти экстатическая гримаса удовольствия, которая на иссохшем лице смотрелась кошмарным оскалом.
– Это ж Ждан… – Митрофан узнал покойника. – Купец Ждан. Тот самый, что половину посада в долгах держит.
– Жаден был, как бес, – выдохнул Олешка. – Говорили люди, подавится он золотом своим. Вот, видать, и подавился. Водяной его забрал?
Митрофан ткнул тело концом весла, проверяя, не привязан ли тот ко дну. Тело качнулось легко, словно пустая оболочка, из которой вынули всё нутро.
– Не водяной это, – пробормотал старый рыбак, хмуря густые брови. – Водяной раздувает. А этот… сухой. Как таранька на ветру. И гляди, порты спущены. Не иначе, грешил перед смертью-то, бесстыдник.
Олешка подался вперед, морща нос:
– Дядька, чуешь?
– Чего чую? Тиной несет, чем еще…
– Да нет же. Сладко пахнет. Приторно так, аж в горле першит.
И верно. Когда легкий утренний ветерок сдул туман, до лодки донесся запах, которому здесь, среди грязи и рыбьей чешуи, не было места. Пахло не речной гнилью, не смертью, а густым, тяжелым ароматом – мускусом, перезревшей вишней и чем-то острым, заморским, что везли иногда купцы с самого Царьграда. Запах был настолько густым, что, казалось, его можно было потрогать языком – вкус шафрана и греха на губах.
– Духами женскими несет, – скривился Митрофан. – Дорогими.
Он перевел взгляд на берег. Следы в жирной, чавкающей грязи были едва заметны, но казалось, что кто-то тащил или поддерживал купца.
– Срам-то какой, – сплюнул старик, но в его голосе было больше страха, чем осуждения. – Жил жадно, а помер, голой задницей рыбам светя.
– Дядька, надо тиуна звать. Или дружину.
– Надо, – неохотно согласился Митрофан. Он понимал: плакала сегодняшняя рыбалка. И спокойная жизнь – тоже.
Лодка качнулась, отталкиваясь от коряги. Мертвый Ждан чуть повернулся в воде, и солнечный луч, впервые пробивший туман, скользнул по его сухому, улыбающемуся лицу. В этом свете кожа казалась совсем уж серой, нечеловеческой, а прилипшая к бедру золотистая слизь блеснула так, словно сама была драгоценностью. Но рыбаки этого уже не видели, спеша на веслах прочь от проклятого места.
Туман медленно смыкался за их спинами, скрывая тело, из которого кто-то или что-то выпило саму жизнь, оставив взамен лишь запах сладкого яда.
Глава 2: Паника
Весть о смерти купца Ждана пронеслась по Полоцку быстрее, чем верховой по весеннему тракту. Ещё до полудня город гудел, как потревоженный улей, но гул этот был не яростный, а трусливый, придавленный. Люди на торжище перешептывались, косясь на мутную воду Полоты, бабы крестили детей, завидев любую тень, а собаки выли, не переставая, словно чуяли в воздухе незримую беду.
Но настоящий страх пришел ближе к обеду.
Десятник Бус, коренастый мужик с перебитым носом, вёл смену караула к дальним воротам. День выдался хмурым, солнце лишь изредка проглядывало сквозь рваные облака, не давая тепла. Сапоги чавкали по раскисшей глине.
– Гойко где? – рыкнул Бус, подойдя к сторожевой вышке. – Спит, пёс шелудивый?
Пост был пуст. Копьё, прислонённое к брёвнам частокола, сиротливо мокло под моросью. Шлем валялся в грязи, словно его смахнули небрежным движением.
– Эй, Гойко! – гаркнул десятник, чувствуя, как внутри зашевелился холодок. – Выходи, по запороть велю!
Ответа не было.
Один из молодых дружинников, Ослябя, тронул десятника за плечо и указал на примятую траву, уходящую от стены в сторону подлеска – густого кустарника, жавшегося к городскому валу.
– Туда ушли, дядька Бус. Словно волокли кого. Или сам шёл, шатаясь.
– Проверьте, – скомандовал Бус, уже зная, что ничего хорошего они там не найдут. Стражник не оставляет пост, чтобы справить нужду в дальних кустах, не бросает шлем.
Они нашли его в пятидесяти шагах от стены, под сенью старой разлапистой ели. Гойко, один из самых крепких парней в сотне, лежачий плашмя на сыром мхе, выглядел как куча тряпья.
– Матерь Божья… – Ослябя попятился, закрывая рот ладонью.
Гойко не был убит мечом или стрелой. На нём не было видно ран, но кольчуга, которая всегда сидела на нём внатяг на широкой груди, теперь висела мешком, собираясь складками. Голова стражника покоилась на корнях, лицо было обращено к небу.
Оно было таким же серым и потрескавшимся, как у купца. Губы, некогда полные и красные, превратились в две тонкие, сухие нити, растянутые в блаженной, пьяной улыбке. Глаза запали настолько, что казалось, их выклевали птицы, но нет – в глубине чёрных глазниц всё ещё блестели мутные зрачки.
Штаны стражника были спущены до колен. Бледные, тощие ноги, лишённые мышц, казались палками, обтянутыми пергаментом. Жизнь, сила, мужская ять – всё вытекло из него, оставив лишь сухую оболочку.
Десятник Бус присел рядом, но коснуться побоялся. От тела несло не потом и не перегаром, как обычно пахнет от солдат, а всё тем же душным, сладким ароматом, перебивающим запах хвои. Запах цветов и тлена.
– Не баба это была, – прохрипел Бус, поднимаясь. Лицо его посерело. – Человека так не выдоить за час. Словно десяток лет жизни одним глотком забрали.
***
К вечеру тела стащили в холодный амбар на окраине посада. Народ жался к заборам, глядя, как дружинники хмуро несут носилки, прикрытые рогожей. Шепотки превратились в ропот.
– Мокошь гневается! – кричала какая-то кликуша, раздирая на себе рубаху. – За грехи наши, за блуд, за жадность!
– Не Мокошь это! – возражал ей мужик из кузнецов. – Навьи пришли! Чернобог ворота отворил!
В амбаре было тихо и темно. Местная знахарка, старуха Велена, которую звали, когда нужно было заговорить грыжу или принять трудные роды, стояла у порога, наотрез отказываясь подходить ближе.
– Глянь, бабка, – требовал княжеский тиун, нервно теребя бороду. – Что за хворь такая? Может, отравление? Или яд змеиный?
Велена, опираясь на клюку, лишь фыркнула, не сводя глаз с серых ступней, торчащих из-под рогожи. В полумраке они казались сделанными из пепла.
– Нет тут хвори, тиун, – прошамкала она. – Хворь изнутри грызёт, плоть портит, гной даёт. А тут плоти нет. Пусто внутри.
– Как пусто? – не понял тиун.
– А так. Душа ушла, а тело за собой потащила, – старуха перекрестилась мелким, суетливым жестом, но второй рукой сжала деревянный оберег на шее. Языческое и христианское мешалось в ней, как и во всём городе. – Не буду я их мыть. И касаться не буду.
– Я прикажу!
– Приказывай мёртвым! – огрызнулась Велена, пятясь к двери. – К таким покойникам голыми руками лезть – смерть дразнить. Там голод остался. Чужой голод. За дверями, тиун, беда ходит. Не мор это, а охота.
Старуха выскочила за дверь, оставив тиуна наедине с двумя иссушенными телами и сладким, липким запахом шафрана, который, казалось, становился только гуще в замкнутом пространстве.
Город за стенами погружался в ночь, но огни в окнах не гасли. Никто не хотел засыпать. Люди запирали ставени, подпирали двери кольями и шептали молитвы всем богам, которых помнили, надеясь, что серые лица с блаженными улыбками не придут за ними в темноте. Паника, холодная и липкая, вползала в Полоцк вместе с ночным туманом.
Глава 3: Юность в воде
Солнце стояло в зените, разгоняя остатки утренней мороси, но тепло не радовало жителей Полоцка. Воздух над городом словно загустел от тревоги.
Крик раздался со стороны Тихой заводи – места, где река Полота делала крутой изгиб, замедляя свой бег, и где вода стояла почти недвижно, цветущая ряской и кувшинками. Кричала баба, пришедшая полоскать белье. Крик был не испуганным, а тонким, визгливым, каким кричат, увидев покойника в собственном дворе.
Ратибор, младший в княжеской дружине, оказался там одним из первых. Ему, молодому, еще не заслужившему права носить алый плащ, поручили обходить дозором прибрежные улицы – дело нехитрое, но сегодня каждый куст казался местным жителям укрытием татя.
– Расступись! – рявкнул он, расталкивая плечами небольшую толпу, уже собравшуюся на берегу.
Люди шарахались в стороны, крестясь. На мостках, уронив в воду корзину с мокрыми рубахами, выла на коленях женщина. Её трясущаяся рука указывала на центр заводи.
Там, среди широких листьев кувшинок, покачивалось белое пятно. Тело.
Оно лежало лицом вниз, раскинув руки, словно пытаясь обнять воду. Светлые волосы веером расплылись по темной поверхности, смешиваясь с зеленой тиной.
– Кто это? – бросил Ратибор, не глядя на толпу. – Чей парень?
– Да это ж Зорян… – ответил кто-то из мужиков срывающимся басом. – Вакулы-кузнеца сын. Он вчерась только молотом махал, я сам видел.
Ратибор сжал зубы. Зоряна он знал – семнадцатилетний здоровяк, которому прочили место отца в кузнице. Плечи – косая сажень, кровь с молоком.
– Помогите вытащить, – приказал дружинник. Мужики попятились.
– Не, паря… Сами лезьте. Там нечисто… Вон как те двое, Ждан да Гойко…
Выругавшись, Ратибор шагнул на скрипучие мостки, сбросил сапоги и, подцепив тело длинным багром, что лежал тут же для ловли топляка, начал осторожно подтягивать его к берегу. Мертвец шел легко, пугающе легко, будто был не из плоти и кости, а из сухой соломы.
Когда Ратибор схватил парня за скользкое плечо и перевернул его на спину, чтобы втащить на доски, толпа ахнула и подалась назад. Баба, что нашла тело, закрыла лицо передником и завыла пуще прежнего.
Перед ними лежал старик в теле юноши.
Впалая грудь с четко проступившими ребрами напоминала птичью клетку, обтянутую серой кожей. Живот прилип к позвоночнику. Мощные мышцы, которыми славился сын кузнеца, исчезли, и кожа висела на костях безобразными складками. Лицо заострилось, скулы выпирали, как лезвия ножей.
На теле не было ни единой раны. Ни синяка от удара, ни разреза, ни следа от удушья. Зорян был совершенно наг. Его одежда – порты и рубаха – нашлась тут же, аккуратно сложенная под ивой. Он пошел купаться добровольно. Или кого-то ждал.
Ратибор склонился над мертвецом, борясь с дурнотой.
Он не был знахарем, но видел достаточно смертей. Человек сохнет от чахотки годами. От голода – месяцами. А этот парень, пышущий здоровьем, превратился в скелет за одну ночь.
Но страшнее всего было лицо. Глаза Зоряна были открыты и смотрели в небо, подернутые белесой пеленой. А губы… тонкие, синюшные губы растянулись в той же проклятой, мечтательной улыбке, что и у купца Ждана. Словно он умер в момент величайшего наслаждения.
Ратибор наклонился ниже, почти касаясь носом груди мертвеца.
Ветер с реки дул в другую сторону, но чуткий нос воина уловил его. Едва заметный, но въедливый запах. Сладкий. Тягучий. Запах заморского шафрана и терпкого мускуса, смешанный с запахом ряски.
Дружинник выпрямился, вытирая руки о штаны, словно хотел смыть невидимую грязь. Он посмотрел на толпу. В их глазах он видел только животный страх.
«Третий, – подумал Ратибор, чувствуя, как холодок пробегает по спине, несмотря на солнце. – Купец. Стражник. А теперь почти дитя. У этой твари нет предпочтений. Она просто голодна».
– Несите рогожу, – сказал он глухо. – И за Вакулой пошлите. Только сразу не говорите ему… про вид сына. Пусть помнит его живым.
По воде заводи пошла рябь, хотя ветра не было. Ратибору на миг показалось, что из глубины, из-под листьев кувшинок, на него кто-то смотрит. Но когда он пригляделся, там была лишь черная бездна омута.
Глава 4: Назначение
В княжеской гриднице было сумрачно, несмотря на день. Узкие оконца, затянутые бычьим пузырем, неохотно пропускали свет, а факелы коптили, наполняя высокий зал запахом гари и старого жира. Но тяжелее всего давил шум снаружи. Даже сквозь толстые дубовые стены было слышно, как гудит посад, как орут купцы у ворот детинца, требуя защиты и справедливости.
Воевода Мстислав сидел за длинным столом в одиночестве. Перед ним стояла нетронутая ендова с медом и обглоданная баранья кость, которой он в задумчивости постукивал по столешнице. Мстислав был грузен, сед и покрыт шрамами, как старый дуб – мхом. Он не любил загадок. Он любил прямую сечу, понятного врага и ясный приказ. То, что творилось в Полоцке последние два дня, вызывало у него изжогу и глухое раздражение.
Ратибор замер у порога, ожидая, пока тяжелый взгляд воеводы найдет его в полумраке. Младший дружинник знал свое место: пока не окликнут, стой и молчи.
– Слышишь? – Мстислав не глянул на него, кивнув в сторону стены, откуда доносился крик толпы.
– Слышу, воевода, – коротко ответил Ратибор.
– Купцы, – сплюнул Мстислав. – Жирные бороды. Ждан помер, и они теперь трясутся за свои кошели и жизни. Староста их приходил. Говорит, не пустят обозы, пока душегуба не сыщем. А если обозы встанут, князь с меня шкуру спустит. А я – с кого-нибудь из вас.
Кость с глухим стуком ударила в дерево. Воевода наконец поднял глаза. В них читалась усталость и холодный расчет.
– Старшие говорят, не их это дело. Свенельд морду воротит, говорит, бабьи сказки, порча да нечисть. Ему, вишь ли, негоже мечом призраков гонять. Брезгуют.
Он поманил Ратибора пальцем. Тот подошел ближе к столу.
– А я вот смотрю на тебя, Ратибор. Роду ты не знатного, за спиной никого нет. В дружину взяли за хватку, а не за имя. Терять тебе, кроме головы, нечего.
– К чему ведешь, воевода? – спросил Ратибор, уже чувствуя, как холодеет внутри. Он понял, к чему всё идет. «Козел отпущения». Если дело выгорит – слава достанется воеводе. Если нет – виноват будет бестолковый младший, что не уберег город.
– Трое покойников. Сухие, как вяленая рыба. Ни ран, ни крови. Только улыбки эти полоумные да штаны спущенные, – Мстислав поморщился, словно проглотил муху. – Дело это поручаю тебе. Найди кто это. Или что это.
– Один? – Ратибор не сдержал удивления.
– Десяток тебе не дам, город и так на взводе, каждый меч на стенах нужен. Помощников бери, кого сам уговоришь, за так или за монету. Но, – воевода поднял палец, и голос его стал жестким, как удар кистеня, – тихо. Без паники. Если начнешь баб пугать и кричать про упырей на площадях – я тебя сам в поруб посажу. Купцы должны видеть, что власть работает, но не должны знать, что мы сами ни хрена не понимаем. Усек?
– Усек, – глухо отозвался Ратибор. – А коли найду?
– Коли найдешь и башку этой твари принесешь – высажу тебя из задних рядов за стол. А коли нет…
Воевода не договорил. Он взял со стола медную бляху с княжеским знаком – трезубцем – и швырнул её Ратибору. Металл звякнул, ударившись о грудь, но Ратибор поймал его на лету.
– Это тебе мандат. Чтобы двери открывали и вопросы задавать давали. Но помощи не жди. Ступай. И чтоб к вечеру у меня были новости, а не только новые трупы.
Ратибор поклонился и вышел из гридницы в пасмурный двор. Свежий воздух после спертого духа зала показался сладким, но облегчения не принес.
Он сжал медный знак в кулаке так, что края впились в ладонь.
«Разберись, но тихо», – звучало в ушах.
Это была расстрельная должность. С одной стороны – неведомая тварь, иссушающая людей за миг. С другой – ярость купцов. А с третьей – воевода, который уже приготовил веревку для шеи Ратибора, если что-то пойдет не так.
Он был один против всего Полоцка.
Дружинник повесил знак на пояс, проверил, легко ли выходит меч из ножен, и зашагал к воротам, за которыми шумел напуганный город. Времени на страх у него не было. Убийца не будет ждать.
Глава 5: Липкий след
Ледник, врытый в северный склон холма за детинцем, дышал могильным холодом. Здесь хранили мясо для княжеского стола, но сегодня дубовые полки занимало иное мясо. Три тела, прикрытые рогожей, лежали в глубине. Однако Ратибора интересовали не они.
В предбаннике, на грубых лавках, были свалены в кучу вещи покойных. Стражники с брезгливостью сбросили их здесь, стараясь лишний раз не касаться "порченых" одежд.
Ратибор зажег лучину от факела на стене. Огонек затрещал, отбрасывая дерганые тени.
– Посвети-ка, – бросил он молчаливому холопу, сторожившему вход. Тот неохотно подошел, держа огонь на вытянутой руке, и косился на кучу тряпья, как на гнездо гадюк.
Первым делом Ратибор взялся за кафтан купца Ждана. Сукно добротное, дорогое, заляпанное теперь речной грязью и тиной. Дружинник вывернул карманы – пусто. Мародеры или стража уже подчистили мошну, но Ратибор искал не серебро.
Он отбросил кафтан и потянул к себе штаны купца – те самые, сафьяновые, широкие, что нашли спущенными.
– Смотри-ка, – пробормотал он.
В свете лучины влажная ткань заблестела. Но не мокрой грязью. На внутренней стороне штанин, там, где ткань касалась бедер, тянулась странная, переливающаяся дорожка. Она была похожа на след гигантской улитки, но гуще и прозрачнее. Слизь едва заметно светилась, преломляя желтый свет огня, отливая то перламутром, то зеленоватым, то розовым.
Ратибор, поборов отвращение, коснулся слизи пальцем.
Она была липкой, тягучей, как смола, но при этом удивительно теплой, словно хранила жар чужого тела даже здесь, в холоде ледника.
– Фу, ну и гадость, – сморщился холоп. – Это что, семя, что ли? Блудил он там, бесстыдник?
– Не семя, – покачал головой Ратибор, растирая субстанцию между пальцами. – Семя стынет и белеет. А это… смотри.
На глазах вещество начало меняться. От тепла пальцев и соприкосновения с воздухом слизь стремительно высыхала. Она перестала быть липкой и рассыпалась мельчайшей, невесомой пыльцой.
Палец Ратибора словно покрыли сусальным золотом. Золотистая пыль заискрилась в свете лучины.
– Золото? – глаза холопа жадно округлились.
– Пыль, – осадил его Ратибор. – Пыльца. Как с крыльев мотылька, только тяжелее.
И тут его ударил запах.
Пока слизь была влажной, она почти не пахла. Но стоило ей превратиться в пыльцу, как в спертый, пахнущий сыростью и гнилым деревом воздух ворвался аромат, которому не было места на суровом севере.
Это был не запах Полоцка – не дым, не деготь, не еловая смола.
Запах был горячим, душным и вызывающе дорогим.
– Что за… – Ратибор поднес пальцы к носу.
Пряности. Острый, терпкий запах шафрана, от которого першило в горле. Сладкий, животный дух мускуса. Запах благовоний, которыми умасливают тела вельмож, и аромат перезревших южных фруктов.
Это был запах греха, роскоши и далекого юга, откуда привозили шелка и вина.
Ратибор схватил порты стражника. На грубом льне кольчужного поддоспешника – тот же след. Та же переливающаяся дорожка, превращающаяся в золотую пыль.
Одежда юного Зоряна, найденная на берегу – те же следы на рубахе, которую парень, видимо, снял в спешке.
Все трое коснулись чего-то, что источало этот аромат.
– Царьград… – прошептал Ратибор. Только византийские послы да самые богатые купцы пахли так. Но откуда в полоцкой грязи, в камышах, среди лягушек взяться такому аромату?
Ратибор аккуратно стряхнул золотистую пыльцу с пальца на лоскут чистой ткани и завернул его.
Это была не болотная кикимора и не леший. Леший пахнет мхом и псиной. А убийца пах как дорогая столичная шлюха или жрица неведомого культа.
– Вымой руки, – бросил он холопу, который завороженно смотрел на золотые искры на ткани. – И рот закрой. Если кто спросит – вши у них были. Обычные вши.
Дружинник вышел из ледника, жадно хватая ртом холодный осенний воздух, чтобы вытравить из ноздрей этот сладкий, приторный яд. След был найден. Липкий, золотой и совершенно невозможный. И он вел не в лесные чащобы, а туда, откуда в город приходят заморские товары и чужие сказки.
Глава 6: Старик-Странник
Корчма «Хмельной Тур» у речных причалов встречала густым, хоть топор вешай, дымом и гомоном подвыпившей толпы. Здесь пили не ради веселья, а чтобы залить липкий страх, окутавший город. Дружинники, сплавщики леса, мелкие торговцы – все сбивались в кучи, обсуждая «иссушителя», и каждая кружка браги делала слухи всё страшнее.
Ратибор протиснулся сквозь толчею, не обращая внимания на косые взгляды. Ему нужен был лишь один человек.
Он нашел его в дальнем углу, у самой печи. Лука Кривой – старый кормщик, чье лицо напоминало печеное яблоко, а левый глаз был скрыт бельмом. Говорили, что Лука ходил на ладьях в такие дали, где вода соленая, а солнце плавит смолу на палубе. Ходил к грекам, в сам Царьград.
Старик цедил дешевое пиво, горбясь над столом. Ратибор молча опустился на лавку напротив.
– Здрав будь, Лука, – дружинник положил на стол тяжелую руку.
– И тебе не хворать, коль не шутишь, – проскрипел старик, не поднимая головы. – Мед есть? Али спросить чего хочешь?
– Спросить.
Ратибор огляделся – не подслушивают ли. Но в корчме орали пьяную песню, и до них никому не было дела. Дружинник достал из-за пазухи свернутый лоскут ткани.
– Нюх у тебя, говорят, хороший на чужие земли, – тихо сказал он, разворачивая тряпицу. – Глянь. Знаешь, что это?
Лука прищурил здоровый глаз. Золотистая пыльца тускло мерцала на ткани в свете сальной свечи.
– Блестит… Золото мыл? – усмехнулся старик и наклонился ближе, чтобы принюхаться.
В то же мгновение усмешка сползла с его лица, как шелуха с луковицы.
Лука отшатнулся так резко, что опрокинул скамью. Его лицо, только что красное от пива и жары, вмиг стало серым, как речная галька. Руки, перевитые жилами, затряслись.
– Убери! – зашипел он, махая руками, словно отгоняя дым. – Убери, парень, Христа ради! В печь брось!
– Ты знаешь, что это, – не спросил, а утвердил Ратибор, глядя в расширенный от ужаса глаз старика.
– Заверни, говорю! – Лука сорвался на визг, привлекая внимание соседей. Ратибор быстро спрятал тряпку в кулак.
Старик тяжело дышал, хватая ртом воздух, будто только что вынырнул с глубины.
– Откуда у тебя это? – прошептал он, отирая пот со лба. – В Полоцке такому быть нельзя. Не живет оно тут.
– Что «оно», Лука? Говори.
Кормщик трясущимися руками схватил свою кружку, осушил её одним глотком и ударил дном о столешницу.
– Понт Эвксинский, – сипло выдохнул он. – Теплое море. И дальше, к югу, у ромеев. Я слышал этот запах в портах, где пропадали моряки. Сладкий, как мед, но после него – только смерть.