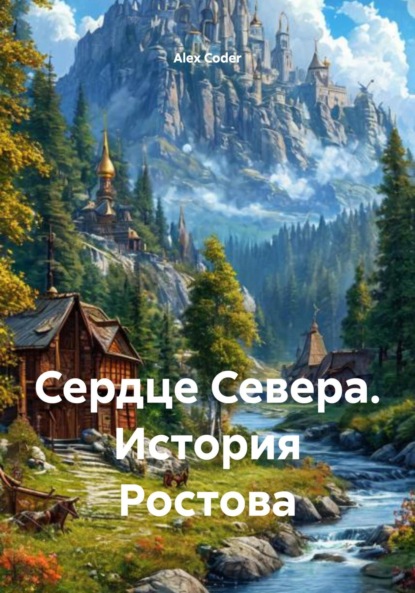Пролог
Вековой сумрак царил под сводами леса. Здесь, в самой его седой глубине, куда даже в полдень не пробивался солнечный луч, воздух был густым и тяжелым, пах мхом, прелой листвой и предвечной тишиной. Звенящую тишину нарушали лишь треск жертвенного огня да шепот старческих губ, сухих, как осенний лист.
Древний волхв стоял на коленях перед громадным, поросшим лишайником валуном – священным камнем, что видел смену сотен поколений. Его седая, спутанная борода почти касалась влажной земли, а в глубоко запавших глазах не было возраста – лишь мудрость и усталость мира. Рука, похожая на корень старого дуба, крепко сжимала рукоять обсидианового ножа. У подножия камня, в выдолбленной чаше, дымилась свежая кровь черного петуха – дар гневным духам, требовавшим плату за свои тайны. Рядом стоял глиняный горшок с медом и плошка с молоком – подношение тем, кто был добрее.
Волхв бормотал древние слова, обращаясь не к богам на небесах, а к тем, кто жил в земле, воде и шелесте листвы. Он просил показать, что ждет их земли, задыхающиеся под тяжестью хазарского ярма и собственной разобщенности.
Дым от костра, в который он бросил пучок сухого вереска и воронье перо, не пошел к небу. Он заклубился, извиваясь, словно живой змей, и начал сплетаться в образы прямо перед лицом старца.
Сперва он увидел огонь. Не согревающий пламя очага, а яростное, всепожирающее пламя, что лизало деревянные стены селений и отражалось в глазах, полных ужаса. За огнем хлынула кровь. Она текла реками по полям сражений, обагряя мечи воинов и землю, которую они пытались защитить. Мир, каким его знал волхв, тонул в боли и страдании.
Но вот из кровавого марева выступила фигура. Юноша. Высокий, широкоплечий, с волосами цвета спелой ржи. Но не это поразило волхва. Его глаза. Они горели неукротимым, холодным пламенем, как у волка, готового к смертельной схватке. В них не было страха – лишь стальная решимость и голод. Голод не по еде, а по свободе.
Видение сменилось. Волхв увидел, как этот юноша ведет за собой людей – сначала горстку отчаянных смельчаков, потом сотни, тысячи… Они шли на север, в непроходимую глушь, где не ступала нога хазарского сборщика дани. И там, среди дремучего леса, на берегу великой реки, они рубили деревья. Из непокорства и надежды росли стены города. Города, рожденного не по воле князя, а вопреки всему миру.
А затем волхв увидел то, что заставило его старое сердце замереть. Над головой юноши-волка поочередно вспыхнули три короны. Но это были не венцы из золота и самоцветов.
Первая была сплетена из терний и дорожной пыли – корона изгнанника, заплатившего за свой путь лишениями.
Вторая была выкована из стали сломанных вражеских мечей – корона вождя, объединившего под своей рукой разные племена.
Третья же, самая тяжелая, была невидима, но давила на его плечи бременем ответственности за тысячи душ – корона хранителя.
Дым рассеялся так же внезапно, как и сгустился. Старец тяжело опустился на землю, переводя дух. Он все понял. Время старых договоров, тихого рабства и раздробленных племен подходило к концу. Грядет буря, которая сметёт прежний мир. И эта буря родится из искры, зажженной в сердце одного юноши.
Ветер, пронесшийся по верхушкам сосен, был похож на тяжелый вздох мира, стоящего на пороге новой, жестокой и великой эпохи. Времени перемен, рождённых в отчаянии и вскормленных надеждой.
Глава 1: Вербная Лука
Поселение, что прозвали Вербной Лукой, вцепилось в изгиб ленивой, илистой реки, словно испуганный зверек. Оно не знало каменных стен; его защитой были лишь вязкие топи с одной стороны и стена векового, неприветливого леса с другой. Покосившиеся, просмоленные срубы жались друг к другу так тесно, будто искали не тепла, а смелости в плече соседа. От домов к воде сбегали тропы, размытые дождями и растоптанные до состояния скользкой грязи. Воздух здесь был густым, тяжелым, пропитанным едким дымом очагов, кислым запахом скотного двора и сырой гнилью, что вечно тянуло от болот.
Жизнь здесь не текла по кругу – она ползла, как изнуренный вол, подгоняемый кнутом. С первыми серыми лучами мужчины, с лицами цвета земли от вечной усталости, уходили в поля или к реке, расставлять сети. Женщины, с огрубевшими, растрескавшимися руками, топили печи и месили тесто, их движения были медленными и механическими. Дети, казалось, рождались уже с серьезными, недетскими глазами; едва научившись ходить, они уже знали свое место в этой бесконечной работе. Это была тяжелая, изматывающая жизнь, и единственной честностью в ней была неизбежность смерти.
Но был в этой жизни не просто изъян. Была гноящаяся, незаживающая рана, которая вскрывалась раз в год. По осени, когда редкий урожай был свезен в амбары, а шкурки убитой в лесу живности выделаны, по наезженной дороге с юга приходили они. Хазары.
Дань, которую они забирали, состояла из трех частей, и зерно с мехами были самой безобидной из них. Вторая часть была данью кровью: каждый год или два они уводили нескольких самых крепких парней и ладных девушек. Никто не знал, куда – в рабство на южные рынки, в услужение хазарской знати или просто в безымянную могилу. Этот страх жил в каждом доме, заставляя матерей учить дочерей сутулиться и прятать красоту под мешковатой одеждой, а отцов – смотреть на сильных сыновей с болью и тревогой.
Но самой унизительной была третья часть дани. Негласная. Баскак и его приближенные воины имели право «гостить» в любом доме, и право это означало, что любая женщина или девушка, приглянувшаяся им, проводила ночь не со своей семьей. Это не было криком и насилием посреди улицы. Это было хуже. Это было тихое, обыденное право сильного, принятое со стиснутыми зубами и опущенными глазами. Мужчины, сжимавшие кулаки до хруста в суставах, молча выходили из избы, оставляя жен или дочерей на поругание, потому что знали: сопротивление означает смерть. Все помнили кузнеца Огнедара, который три года назад попытался не пустить хазар в свой дом. Его не просто убили. Его вывели на площадь, сломали ему руки и ноги, и оставили умирать на глазах у всей деревни. Его жену и дочь увезли с собой. С тех пор никто не сопротивлялся.
Эта дорога, «хазарский след», была шрамом на теле земли, который помнил железо и кровь. По ней не гоняли скот, а дети обходили ее стороной, будто она могла обжечь. Все, что рождала, выращивала и добывала Вербная Лука, в первую очередь принадлежало невидимому кагану и его воинам. Люди здесь были лишь скотом, который давал шерсть, молоко и приплод.
И потому в глазах людей не было тени горечи. В них была черная, выжженная пустота. Они смеялись редко, и смех их был глухим, не идущим из груди. Они пели, но песни их были плачем – о воинах, не вернувшихся из боя, и о девах, уведенных в полон. Каждый учился выживать: мужчины – глотать ярость, женщины – казаться незаметными, все вместе – не смотреть в глаза хозяевам.
Вербная Лука была клеткой, пусть и сплетенной из ивовых прутьев, а не из железа. Но прутья эти были пропитаны слезами и кровью, и они держали крепче любой стали.
Глава 2: Волчий Взгляд
Ярополк не помнил своего отца живым. Память сохранила лишь обрывки: грубые, мозолистые ладони, пахнущие железом и лесом, и низкий голос, говоривший о том, что меч – это продолжение руки, а ярость – это огонь, который должен не сжигать изнутри, а закалять волю. Отец, бывший дружинник какого-то давно сгинувшего князя, был убит на охоте, когда Ярополку едва исполнилось пять зим. По крайней мере, так гласила официальная версия. Но мать, в редкие минуты, когда боль прорывалась сквозь пелену смирения, шептала, что отца убил не медведь. Его проткнули хазарской стрелой в спину, когда он посмел возразить их воеводе, выбравшему для себя соседскую дочь. Он погиб не как воин в бою, а как строптивый раб, и эта постыдная правда горела в крови Ярополка ярче любого огня.
Наследие, что оставил отец, не звенело монетой. Оно жило в теле – "память рук", как он это называл. Каждый вечер, когда изнуряющая работа в поле была закончена, Ярополк уходил туда, где река делала крутой изгиб, скрывая его от любопытных глаз. В его руках был не меч – настоящий меч был бы для него смертным приговором. Это был тяжелый дубовый брус, обтесанный по форме клинка, такой тяжелый, что поначалу едва отрывался от земли.
Удар. Уклон. Разворот. Снова удар. Его мускулистое тело, покрытое шрамами от работы и юношеских драк, двигалось с напряженной, звериной грацией. Капли пота смешивались с грязью на коже и стекали по высокому лбу. Он тренировался не для славы. Он делал это, потому что бессильная ярость, копившаяся в нем днем, ночью требовала выхода. Иначе она бы просто разорвала его изнутри.
Каждый взмах деревянного меча был ударом по лицу врага. Не невидимого. Очень даже конкретного. Он представлял самодовольное лицо баскака, его похотливый взгляд, скользящий по девушкам деревни. Он видел ухмылки его воинов, когда они входили в чужой дом, зная, что им все дозволено. Он видел, как два года назад они выволакивали из дома его соседа, шестнадцатилетнюю Весняну. Он до сих пор помнил ее крик, который быстро оборвался, и бессильный, сдавленный рык ее отца, прижатого к стене двумя хазарами. На следующий день Весняну вернули, бросили у порога, как изжеванную тряпку. Она молчала, смотрела в одну точку, а через неделю повесилась в сарае.
Когда Ярополк видел, как мужчины его деревни опускают глаза и сжимают кулаки в карманах, он чувствовал не только гнев. Он чувствовал презрение. Он презирал их так же сильно, как и хазар. Их смирение было для него такой же грязью, как и жестокость захватчиков. Они называли это мудростью. Он называл это трусостью.
От отца ему достались не только воинские уроки. Ему достались его глаза. Светло-серые, почти стальные, с хищным темным ободком вокруг радужки. Старики боялись этого взгляда и за спиной шептались, что у парня «волчьи глаза». И они были правы. Это был взгляд загнанного зверя, который больше не ищет укрытия. Он ищет возможность вцепиться в горло охотнику, даже если это будет его последний рывок.
Он смотрел на темные воды реки, текущей на север. Думал не о рыбе. Думал о том, что каждая река куда-то впадает. Куда-то, где кончается хазарский след. Где кончается это бесконечное, вязкое унижение. Мысль эта была пока лишь смутной, дикой. Безумной. Как попытка в одиночку загрызть медведя. Но боль от чужого горя и собственный жгучий стыд превращали это безумие в единственный возможный путь. В единственный способ снова начать дышать.
Глава 3: Поколение без Памяти
– Опять дубье свое мучаешь? Или оно тебя? – раздался позади него насмешливый, но по-своему теплый голос.
Ярополк, не оборачиваясь, опустил тяжелый брус. На берег вышли те двое, кому он доверял больше, чем самому себе. Всеволод, здоровенный сын мельника, медлительный и основательный, как жернов на отцовской мельнице. И Милана, дочь охотника, быстрая и язвительная, с вечным луком за плечом и копной смоляных волос, растрепанных ветром. Ее глаза, темные и живые, видели больше, чем она говорила.
– Духи прогневаются, если ты всех бобров на берегу распугаешь, – продолжила Милана, ловко усаживаясь на поваленный ствол. Ее смех был как звон ножа о камень – резкий, но честный.
– Пусть лучше духи гневаются, чем хазарская гнида, лапающая твою сестру, – хмуро бросил Ярополк, вытирая рукавом пот, смешанный с грязью.
Милана осеклась. Ее младшей сестре Светозаре как раз этой осенью исполнялось пятнадцать. Время, когда на тебя начинают смотреть не как на ребенка.
Всеволод тяжело вздохнул, этот вздох, казалось, поднял пыль с земли. Он сел рядом с другом. – И во что же мы превратились, Яр? В то же, чем были наши отцы. Работаем, растим детей, платим дань. И молимся, чтобы пронесло.
– Вот именно! – Ярополк с яростью вонзил конец бруса в сырой песок. – Работаем, чтобы они жирели! Растим дочерей, чтобы они их пачкали! И молимся! Перуну, который давно оглох, или Велесу, который отвечает лишь за скот! А мы, видимо, и есть тот самый скот. Вы что, не видите этого?
Милана пожала плечами, но жест вышел напряженным. – А что тут видеть? Это жизнь. Другой мы не знаем. Старики говорят, что когда-то деды наши ходили в набеги, а не прятали дочерей по подполам. Но когда это было? Может, и врут все. Просто сказки, чтобы легче было засыпать.
В ее цинизме была горькая правда целого поколения. Они родились под этим ярмом. Для них право хазар на их тела и их урожай было таким же неизбежным, как смена дня и ночи. Свобода была лишь словом из древних песен. Их бунт был подпольным, бессильным, прорывающимся в едких шутках Миланы, тяжелых вздохах Всеволода и немой ярости тренировок Ярополка.
– Старики не врут, – глухо проговорил Ярополк. – Они помнят. Они помнят свободу. И они помнят кузнеца Огнедара, которому сломали руки и ноги. Они помнят Весняну, которая повесилась в сарае. Они помнят моего отца. Они заплатили за свои попытки кровью, поэтому и молчат. Они боятся. И нас учат тому же. Быть тихими. Незаметными.
– А ты не боишься? – тихо, почти шепотом спросил Всеволод, глядя другу прямо в глаза. Это был главный вопрос.
Ярополк медленно повернул голову. В его волчьих глазах на мгновение полыхнул холодный, беспощадный огонь.
– Боюсь, – честно признался он, и от этой честности по спине пробежал холодок. – Боюсь однажды, когда какой-нибудь пьяный ублюдок потянет к моей жене руки, я сделаю то же, что и все, – стисну зубы и выйду из избы. Боюсь, что оставлю своему сыну в наследство не меч, а вот этот страх. Этого я боюсь больше смерти. Больше любого хазарина.
Милана перестала улыбаться. Она стиснула тонкие пальцы на рукояти своего ножа. Она больше не смотрела на Ярополка. Ее взгляд был прикован к широкой, темной реке, что медленно несла свои воды на север. Туда, где за пеленой тумана и дождей скрывалась неизвестность. И в ее глазах, обычно полных острой насмешки, впервые мелькнула не просто задумчивость, а холодная, хищная решимость. Такая же, как у ее друга.
Глава 4: Пыль на Сапогах
Весть пришла не словом, а пронзительным, почти звериным визгом. Мальчишка-пастух, запыхавшийся, с лицом, белым от ужаса, несся с дальних полей. Он не кричал «Идут!», он захлебывался этим словом, повторяя его снова и снова, пока не рухнул на землю у ног первого встречного.
Одно это слово действовало, как удар плети. Жизнь в Вербной Луке замерла, а потом рванулась в судороге страха. Разговоры оборвались на полуслове. Смех, и без того редкий, умер в горле. Лица людей приобрели серый, мертвенный оттенок. Женщины, с искаженными лицами, хватали детей и тащили их в избы, захлопывая тяжелые двери на все засовы. Это было похоже не на приближение грозы. Это было похоже на то, как скот загоняют на бойню.
Мужчины молча стягивались к дому старосты. Никто не брался за вилы или топоры. Оружие давно стало символом наказания, а не защиты. Они просто стояли, вжимая головы в плечи, и их молчание было тяжелым, вязким, как болотная трясина, готовая поглотить любого, кто сделает неосторожное движение.
Вскоре послышался топот. Тяжелый, размеренный, полный осознания собственной силы. На окраине деревни показался десяток всадников. Хазары. Они ехали неспешно, с ленивой, высокомерной уверенностью хищников, пришедших на свое пастбище. Их смуглые, обветренные лица с высокими скулами были непроницаемы и жестоки. На боках висели изогнутые сабли в потертых ножнах, но настоящей угрозой были их глаза – пустые, оценивающие, в которых местные жители были не людьми, а вещами. Запах их пропитанной потом одежды, конского пота и чужой, степной пыли был запахом власти и насилия.
Во главе отряда ехал баскак, тот самый, со шрамом через щеку, из-за которого его улыбка походила на волчий оскал. Он лениво спешился, бросил поводья одному из своих людей и вальяжно направился к старосте Боримиру. Рядом с ним седой, согбенный старик казался сухим деревом, которое вот-вот сломается под ветром.
– Здрав будь, Боримир, – сказал баскак на ломаном славянском. Голос его был глух и лишен эмоций. – Каган шлет тебе свой мир. А я жду даров.
Начался унизительный, отработанный до мелочей ритуал. Из амбаров выносили мешки с рожью. Из домов – шкуры, холсты, сушеную рыбу. Хазары принимали все с брезгливой дотошностью, тыкая носком сапога в мешки, проверяя меха на густоту. Один из них, молодой и наглый, остановил проходившую мимо девушку, грубо схватил ее за подбородок, повертел ее голову из стороны в сторону, словно осматривал кобылу, а потом с ухмылкой оттолкнул. Девушка споткнулась и упала в грязь, а хазарин расхохотался. Никто не двинулся с места. Отец девушки лишь сильнее сжал кулаки, опустив голову так низко, что борода коснулась груди.
Ярополк стоял в толпе, и ему казалось, что он вот-вот задохнется от ярости. Он заставлял себя не отворачиваться, смотреть на все это. На покорные спины, на дрожащие руки женщин, на пустые глаза мужчин. И жгучая, почти тошнотворная горечь поднималась в нем. Он видел, что с каждой отданной шкурой, с каждым уведенным юношей у них отбирают не просто добро и не просто детей. У них отбирают право называться людьми.
Закончив со сбором дани, баскак окинул толпу тяжелым взглядом и лениво указал пальцем на дом Всеволода.
– Сегодня я сплю здесь, – бросил он старосте. Затем его взгляд нашел Милану, стоявшую рядом с отцом. – А эту девку пришли ко мне, когда стемнеет. Пусть постель согреет.
В толпе пронесся сдавленный стон, похожий на предсмертный хрип. Отец Миланы побелел, как полотно. Всеволод, рядом с которым стоял Ярополк, замер, превратившись в камень. Он не смотрел на друга. Он смотрел на спину баскака, и в его обычно спокойных глазах плескалась черная, убийственная ненависть.
Это было хуже всего. Открытое, публичное унижение, брошенное как кость собакам. Баскак не просто брал, что хотел. Он показывал, что может взять любого, в любое время, и никто не посмеет ему помешать.
И в этот момент Ярополк понял, что сегодня ночью что-то должно случиться. Или он умрет, пытаясь что-то сделать. Или навсегда умрет что-то внутри него.
Глава 5: Искра
Очередь дошла до бабы Марфы, одинокой старухи, чей муж и сыновья сгинули много лет назад. Она вынесла небольшую связку беличьих шкурок – всё, что смогла наловить за год. Один из хазар презрительно ткнул в связку носком сапога.
– И это всё, старая? Ты смеешься над нами?
Он сделал шаг в ее дом. Через мгновение он вышел, держа в руке единственную шкурку куницы – красивую, с густым зимним мехом. Марфа, видимо, припрятала её для себя, на воротник для старого тулупа. Она ахнула и шагнула вперед, протягивая дрожащие руки.
– Не надо… сынок… это последнее…
Хазарин отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, заставив пошатнуться. Он усмехнулся и уже замахнулся рукой с зажатой в ней плетью, чтобы наказать старуху за утайку.
И в этот момент Ярополк шагнул из толпы.
– Оставь ее, – сказал он негромко, но так, что его услышали все.
Хазарин замер, медленно поворачивая голову. Толпа ахнула. Всеволод попытался схватить друга за руку, но тот уже стоял между воином и старухой. Его рука не лежала на рукояти ножа, но все видели, как напряглись его плечи.
– Что ты сказал, щенок? – прошипел хазарин, его глаза сузились.
– Она отдала всё, что у нее было. Этого хватит, – повторил Ярополк, глядя прямо в глаза воину. В его волчьих глазах не было ни страха, ни почтения. Только вызов.
Воздух загустел. Секунда, и пролилась бы кровь. Но тут вперед, расталкивая людей, бросился староста Боримир.
– Прости его, господин! – запричитал он, кланяясь баскаку. – Молод, глуп, не ведает, что творит! Мы заплатим за шкурку, вдвойне заплатим!
Староста что-то шепнул своему помощнику, и тот метнулся в избу, вынося маленький, туго набитый кошель с серебряными монетами – неприкосновенный запас общины на черный день. Он протянул его баскаку.
Тот долго смотрел то на монеты, то на Ярополка, потом на своего воина. Наконец, он лениво кивнул. Воин, бросив на Ярополка полный ненависти взгляд, сплюнул на землю и отошел.
Унижение было полным. Общину заставили заплатить за собственное неповиновение.
Хазары собрали дань, погрузили на вьючных лошадей и, не оборачиваясь, покинули деревню. Когда стук копыт затих вдали, люди медленно разошлись по домам, не глядя друг на друга. Только Ярополк остался стоять на площади.
Он смотрел на север. Туда, куда уходила река, в неизвестные земли, где не было хазарского следа. И холодная горечь в его душе начала кристаллизоваться в нечто новое. Твердое, острое и бесповоротное. В решение.