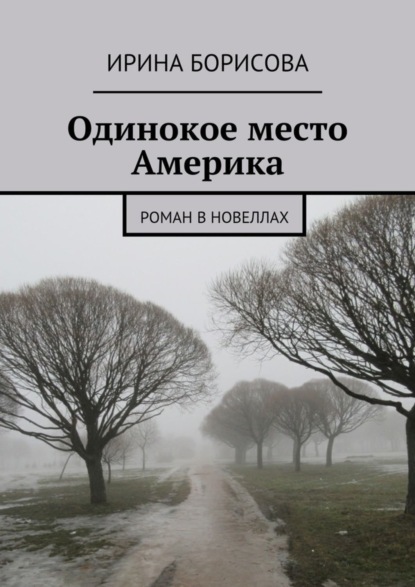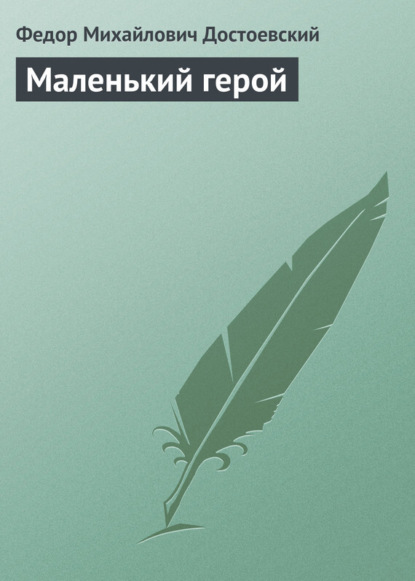Книга I: «Черпало Великого Огня»
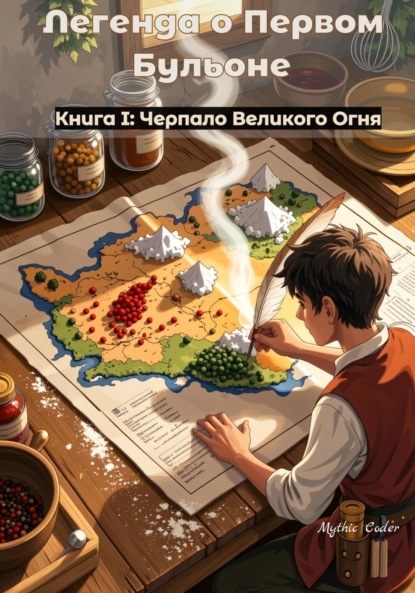
- -
- 100%
- +

ПРОЛОГ
Пиршественный зал храма Сольтена гудел, как огромный медный котёл. Люди пели, стучали кубками, подбрасывали тосты, и воздух был густ от пара, запаха бульона, печёных кореньев и свежего хлеба. В сводах дрожали огни лампад, запутавшихся в гроздьях сушёных трав.
По стенам шли мозаики из специй: алые полосы паприки, золотая куркума, чёрный кунжут, зелень сухих листьев. Они складывались в сцены древних пиршеств, в истории первых рецептов, и казалось, стоит вдохнуть глубже – и можно попробовать каждую картинку на вкус.
В самом центре зала тихо кипел главный котёл храма, вросший в камень, как корень векового дерева. Над ним кружился пар с золотистыми бликами; каждый пузырёк бульона лопался с мягким звуком, похожим на приглушённый звон ложек.
На низкой подставке у трона Архимастера лежал древний черпак с треснувшей кромкой. Металл был потемневший, исчерченный соляными знаками, и всё равно от него шло едва ощутимое тепло, словно он недавно коснулся какого-то невероятного жара.
Хор взял особенно высокий, тянущийся звук, и в тот же миг огни в лампадах странно дёрнулись, вытянув тени по стенам. На дальней мозаике специи по краю потемнели, будто их прижгли, и по камню поползло нечто чёрное, гладкое, лишённое привычных языков пламени.
Чёрный огонь двигался медленно, но жадно. Он лизал мозаики, и яркие крупинки пряностей исчезали бесследно, оставляя за собой голый, матовый камень без запаха. Песня оборвалась; кто-то ещё тянул ноту, но голос сорвался на кашель.
Архимастер Мар’эн резко поднялся с трона, его мантия с сотней маленьких ложечек негромко звякнула. Он увидел, как тьма поднимается выше, к сценам с Первым Бульоном, и побледнел так, будто из него вылили всю кровь.
– Мастера вкуса – в хранилища! – крикнул он. – Артефакты, коды, книги. Всё, что можно унести, прячьте немедленно!
Черпак он сунул в руки ближайшему повару – широкоплечему Ларну, который ещё минуту назад разливал суп по мискам. Металл оказался тяжелей, чем выглядел, рукоять впилась в ладони, и Ларн на миг зашатался, прижимая артефакт к груди.
Зал взорвался суетой. Ученики и мастера бросились к боковым дверям, кто-то ронял тарелки, кто-то пытался продолжать песню, будто голос мог удержать отступающий свет. По сводам прокатился низкий треск, посыпалась пыль, и чёрный огонь скользнул ближе к котлу.
В коридорах было душно. Здесь тоже по стенам тянулись чёрные полосы, выжигая запахи копчёного мяса и старых бочек. Хранилище встретило их прохладой и сумбурным шёпотом: мастера быстро меняли местами банки, засовывали свитки глубже, прикрывали артефакты мешками с крупой.
– Свитки кедровой соли – вниз, под фальшивое дно, – бросила Мастерица Марин, не оборачиваясь. – Матрицы вкуса – в глиняные горшки. Черпак – обратно к котлу. Если что выстоит, то он.
Ларн крепче сжал рукоять. По трещине на кромке будто шла тонкая тень, от которой мурашки побежали по пальцам. Над головой снова треснул камень, и он, не дожидаясь новых указаний, повернулся и побежал назад.
В пиршественном зале люди уже не сидели за столами – они стояли кучками, прижав к груди детей и узлы с вещами. Чёрный огонь стёр распятые по стенам сцены с детскими супами и простыми похлёбками для больных, будто сам мир забывал о мягкой еде утешения.
Центральный котёл всё ещё кипел. Пар поднимался плотной колонной, в которой смешались куриные, грибные и травяные нотки, и этот запах упрямо держался, не давая чёрному пламени пролезть ближе. Ларн подбежал к краю, поднял черпак, собираясь опустить его к поверхности.
Храм дёрнулся всем телом, как перегретый котёл на огне. Пол ушёл из-под ног, Ларн оступился, пальцы соскользнули с рукояти. Черпак взвился в воздух, ударился о каменный край, и треснувший фрагмент с сухим звоном отломился.
Фрагмент, блеснув солевыми знаками, упал прямо в бурлящую глубину. Бульон выплеснулся, подняв тёмный пузырь, по пару прошли чёрные прожилки, будто огонь впустили внутрь. В этот момент гул песен, крики и треск рушащихся сводов смешались, а в сердце котла навсегда исчезла часть того, что им пытались спасти.
В тот миг, когда фрагмент черпака исчез в кипящей глубине, котёл будто задержал дыхание. Бульон на секунду замер, пар застыл плотной завесой, а потом изнутри что-то рвануло, словно под каменной плитой взорвали целую печь.
Ритуальная кухня взорвалась первой. Зачарованные плиты, медные столешницы, решётки печей и подвесы для котлов разлетелись в стороны, как щепки, стальные ножи свистнули в воздухе, пучки трав вспыхнули зелёным пламенем и сразу превратились в чёрный пепел. Стены взвыли, будто сами помнили, сколько блюд здесь рождалось.
Столб бульона и пара ударил в своды, как гейзер. Волна жара пронеслась по залу, сбивая людей с ног, и аромат Первого Бульона обрушился на всех сразу – тяжёлый, густой, как если бы тысячи разных супов сварили в одной единственной кастрюле.
Каждый вдох был как глоток невидимой жидкости. Люди хватались за горло, но не от удушья – от того, что в них хлынули чужие и свои воспоминания: детские кухни, руки родителей, первые удачные похлёбки, соль, которой всегда было либо чуть много, либо чуть мало. Вкус прошлого ломился внутрь так же неумолимо, как огонь в стены.
На миг казалось, что весь мир собрался в этом запахе. В нём дрожала сладость печёных корнеплодов, горечь пригоревшей корки, дым костров, на которых варили супы для больных, и тонкая, почти неуловимая нота того самого Первого Бульона, легендой тянущаяся сквозь века.
Потом вместе с паром начала падать сажа. Она не просто оседала на плечи и волосы – она ложилась полосами, крючками, точками, свивалась в узоры. На обломках колонн, на перевёрнутых столах, на расколотых плитах вспыхнули руны сажи, будто сам дым решил записать то, что знал котёл.
Руны пульсировали, как живые. Линии соединялись, перетекали одна в другую, расплетали старые коды рецептов и тут же скручивали их в незнакомые конфигурации. Мар’эн, прижатый к полу обломком балки, попытался вслух повторить формулу простейшего бульона, но слова вдруг превратились в глухой набор звуков.
– Три… щепоти… соли… – прохрипел кто-то рядом. – Потом… потом… что?
Ответа не было. Там, где раньше в голове вспыхивал привычный порядок действий, теперь зияла гладкая пустота. Как ни напрягали память, шаги рецепта рассыпались, словно их стёрли влажной тряпкой с доски. Руны сажи вспыхнули разом – и один за другим погасли, оставив после себя только толстый чёрный налёт.
В тот же миг что-то надломилось не только в храме. В далёком придорожном трактире повариха вдруг остановилась над котлом: пар поднимался, овощи плавали, но она не могла вспомнить, чего ждёт от этого супа. На городской гильдейской кухне юный ученик понял, что не знает, когда снимать кастрюлю с огня, хотя делал это каждый день. В маленьком сельском святилище свеча над хлебом и солью погасла безо всякого ветра.
Незримая сеть, соединявшая гастромагию мира с храмом Сольтена, рвалась по всем узлам. Заклинания вкуса молчали, ингредиенты оставались просто едой, ложки – просто металлом. Там, где раньше мягко дрожало ощущение правильного блюда, вставала пустая, сухая стенка голода.
Когда своды окончательно обрушились и котёл провалился в разверзшуюся под ним трещину, с ним ушло и последнее эхо Первого Бульона. Храм умирал в облаке гари, а вместе с ним умирала и гастромагия. Мир ещё не знал, как это назовут, не видел впереди выжженных полей и пустых тарелок, но именно в этот день началась эпоха голода, и вкус стал всего лишь свойством пищи, а не силой, способной менять судьбы.
Века медленно нарастают поверх руин Сольтена, как холодные слои застывшего жира на остывшем бульоне. Камни храма давно осели, его котлы заржавели и ушли в землю, а о взрыве Первого Бульона говорят всё реже. Сначала – как о бедствии, потом – как о наказании, а ещё позже – как о страшной сказке для непослушных детей.
Старухи у очагов пересказывают одну и ту же историю: будто когда-то люди разозлили богов Вкуса и те выжгли из мира все рецепты, оставив только голод. В их устах чёрный огонь становится зверем, пожирающим поваров, котёл – пастью, а храм – башней, рухнувшей в бездну. Детям шепчут, что если много мечтать о чудесной еде, придёт безвкусная тьма и заберёт последнюю крошку хлеба.
Так память о катастрофе превращается в набор кривых образов. Имена мастеров забываются, сольевые коды стираются, остаётся только расплывчатый образ «старого храма, где всё взорвалось». Никто уже не говорит «Первый Бульон» всерьёз – разве что в присказках о супе, который был настолько вкусным, что его до сих пор ищут глупцы. Мир, не умея вспомнить детали, отмахивается от них.
Места силы пустеют. Маленькие святилища, где когда-то благословляли хлеб и соль, стоят с выбитыми дверями, превращённые в сараи и склады. Каменные плиты кухонных алтарей служат ступеньками к амбарам, древние чугунные котлы приспособлены под поилки для скота. Люди ходят по ним, не чувствуя ни дрожи, ни шёпота – магии больше нечему шевелиться.
Остатки гастромагии прячутся глубоко, как последняя тёплая уголька в почти погасшем очаге. В трещинах старых котлов ещё задерживается слабая тень былого жара, но никто не умеет её разжечь. Ржавчина медленно зарастает надписями и знаками; где когда-то были руны соли, теперь только неровные полосы, по которым пальцы скользят без всякого отклика.
Иногда кто-то чувствует странное. Мальчик в далёкой деревне, помешивая похлёбку, вдруг понимает, что «так будет вкуснее», но не может объяснить, почему. Девочка в городе один раз угадывает, что в чужом супе не хватает кислоты. Эти всплески похожи на отголоски умирающего эха: едва прозвучав, они тонут в суете, и взрослые тут же приучают детей забывать «глупые ощущения».
В больших городах эпоху голода давно уже называют иначе – просто тяжёлыми временами. Склады снова наполняются зерном, рынки шумят, но еда остаётся плоской, как плохо раскатанная лепёшка. Варят супы, жарят мясо, сушат травы, однако всё это – ремесло, а не чудо. Никто не ждёт, что ложка способна утешить боль или наладить судьбу; пища всего лишь поддерживает жизнь.
Учёные спорят о том, существовала ли когда-то настоящая гастромагия, или рассказы о ней – преувеличения стариков. В трактатах прошлых веков они видят только туманные описания и необычные метафоры, списывая их на поэтический склад мышления предков. Слова «место силы», «говорящий котёл», «память бульона» окончательно переезжают из практических записей в разделы легенд и народных суеверий.
Никто больше всерьёз не верит, что древний вкус может вернуться. Даже те, кто рассказывает сказки у очага, не ждут, что из темноты вдруг выйдет храм, восстановится котёл и закипит тот самый бульон, способный соединить разорванные нити мира. Вкус превратился в привычку, голод – в норму, а надежда на чудо – в старую, как пережаренное масло, шутку, над которой уже давно не смеются.
На пепелище прежних пиршеств вырастают новые поколения, которые уже не помнят, что еда когда-то могла быть чудом. Для них «эпоха голода» – не страшная рана, а всего лишь строчка в летописи, как война или неурожай. Они рождаются в мире, где суп – это просто горячая вода с овощами, а не обещание тепла, и потому относятся ко всему загадочному настороженно, как к дурной шутке предков.
В городах дети вырастают среди дымных харчевен, где кашу варят по одной-двум выученным схемам, и никто не спрашивает, можно ли иначе. Стоит кому-то сказать, что «чувствует, как надо», – его осаживают смешком: вкусу не верят, верят только мерке и времени на песочных часах. Подростки передразнивают стариков, рассказывающих про говорящие котлы и бульон, лечащий сердце, – эти истории кажутся им таким же смешным суеверием, как духи в печных трубах.
Храмы, когда-то наполненные запахом трав и жареного хлеба, превратились в развалины и склады. В одном бывшем святилище держат соль в мешках, в другом – амбары с зерном, в третьем – навесы для повозок. Каменные бассейны для омовений стоят забитые пустыми бочками, а выщербленные котлы у стены служат поилками для скота. Лишь редкие резные ложки на потолочных балках напоминают, что здесь когда-то молились над едой.
В деревнях ещё можно встретить чернеющие от времени столбы с выцветшими символами соли и пламени, но крестьяне отворачиваются от них, как от дурного знака. Местные проповедники объясняют людям, что старые кулинарные гимны – ересь, опасное наследие «гордых поваров, возомнивших себя богами». Любая попытка говорить о возврате гастромагии звучит как призыв к бедствию, и от таких разговоров отмахиваются, как от заразной болезни.
В училищах ремесленников учат точным нормам и сухим таблицам: сколько зерна на сколько воды, сколько соли на бочку рыбы. Учителя гордятся тем, что «очистили» традиции от сказок и магических «примесей». На стенах висят схемы очагов, но не древние руны вкуса, а аккуратные чертежи вентиляции и расхода топлива. Чем ровнее получается каша, тем лучше считается работа.
И всё же память о прошлом не исчезла полностью. Она прячется в словах, которые уже почти никто не понимает: «наваристый», «душистый», «утешительный». Эти слова иногда вырываются у стариков при виде особенно удачного отвара, но молодёжь лишь усмехается: утешать может разве что полный живот, а не какой-то там «душистый пар».
Только в архивах монастырей сохранились слабые тени старой кулинарной власти. В холодных, пахнущих плесенью комнатах под сводами хранятся свитки с выцветшими схемами котлов, таблицы времён вываривания, записи о странных «согласованиях вкусов» и молитвы, начинающиеся словами «да утихнет голод в сердце…». Монахи аккуратно переписывают эти тексты, но относятся к ним как к любопытным древностям, а не к рабочим наставлениям.
В одном таком монастыре старший архивариус иногда задерживает палец на строчке, где говорится о бульоне, способном «связать разорванное». Подушечки пальцев едва заметно жжёт, будто под слова подложили тёплый камень, но он тут же отдёргивает руку, крестится и шепчет дежурную фразу: «Сказки, не более». Власть старой кухни живёт здесь как едва заметный привкус в воде из колодца – отличить его почти невозможно, и потому никто не верит, что древний вкус может когда-нибудь вернуться.
Со временем сама легенда о Первом Бульоне стала удобной шуткой для чудаков и безумцев. В трактирах к ней обращались, когда хотели высмеять очередного мечтателя: «Да-да, конечно, сваришь нам Первый Бульон, а потом тарелки сами запляшут». В лавках переписчиков ею пугали неопытных подмастерьев: мол, слишком много читать вредно, можно поверить в говорящие котлы. Даже монахи, хранящие пыльные свитки, произносят эти слова с осторожной улыбкой, будто пробуют зачерствевший хлеб, который давно уже ничего не значит.
И всё же в каждой шутке остаётся крохотная, упрямая кость правды, которую не смогли разварить ни века, ни недоверие. Среди пепла, заросших мхом плит и перекособоченных стен, там, где когда-то стоял главный зал Сольтена, уцелело то, о чём никому не рассказывают. В глубокой трещине старого основания, между обломками камня и спёкшейся земли, лежит осколок черпака – потемневший, с застывшими соляными знаками, едва различимыми под слоем ржавчины.
Он не похож на великий артефакт. С боку – просто кусок металла странной формы, слишком тяжёлый для украшения и слишком кривой для обычного инструмента. На него наступают сапогами охотники, касаются копытами кони, по нему царапают лезвиями, когда разбирают камень на стройку, – и всё равно осколок упорно сползает обратно в тень, словно сам выбирает, кому позволить себя увидеть по-настоящему.
Иногда ветер, гуляющий по развалинам, задевает старые трещины так, что внутри слышится тихий, почти неразличимый звон, будто кто-то вдалеке коснулся ложкой края котла. Прохожие списывают этот звук на камушки, скатившиеся в расщелину, или на эхо чьего-то голоса. Но в самом металле что-то откликается – слабым толчком, крохотным напоминанием о том, что когда-то он знал вкус, который связывал людей, как нити бульона связывают кусочки в супе.
Осколок дожидается не сильного и не знатного, а того, кто сумеет различить в этом глухом отклике не просто шорох, а голос. Голос вкуса – не сладкий, не солёный, не горький, а тот самый, который заставляет сердце ёкнуть и сказать себе: «Вот так должно быть». Тысячи ног прошли мимо, сотни глаз скользнули по ржавчине, но никто ещё не остановился именно там, где металл чуть-чуть теплее окружающего камня.
Монастырские архивы хранят тени старой власти, но не знают, что ключ к ним давно валяется под открытым небом. Учёные спорят о том, возможно ли вернуть утерянную гастромагию, – для одних это ересь, для других пустая забава, тема для толстых книг и тонких насмешек. А осколок просто лежит, слушает, как через века меняются голоса и запахи, и ждёт того единственного дыхания, которое узнает его, как узнают родной аромат из детства.
Так рождается новая история – не в громких спорах учёных и не в пьяных песнях трактиров, а в беззвучном ожидании куска металла в каменной трещине. История Тейра ещё не началась: где-то далеко мальчик с острым языком только учится различать, когда суп по-настоящему плох, а когда взрослые врут себе, что «и так сойдёт». Его сердце всё время спотыкается о сомнения, словно о невидимые камни, и именно в этом спотыкании прячется то, чего так не хватает миру.
Когда-нибудь его дорога обязательно пройдёт через старые руины, среди мха, пыли и забытых легенд. И тогда осколок черпака дрогнет чуть сильнее, чем от ветра, а в голове у Тейра впервые прозвучит тот самый истинный голос вкуса, которого давно никто не слышал. С этого тихого, почти незаметного звона и начнётся история, способная разбудить то, что мир привык считать сказкой.
ГЛАВА 1. ДИТЯ РУИН
Мокрое серое утро сползало по обломкам Храма Сольтена, как остывший, слишком жидкий соус по краю треснувшей тарелки. Туман вязко висел между обгоревшими колоннами, цеплялся за острые края камня, просачивался в распахнутые трещины старых котлов, давно вросших в землю. Дождь моросил мелко, лениво, превращая пепел под ногами в грязную кашу, и казалось, что сам воздух здесь разбавлен водой до безвкусия.
У верхних ступеней, где когда-то начиналась дорога к пиршественному залу, теперь зиял только разлом, затянутый мхом и хилой травой. В этом сером, промокшем молчании появление младенца выглядело почти нелепым: крошечный свёрток, оставленный прямо на пороге разрушенного входа, среди щербатых плит и ржавых обручей от котлов. Тряпица, в которую был завернут ребёнок, промокла по краям, потемнела, но на её середине всё ещё угадывался выцветший узор: круглая линия, похожая на черпак, и от неё расходились тонкие, почти стёртые штрихи, как волны бульона.
Младенец плакал хрипло и упрямо, будто споря с пустотой вокруг. Его голос, тонкий, срывающийся, разрезал туман, как случайный луч света, прорвавшийся через дыру в облаках. Плач не походил на отчаянный вопль брошенного – скорее на настойчивое требование: обратите внимание, я тут. Но вокруг, кроме развалин, никого не было. Лишь ветер, бродящий по руинам, подхватывал этот звук и разносил по мёртвому храму, заставляя его многократно отозваться в провалах и пустых оконных проёмах.
Настоятель монастыря Ксанн остановился у подножия ступеней, долго не поднимая головы. Сюда он приходил часто – молча обходил остатки священной площадки, проверял, не разорили ли местные добытчики камня очередной фрагмент стен, иногда читал про себя строки из старых летописей. Сегодня его вывел из монастыря ранний звон – не колокольный, а тот самый, живой, детский, рвущийся сквозь утреннюю сырость.
Он поднялся по ступеням медленно, как поднимаются к могиле: привычно, без надежды на чудо. Увидев свёрток, Ксанн не вздрогнул и не стал оглядываться в поисках свидетелей. Просто наклонился, и промокшая тряпица чуть развернулась, открывая сжатые красные кулачки и сморщенное лицо, на котором между складочек уже появилась упрямая морщинка над переносицей. Младенец вдохнул глубже и выкрикнул новый протест миру.
Ксанн взял его на руки, не перекрестившись и не произнеся ни молитвы, ни проклятия. Тело было тёплым, удивительно тяжёлым для такого маленького комочка, как плотный, хорошо вымешанный ломоть теста. В тот момент, когда он прижал ребёнка ближе к груди, из-под сырой материи, сквозь запах пепла и сырости, пробился другой аромат – тихий, едва уловимый, как воспоминание, от которого давно отвык: жареный хлеб. Не просто мука на огне, а именно тот момент, когда корочка уже схватилась, но ещё не почернела, когда запах поднимается выше крыши печи и заставляет даже сытых оглядываться.
Этот запах был настолько не к месту, что Ксанн чуть задержал дыхание. Он стоял среди руин, где годами пахло только мокрым камнем, гарью и холодным металлом, и вдруг аромат хлеба – не яркий, не навязчивый, а тонкий, проскальзывающий между каплями дождя. Настоятель сдвинул брови, но не опустил взгляд на тряпицу, будто боялся, что, если посмотрит внимательнее на выцветший узор черпака, запах исчезнет.
У стен всё ещё пахло пеплом и пустотой. Ни шороха живой листьев, ни скрипа повозок, ни шагов паломников – только ровное, вязкое молчание, да капли, стекающие с обломков. Храм, когда-то гудевший голосами, теперь был похож на огромный, навсегда остывший котёл: внутри – только вода, в которой уже ничто не варится. И единственным живым звуком в этой безвкусии оставался плач ребёнка, который, уткнувшись носом в грубую ткань рясы Ксанна, всё равно продолжал хлюпать, будто не собирался мириться с тем, что его первый вдох пришёлся на руины чужого величия.
Решение Ксанна никому он вслух не объяснял. В монастыре шептались, предлагали отдать найденыша в деревню, пристроить к ремесленникам, но настоятель только качнул головой и велел принести в архив старую колыбель из кладовой. Так младенец поселился там, где не слышно было ни крика базарной площади, ни лая дворовых псов, а только шелест страниц и редкое покашливание переписчиков.
Архив занимал длинное, низкое крыло, примыкающее к руинам храма. Узкие окна пропускали мало света, зато внутри всегда держалось ровное, печное тепло. Запылённые полки тянулись рядами, будто рёбра огромного зверя, набитого свитками и манускриптами. Пахло старой бумагой, мышиными следами, ламповым маслом и чем-то ещё – сухим, пряным, упрямо невыветривающимся, как запах давно закрытой кухни.
Когда малыш подрос настолько, что смог ползать, его первым «миром» стала именно эта библиотечная клетка. Он тянулся к шуршащим листам, хватал пальцами пыль с ободранных переплётов и неизменно тащил её в рот, морщась, но не сдаваясь. Ксанн оттаскивал его от нижних полок, ворчал, но вскоре смирился: пусть лучше грызёт старую тряпицу с выцветшим черпаком, чем редкие записи. Так среди манускриптов рос ребёнок, который раньше узнал вкус пыли и холодного чернильного пера, чем сладость тёплого молока.
Имя ему дали тоже в архиве. Настоятель долго перебирал обрывки древних текстов, пока взгляд не зацепился за слово на полях: «тейр» – так когда-то называли крошку хлеба, упавшую в бульон, но не утонувшую. Ксанн провёл пальцем по выцветшим буквам и тихо произнёс это вслух, будто пробуя на языке. Мальчик в колыбели шевельнул губами, издевательски чихнул и захныкал, словно не соглашаясь, однако имя к нему прилипло так же крепко, как тёплая корочка к пальцам.
О легендах Тейр слышал раньше, чем научился уверенно ходить. Монахи, переписывая старые кулинарные свитки, невольно вслух бормотали обрывки фраз: «…бульон, что связывает…», «…ложка, помнящая голос…», «…вкус, успокаивающий сердце…». Для ребёнка это были просто странные, красивые сочетания слов, шепот, под который он засыпал на грубой подстилке между шкафами. Ксанн иногда, забывшись, рассказывая ему сказки, вставлял в них упоминание храма и Первого Бульона, но всякий раз осекался и переводил всё в шутку: дескать, придумали древние, чтобы дети лучше ели похлёбку.
Сама похлёбка в жизни Тейра была всегда одинакова – жидкая, с редкими островками крупы, чуть тёплая к тому времени, как её приносили в архив. Ему доставались хлебные корки: твёрдые, с зачерствевшими краями, изредка – кусочек помягче, если на кухне случайно переборщили с пайкой. Мальчик научился выедать из этих кусков всё возможное, соскребать крошки с края миски, ловить в ложке редкие плавающие зёрна так, будто это было самое ценное в мире.
Мир за стенами храма казался ему суровой, холодной картинкой в узком оконце. Там, внизу, под откосом, стучали колёса телег, ругались возчики, в грязи валялись собаки, и оттуда тянуло дымом и сыростью. Иногда Тейр выходил во двор помогать послушникам таскать поленья, и снег или дождь мгновенно пробирали его до костей, как холодная вода – насквозь промокшую одежду. Люди на улице проходили мимо, не поднимая глаз, и мальчик быстро понял: от них не стоит ждать ни улыбки, ни лишнего куска.