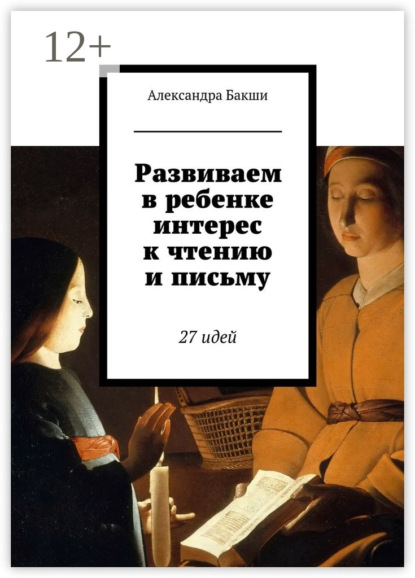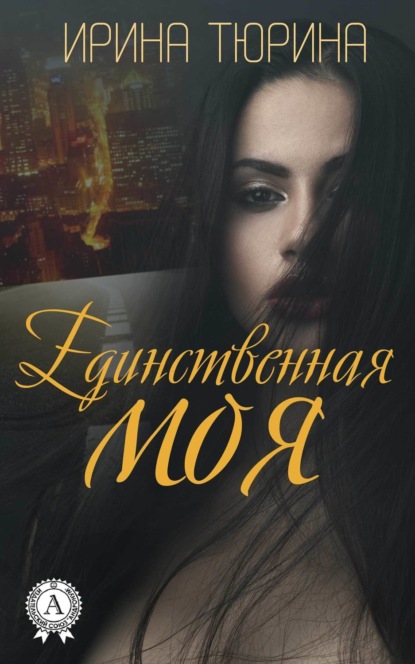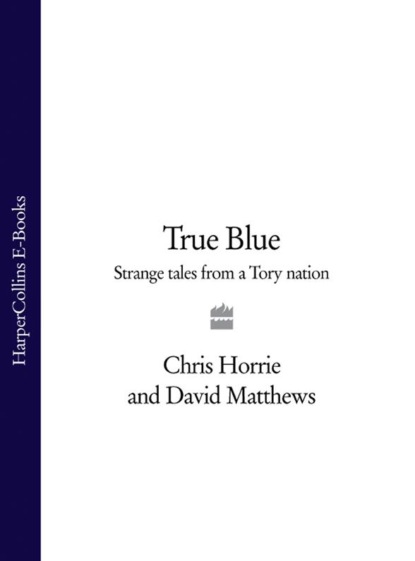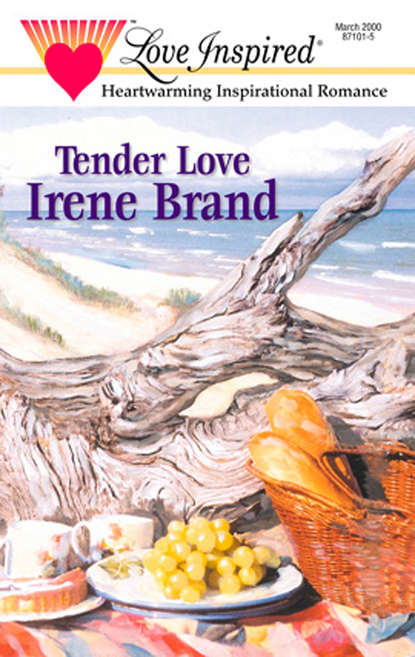Лев Толстой: Дух истины. Опыт трезвения. Диалоги с Дм. Мережковским

- -
- 100%
- +
Я тогда уже смутно чувствовал, что в моей книге был не совсем справедлив к нему и что, несмотря на глубочайшие умственные расхождения, Толстой мне все-таки ближе, роднее Достоевского.
Некоторыми дополнительными подробностями о состоявшемся разговоре в предельно тактичной манере поделилась и Зинаида Гиппиус, отметив оживлённый тон Толстого, и что «когда он обращался к Мережковскому, чувствовалось, что книгу его о себе он читал»:
Мы говорим, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свою зарубку, начинает восхвалять «здравый смысл». – «Здравый смысл – это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен, и человек знает, куда ставить ноги…»
Самый тон такого преувеличенного восхваления «здравого смысла» раздражает меня, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение «здравому смыслу», понятию к тому же весьма условному… и вдруг спохватываюсь. Да на кого это я кричу? Ведь это же Толстой!
Разумеется, заговорили ещё и «о воскресении, о личности» – темы эти, как известно, вызывали у Толстого особенно бурную реакцию. Но накала страстей не случилось:
…вдруг Толстой произнес ужасно просто, потрясающе просто:
– Когда умирать буду, скажу Ему: в руки Твои предаю дух мой. Хочет Он – пусть воскресит меня, хочет – не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет… После этих слов мы все замолчали и больше уж не спорили ни о чем.
Может показаться, что последними своими словами Толстой проявил особо доверительное отношение к своим собеседникам, приоткрыв им свою душу. Ничуть. Он просто таким образом «закруглил» разговор. Вот почему всё следующее утро «проговорили втроём» – «хорошо», а по сути ни о чём:
Толстой был весел, куда веселее вчерашнего. Коренных и спорных тем не касались, говорили хорошо обо всем.
В отличие от салонно-манерных Мережковских писатель Максим Горький, хорошо изучивший характер Толстого, с пролетарской прямотой объяснил всё как есть, когда это коснулось его самого:
Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы – о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что всё это было бы
«не в коня корм».
Тем не менее, картину посещения Мережковскими Ясной Поляны завершает прекраснодушная пастораль, которую нарисовала Гиппиус, оживив её бородой Льва Николаевича и поющими жаворонками:
Подали лошадей. Толстой вышел нас провожать на крыльцо. Трава блестела, мокрая от ночного дождя. На солнце блестела и белая, с желтизной, борода Льва Николаевича, а сам он ласково щурился, пока мы усаживались в коляску.
И мы уехали – опять через поля, где еще пронзительнее вчерашнего пели-смеялись жаворонки…
Послевкусие же от той встречи, согласно последовавшим затем признаниям её участников, оказалось не столь благодушно-поющим. Что же на самом деле скрывалось за ласковым прищуром старца и за обтекаемой фразой Гиппиус «говорили хорошо обо всем»?
После отъезда Мережковских Толстой в тот же день, 12 мая 1904 года, написал дочери, М. Л. Оболенской, что он действительно чувствовал:
Сейчас уехали Мережковские. Этих хочу любить и не могу.
И это при том, что ранее, еще до их приезда, он оставил в своём дневнике от 21 марта 1904 года нравоучительную запись:
Дело христианина не судить, а любить
Эта внутренняя неприязнь, которую Толстой испытал по отношению к Мережковским во время их встречи, и, в первую очередь, к своему непримиримому критику, не выглядит странной, если вспомнить о том, что он всегда предельно остро реагировал на любую недоговоренность и фальшь со стороны своих собеседников.
Странная искусственность, обращающаяся подчас в болезненную и неприятную игру, – вот первое впечатление от Мережковских, донесённое до нас многими мемуаристами, —
отмечает биограф Ю. В. Зобнин, характеризуя всем известные, вызывающие нравы четы Мережковских. И прибавляет важную деталь о их брачном союзе:
причем все без исключения отводят здесь Мережковскому второстепенную, пассивную, а то и «страдательную» роль: «режиссером» и «главным исполнителем» всюду оказывается его жена.13
А потому на богемном силуэте Зинаиды Гиппиус, известной своей скандальной репутацией «декадентской мадонны», нам следует остановиться особо. Наиболее выразительное и беспощадное описание её облика, на каждой линии которого лежит отпечаток распада, дал Андрей Белый, некоторое время друживший с Мережковскими. Вот его первое впечатление о Гиппиус, которая была словно создана для пера Обри Бёрдслея, апостола изощрённого уродства и демонической красоты:
Из качалки – сверкало, то Зинаида Гиппиус, точно оса в человеческий рост… ком вспученных красных волос (коль распустит – до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаясь пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подставке; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блеском пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленявшую сатану.
Несомненно, перед нами один из тех женских персонажей Бердслея, о которых Элберт Хаббард очень метко сказал:
Психология взглядов, подглядываний, ухмылок, горячих и лихорадочных желаний на лицах его женщин – это загадка, от которой мы не можем отмахнуться: мы хотели бы разгадать этот парадокс существования – женщину, чья душа – трясина, а сердце – ад.
<…> Героини Бердслея – это женщины, способные убить мужчину миллионом булавочных уколов, нанесенных так дьявольски тонко и изощренно, что никто, кроме пострадавшего, не будет догадываться о неизбежной мученической смерти – и объяснить свою смерть он не сможет.14
Душан Петрович Маковицкий, домашний врач и биограф Толстого, не присутствовал на встрече, но в привычной для себя манере, со стенографической точностью зафиксировал в своих «Яснополянских записках» некоторые важные подробности, которые он услышал от самого писателя и близких к нему людей.
Так, в записи от 26 декабря 1904 года приведены слова дочери писателя, Александры Львовны, о Зинаиде Гиппиус:
В каком-то журнале попалась фотография Мережковской-Гиппиус в декадентском платье, похожем на мужской костюм. По этому поводу разговор коснулся ее. Александра Львовна рассказывала про Мережковскую:
– Декадентски одетая; когда говорила с отцом, то делала это с снисходительностью.
Записал Маковицкий и крайне важное критическое замечание Толстого о Мережковском:
он балуется верой. Это хуже, чем если человек занимается верой из славолюбия, честолюбия или корыстолюбия.
А от себя Маковицкий добавил:
Мережковский написал книгу о Достоевском и Толстом, видна в ней враждебность к Толстому.
Жена же Мережковского писала, что и перед приездом ее муж с любовью относился к Л. Н. и что он уехал с той же любовью, с какой приехал.
К этой особенной «любви» Мережковского мы вернёмся чуть позже, а сейчас отметим только характерную реакцию Александры Львовны, которую зафиксировал кропотливый биограф :
Мережковскую бы взять за шиворот и выбросить ее!
В дневнике от 27 мая 1905 года Маковицкий записал гневную реплику Черткова Владимира Григорьевича, близкого друга и соратника Толстого. Чертков возмущался поступком Мережковского:
Как он мерзко писал о Льве Николаевиче! Ведь ему перестали руку подавать. Как он мог после этого к вам приехать?
Примечательно, что Толстой вместо слов осуждения, которые от него ожидали услышать,
не выказал никакого недоброжелательства к Мережковскому.
Как видно, всеми силами Толстой не хотел проявлять к нему свою нелюбовь, памятуя о «деле христианина»:
Как вся вода вытечет из ведра, если в нем будет хоть одна дырочка, так и все радости жизни (любви) не удержатся в душе человека, если в нем будет нелюбовь хоть к одному человеку.15
А согласно более поздней записи от 26 июля 1905 года высказался негативно только о декадентстве, которым увлекся Мережковский, но не лично о нём:
– Все это декадентство – полное сумасшествие. Тут некоторая ограниченность – не преувеличиваю – есть и малообразованность, пожалуй; необразованности нет.
В другой раз, 14 декабря 1906 года, когда разговор зашел о «мережковцах-соловьевцах», Толстой воздержался от крайне нелицеприятной оценки их нравственных качеств, а только выразил мысль о том, что
поражается той каше, какая у них происходит: «Это, я думаю, могло возникнуть путем той лжи воспитания, суеверий, праздности, какие переходили из поколения в поколение.
Зато о писательском даровании Мережковского, который мнил себя крупным художником, Толстой в своих оценках был куда более суров. И об этом можно судить по двум эпизодам из «Записок».
Однажды, 8 мая 1906 года, когда «зашла речь о романе Мережковского из времен Петра», Толстой высказался предельно ясно, что он думает об авторе:
Я читал конец. Мережковский не художник.
Кажущаяся простота формулировки не должна вводить в заблуждение. Она убийственна. Кто пишет, тот знает: cказать о творце, что он не художник – это как приговор. Особенно, если его вынес Толстой.
И по поводу романа он добавил:
…события описывает по источникам художественно, а потом рассказывает от себя как историк – не выдерживает художественного тона. Он очень умный и образованный, но не художник. В первом томе трилогии, в «Юлиане Отступнике», описывает борьбу язычника и не знает христианства, уравнивает его с православием, католичеством.
Присутствовавший при этом разговоре Александр Сергеевич Бутурлин, революционер-народник, с которым Толстой на протяжении многих лет поддерживал дружеские отношения, деликатно отметил:
И странные названия дает своим сочинениям. За границей его читают, переводят по-французски. В сочинении «Толстой и Достоевский» вас критикует.
И снова примечательна непротивленческая реакция Толстого, который, по словам Маковицкого,
заметил что-то, из чего видно было, что знает это сочинение, но не досадует на него и не приходит ему на ум нападать на него.
В другой раз, 22 августа 1906 года, когда разговор коснулся Леонардо да Винчи и романе Мережковского о нём, художник Михаил Васильевич Нестеров, который, по собственному признанию, нашел тогда «громадную нравственную поддержку» в Толстом и делал в те дни его наброски для будущего своего знаменитого полотна «На Руси (Душа народа)», вдруг высказался, будто прочитал мысли великого писателя:

Портрет Л. Н. Толстого, Художник – М. В. Нестеров
А Мережковский не художник. Где от себя пишет, скучен. Где у него материал, интересен.
И Толстой согласился:
Вы правы.
А теперь, чтобы понять, в чём же заключалась «любовь» Мережковского к Толстому, о которой упомянул Маковицкий, обратимся к ещё одному свидетельству Зинаиды Гиппиус. Она облекла его в художественную форму рассказа, главный герой которого Андрей во многом списан с её мужа в период его ранних духовных исканий:
С никогда не испытанным чувством радостной и мирной печали ехал Андрей из Ясной Поляны. Он так и не спросил «учителя» о том, о чем хотел спросить. Но и не мог бы, и уже не нужно ему было спрашивать.
«Учителя» перед ним не было. Был живой, страдающий человек, который всю жизнь искал – и нашел, и узнал что-то; но Андрею было ясно: то, что он знает, – он знает только для одного себя. Великое знание, – но навеки для одного себя, для самого себя.
Андрей увозил из Ясной Поляны новое чувство: горячую, близкую любовь к человеку, к такому, как он есть. Да, он родной, близкий, он
несчастный, —
он, может быть, еще несчастнее Андрея; потому что знать только для себя одного – тяжелее, чем не знать ни для кого, – не знать вовсе.
Его не надо спрашивать.
А только любить.
При первом знакомстве с рассказом, не погружаясь глубоко в его содержание, у читателя может возникнуть вопрос: что же здесь необычного? На первый взгляд, всё кажется вполне безобидным и даже трогательным.
По-моему, хорошо.
поделился своим впечатлением Маковицкий о том как
В «Новом пути» Философова (в ноябрьском номере) Гиппиус, жена Мережковского, описывает в повести «Suor Maria» свое посещение Ясной.
Но стоит подойти поближе, и вас охватывает оторопь: вы видите, что прекрасные женские руки, написавшие эти строки, заканчиваются… волосатыми когтями.
Перед нами «каша из мёда и лжи» о Толстом, которую Гиппиус со свойственным ей изощрённым вкусом приготовила для читателей.
Тогда почему Маковицкий, человек твёрдых нравственных принципов, близкий и преданный друг Толстого, отреагировал положительно? Лев Николаевич сам дал ответ:
Милый, кроткий, чистый.
Так просто и тепло Толстой отозвался о Маковицком, когда тот посетил Ясную Поляну в ноябре 1897 года. Позже писатель часто завершал письма к нему словами:
Братски целую вас.
Любящий вас Лев Толстой.
Трудно обойти вниманием и другой эпизод, характеризующий отношение Толстого к Маковицкому. В ноябре 1910 года, когда Лев Толстой спешно и бесповоротно покидал Ясную Поляну, он с удивительной трогательностью обратился к своему верному спутнику, Душану Петровичу, словаку по национальности:
Уж который год я наблюдаю за вами, и всё время удивляюсь, до чего ж вы добрый человек, дорогой мой Душан Петрович. Только в Словакии такие и родятся.
Гиппиус же, напротив, не доставало ни кротости, ни милости, ни чистоты. Похоже, что она не читала ответ Толстого Синоду и его «Христианское учение», а если и читала, то совершенно не поняла сути открывшейся ему истины и той радости и спокойствия духа, которые испытал «несчастный» на пути к своей вере.
Скорее, это герой её рассказа Андрей [читай: Мережковский] так и остался «навеки для одного себя, для самого себя», а не «близкий» ему Учитель, якобы знающий «только для себя одного».
В борьбе за своё самосохранение Мережковский отгородился от всех и строил себе свой личный храм, изнутри себя. Я и культура, я и вечность – вот его центральная, его единственная тема… —
холодным как скальпель пером охарактеризовал Мережковского Лев Троцкий, который нередко с революционно-отточенной остротой высказывался на темы искусства. В контексте нашего повествования к этим словам можно добавить один важный сюжет, вокруг которого особенно пылко самоутверждался философ: «Я и Толстой». И, как мы увидим далее, этот сюжет перерос для него в ещё более значимый – апостольский: «Я и Христос».
Мог ли Толстой «возлюбить» такого отгородившегося от всех Мережковского?
А что касается «горячей» любви Андрея к Толстому, которую он увозил с собой из Ясной Поляны, то была ли эта любовь действительно искренней и глубокой – «близкой любовью к человеку, к такому, как он есть»? Для Мережковского и Гиппиус любовь к людям, особенно к тем, кто своим существованием бросал вызов их исключительности, часто носила оттенок жалости и снисхождения. Ведь только так они могли сохранить своё превосходство. А потому любовь их к этим «несчастным» – немощным или юродивым, таким как Толстой – была ядовитее укуса гадюки…
Чтобы продемонстрировать, какие отношения Толстой считал самыми «близкими и твердыми» в людях, обратимся к письму, написанному им в период с 24 по 28 июля 1910 года его верному соратнику и секретарю Виктору Лебрену. О том, насколько высоко Толстой ценил моральные качества своего помощника, говорит хотя бы тот факт, что он доверял ему самостоятельное составление ответов на поступавшие письма.
Спасибо вам, милый Лебрен, и за короткое письмецо. Вы один из тех людей, связь моя с которыми твердая, не прямая от меня к вам, а через бога, казалось бы самая отдаленная, а, напротив, самая близкая и твердая, не по хордам или лучам, а по радиусам…
Многие, кто тогда приезжал к Толстому за советом, за правдой, искали в нём в первую очередь поводыря, пророка и мудреца, который бы взял их за руку и открыл для них бога. А потому, оставаясь в плену своей веры в чудесного старца, они оказывались бесконечно далеки и от него, беспощадно низвергавшего идолов, и от бога. Они забывали простые слова Толстого:
У меня учения никакого нет. Правда одна во всех учениях.
Как повествует рассказ Гиппиус, Андрей не «уверовал» слепо в Толстого и «Учителя» в перед собой не увидел: перед ним «был живой, страдающий человек, который всю жизнь искал – и нашел». Но, оказавшись на пороге единой для всех правды Толстого, переступить через себя и в «связь» с ним войти Андрей так и не смог. Да и могла ли возникнуть связь «через бога» у Толстого с тем, в ком обитала одна исключительность и не было бога?
Что касается ответных чувств отвергнутого Мережковского, то он не остался в долгу: по свидетельству Гиппиус, до конца своих дней он не принимал «религию Толстого». И понятно почему: он спутал правду Толстого с религией.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/religiya/kratkoe-izlozhenie-evangeliya/index.htm
2
http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/religiya/evangelie/evangelie-1.htm
3
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0500.shtml
4
https://tolstoy-lit.ru/
5
http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_1902_tolstoy_i_dostoevsky.shtml
https://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/merezhkovskij-tolstoj-i-dostoevskij/vstuplenie.htm
6
http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_0280.shtml
7
https://merezhkovskiy.lit-info.ru/merezhkovskiy/kritika-mer/nevoennyj-dnevnik-1914-1916/chaadaev-1794-1856.htm
8
https://merezhkovskiy.lit-info.ru/merezhkovskiy/kritika-mer/bylo-i-budet/smert-tolstogo.htm
9
https://tolstoy-lit.ru/tolstoy/public/merezhkovskij-zelenaya-palochka.htm
10
Источник: https://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/makovickij-yasnopolyanskie-zapiski/index.htm
11
http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0180.shtml
12
Перцов, Пётр Петрович (1868 – 1947) – литературный критик, публицист, искусствовед, поэт, прозаик, издатель, литературовед. Один из инициаторов символистского движения в русской литературе. Близкий друг Дм. Мережковского,
13
Цит. по: Ю. В. Зобнин, «Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния». Издательство «Молодая гвардия», г. Москва, 2008 г..
14
Перевод мой — В. Ц. Цит. по: Элберт Хаббард, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэль. /Пер. с английского – В. В. Цылёв. «Издательские решения», 2025.
15
Дневник от 1907 г.