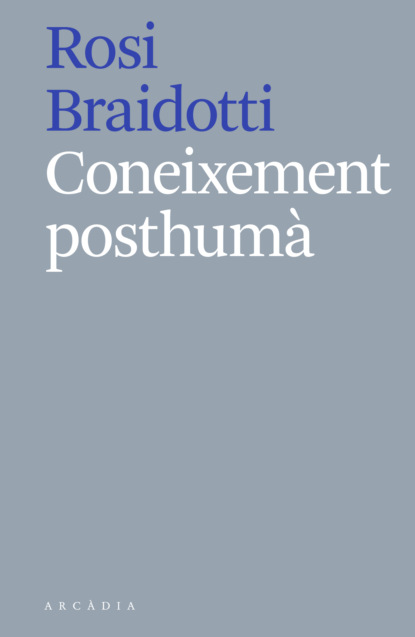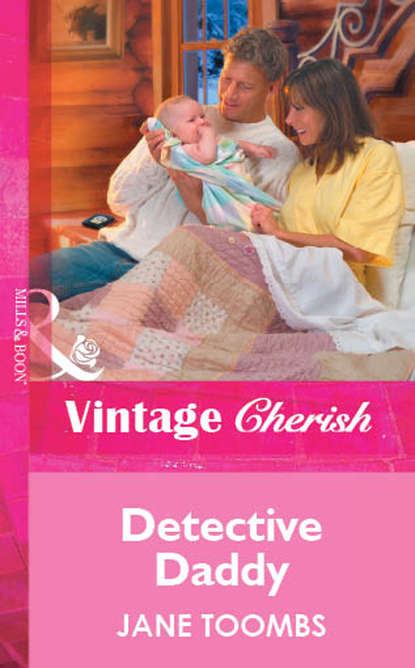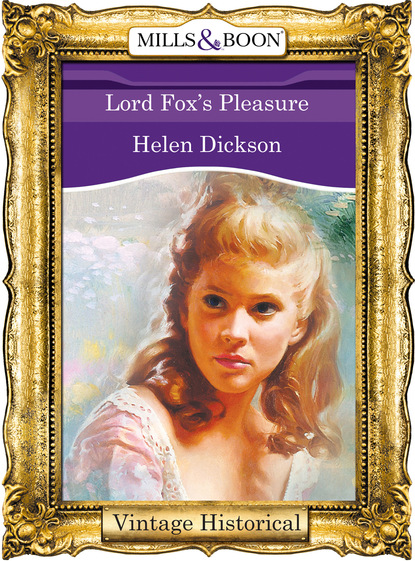Земля под снегом

- -
- 100%
- +
Она отнесла чашку с блюдцем на кухню, поставила в раковину и вышла в прихожую. Оказалось – почта. Она была рассыпана на коврике. Перебрала ее, ища голубой конверт авиапочты, розовые марки с реактивным лайнером, с куполом здания, напоминающего собор Святого Павла, – Капитолий, кажется? Или Сенат? Она ждала письма, но Вероника ненадежная корреспондентка. Неделями ничего, потом вдруг страницы и страницы крохотным почерком, сплошь сплетни и хихи-хаха. И порой посылка – впрочем, с лета не было ни одной. Ну, сестра занятой человек. У нее работа! Работа плюс муж.
Вся почта была Эрику. По большей части, похоже, счета, которые он имел смешную привычку просто выбрасывать. Она положила все это на шкафчик с проигрывателем и пластинками и вернулась на кухню. Вдруг почувствовала сильную жажду, жажду и голод. Стоя выпила перед раковиной кружку воды, затем включила электрический чайник, отрезала кусок хлеба, обильно намазала его маслом и, не садясь, начала есть, держа хлеб двумя руками и глядя в окно. Я как мышь Ханка Манка[17], подумала она и впервые за утро улыбнулась.
Отрезала еще один ломоть хлеба. Этот намазала мармеладом, который сварила сама по маминому рецепту. Пятнадцать банок в прохладной кладовке: Померанцевый 1962. Не такое прозрачное желе, как хотелось бы, но все же есть чем гордиться, и она к слову упомянула мармелад маме, с которой раз в неделю говорила по телефону.
Чем сегодня заняться? Ей противно было считать себя… какой? Ленивой, разболтанной, инертной, равнодушной. Противно было думать, что она выглядит так в глазах Эрика или даже в глазах миссис Радж. Ведь по натуре она труженица; что-что, а это она о себе знала. Когда они с Вероникой росли, именно сестру ругали, и не без оснований, за безделье, за пустую мечтательность. А сейчас у Вероники есть работа. Какая именно, Айрин не было вполне ясно. В одном из писем говорилось, что она прославленная машинистка в университетском офисе, но, судя по всему, там нечто большее. Так или иначе, она не валялась по утрам в постели, жалея себя.
Айрин вымыла руки, тщательно вытерла их чистым полотенцем и пошла к полке на дальней стене кухни, где стояло ее собрание поваренных книг. Она сняла оттуда «Современную практическую кулинарию». Сняла «Энциклопедию мировой кулинарии». Сняла свою любимую «Средиземноморскую еду» Элизабет Дэвид. Эту книгу ей подарила Тесса, ее «эстетствующая подруга», как ее называл Эрик. Тесса жила в Лондоне и крутила роман с женатым человеком – с драматургом, известным в кругах любителей небольших театров, среди тех, кого заботили такие вещи, как термоядерная война и север Англии[18]. Айрин, конечно, тоже все это заботило. Она читала редакционные статьи в «Геральд», слушала дискуссии по Третьей программе Би-би-си. Около кровати у нее лежала книга Ричарда Хоггарта «Об использовании грамотности»[19]. Эрик не раз заговаривал о Хоггарте. Теперь, когда ей лучше, самое время взяться за него как следует; не потому, что надо, а потому, что хочется.
Жена драматурга, видимо, знала о его романе, знала и соглашалась. Жена – актриса. Соглашалась или, может быть, мирилась от безвыходности. Когда Тесса приедет в гости, можно будет спросить. Интересно же. Драматурга Тесса вряд ли с собой возьмет. Есть черта, за которую не заходят, хотя где она, эта черта, становилось трудно понять.
Она принесла с полки у телефона свой блокнот и шариковую ручку, отодвинула тарелку Эрика с остатками завтрака (крошки, мармелад, столовый нож), села за стол и сняла с ручки колпачок. Кое-какие вопросы требовали решения. Во-первых, сегодняшний ужин. Пятница – по-хорошему, конечно, должна быть рыба, но рыбный фургон на этой неделе почему-то не приехал. Вчера вечером (это чуть ли не последняя мысль была перед тем, как заснуть) ей пришел в голову рататуй. Почти все необходимое имелось: банка помидоров, лук, красный перец, стеклянная банка с блестящими черными маслинами, которую Габби в сентябре подарил Эрику на день рождения. И у нее есть чеснок! Осенью у них в деревне появился француз в смешной французской машине (ничего общего с машиной Эрика). Постучал в дверь, одетый в бретонскую тельняшку. Курил не то «голуаз», не то «житан». На голове берет. А через плечо – связки розового лука и чеснока. Он рассмеялся, увидев ее лицо, и с очаровательным акцентом объяснил, что приплыл на пароме и объезжает сельские места. От него пахло луком, темным табаком, солью, чужими краями. Она достала кошелек и купила две связки лука и одну чеснока. Большую луковицу в самом низу связки он назвал капитаном.
– Merci, Madame, et bonne journée![20]
– До свидания, – отозвалась она, а потом прокричала вслед: – Bonne journée à vous, Monsieur![21]
Французский у нее был в школьном аттестате. Она очень хорошо по нему успевала.
Итак, рататуй. И, может быть, ей повезет и в местном магазине окажутся, например, свиные стейки на кости.
Как ни странно, за три года брака она не поняла толком, чтó он любит. Эрик был не из тех, кого ее отец называл знатными едоками. Что ему сгодится, что он будет есть без вопросов, было вполне ясно. То, на чем он вырос, – и он, и все, в той или иной степени, потому что война и так далее. Но всю жизнь запеканка из мяса с картошкой? Капустно-картофельное жаркое? Все скучное до невозможности. Он сказал однажды, что ей бы следовало его просветить. Он имел в виду пищу, конечно, потому что ни в чем другом она просветить его не могла.
Не столь неотложным, как ужин, но более важным – внушающим тревогу – было все, что касалось Рождества и приема гостей в День подарков 26 декабря. Это будет первое Рождество, когда они не поедут к ее родителям. Эрик уперся, и она не настаивала. Вероника в этом году приезжать не собиралась, и смотреть, как Эрик и ее отец сидят, держась за рюмки с портвейном и выискивая, о чем, осмысленном для обоих, поговорить, ей не хотелось. Родители были недовольны и не стали этого скрывать. Они будут, она знала, проявлять недовольство еще долго после Рождества. И на следующий год поднимут эту тему. Но она теперь миссис Эрик Парри. Ее место не там, а здесь. Пора им привыкать.
Что же до приема гостей, ей начинало хотеться, чтобы он не состоялся вовсе, но приглашения были разосланы, и кое-кто их уже принял. Не такое уж большое сборище, человек двадцать, если явятся все. Она будет рассчитывать на двадцать пять. Эрик сказал, гости обычно хотят только выпить, можно ограничиться хрустящей картошкой и арахисом, но как это будет выглядеть? Добро пожаловать, возьмите орешек. Возьмите два. Еще он высказал мысль, что угощение может приготовить миссис Радж, но миссис Радж, насколько она знает, способна разве что испечь сконы. Уборщица всего-навсего.
«Средиземноморская еда» открылась на рецепте бекасов на шампурах. Что и говорить, эффектная альтернатива арахису. Она вообразила блюдо, передаваемое из рук в руки. Засмеялась, удивила этим себя, утихла, перевернула страницу. Фаршированные помидоры по-гречески? Или долмадес: «маленькие рулетики из аппетитного риса в виноградных листьях». Где можно раздобыть виноградные листья? В конце книги были адреса, чтобы заказать нужное. Или она может задать задачку миссис Кейс в местном магазине. Ей регулярно доставляют из города партии продуктов. Где-нибудь да должны в Бристоле быть виноградные листья.
Она зевнула, подняла голову, посмотрела в сад. Туман теперь походил на протершуюся ткань, стал серой дымкой дождя, висящего в воздухе из-за невесомости капель. Сад выглядел неухоженно, слегка печально. Зеленая мокреть и коричневая мокреть, мертвая чернеющая листва на лужайке. На декоративной яблоне птичья кормушка. Из нее клевал крупу воробей. Два других ждали очереди.
Она встала и включила радио – Би-би-си, внутреннее вещание. Женский голос еле слышался из-за помех. Она взялась за колесико, чуть подкрутила. Голос окреп.
«Но как именно выглядели древние обитатели этих островов?»
Это была учебная программа для школьников. Она слушала иногда такое. Слушали, можно предположить, и другие женщины, сидя по своим домам, как дети-переростки.
«Вайда – распространенное растение, которое часто встречается и сегодня. У вайды желтые цветки, а из листьев добывают синюю краску, подобную индиго…»
Она выключила приемник и заварила чай. С проволочной полки на боковой стенке шкафа стянула несколько журналов, которые прислала из Америки Вероника. Положила их на стол, налила себе чай и вновь села. Планировать, она знала, никто за нее не будет, но десять минут можно же посидеть за чашкой. Вреда от этого никакого. И ни одна душа не смотрит. Подумала, как бы хорошо сигарету, может быть, ошибкой было бросить – или, пусть не ошибкой, не таким уж необходимым шагом. Отчет[22], возможно, сгущает краски. Эрик так не считал, но курил по-прежнему. Где-нибудь, если поискать, в доме, наверно, найдется пачка.
На верху стопки лежал «Дамский домашний журнал» с очень симпатичной рыжей девчушкой на обложке. Журналы эти она уже пролистала несколько раз, но почти всегда находила что-нибудь новое. И просмотр приближал ее к сестре, они словно сидели бок о бок, по очереди показывая на что-то интересное или нелепое. Вероника приезжала из Америки только три раза за все время – дважды сама по себе и один раз, на свадьбу Айрин, с мужем Моррисом (на целый блаженный месяц). Айрин сознавала, что о повседневной жизни Вероники, о ее привычках, о том, что она каждый день видит и что формирует ее мысли, она уже не имеет понятия. Они медленно, но верно делались друг другу чужими, и это пугало ее. Эрик говорил, что они когда-нибудь смогут сами туда слетать, но ей не хотелось донимать его уточняющими вопросами. В Бристоле один раз зашла в агентство и спросила про перелеты. Они были дороги, дороже даже, чем она думала. Ее угнетало, что у нее нет своих собственных денег.
Она открыла журнал в случайном месте и попала на советы перенесшим удаление матки. Перевернула страницу. Ползущий младенец в подгузнике «Чикс». «Щелк – и готово!» Бумага была почти липкая. Из-за цветной печати? Она разгладила разворот с едой для званого ужина. Не все казалось аппетитным. Но фаршированные яйца! Она и забыла про них. Взяла ручку и записала их под «долмадес». Итак, все-таки она трудится. Исследует вопрос.
Через десяток страниц – знакомый уже тест. Часть статьи, озаглавленной «Спроси себя, хороший ли он муж». Четырнадцать вопросов, и, если муж хороший, должно набраться как минимум одиннадцать «да».
Ваш муж
1) разумно обращается с деньгами?
2) разделяет Ваши внесемейные интересы?
3) чуток по отношению к Вашим родным?
4) рассудительно выбирает друзей?
5) проявляет интерес к Вашей работе?
6) ценит то, что Вы для него делаете?
7) ведет себя осмотрительно, не нарушает традиций?
8) хочет от брака того же, что и Вы?
…
Она прошлась по вопросам, когда только получила журнал, и недавно прошлась еще раз. Некоторые ее ответы изменились, и, случалось, она дольше думала, взвешивала «за» и «против».
Под «Дамским домашним» лежал журнал, совсем на него не похожий. Негритянский новостной еженедельник, название – «Джет»[23]. Цена – двадцать центов. Увидев его в посылке, она не удивилась. Ее сестра была, как-никак, женщина свободомыслящая. Ее интересовала расовая проблема. И ее, и Морриса, ее мужа. В университете, где он преподавал, у него был цветной коллега, и иногда коллега приходил к ним ужинать.
Журнал, в отличие от «Дамского домашнего», не был глянцевым. За двадцать центов, вероятно, глянца не купишь. Там не было публикаций с литературным уклоном, не было тестов о браке, не было врачебных советов. Большей частью – короткие материалы о людях, об их хороших и плохих поступках. Была, к примеру, история о стошестилетнем бывшем рабе в Ист-Сент-Луисе, который только что женился на тридцатидевятилетней. История плюс фотография пары. Они не выглядели ни счастливыми, ни несчастливыми.
Была история о человеке, застреленном за неповиновение жене. Жена и застрелила. Была заметка про двадцать семь подростков, поступивших в школу в Литл-Роке, штат Арканзас, в которой до этого учились только белые дети. Некоторые имена она знала: Сэмми Дэвис-младший, Билли Холидей. Билли сфотографировали в гробу с белыми гардениями в волосах. Но все эти жизни были от Айрин далеки, как… как неизвестно что. Как китайцы с косичками. Как русские космонавты.
Она вернулась к «Дамскому домашнему». Кто в мире самые блестящие холостяки? Ага-хан IV, князь Орсини. Она нашла еще одно кушанье для приема гостей: крокеты из тунца. Записала, указав номер журнальной страницы. Потом неосторожно обратилась к тому, на что вообще-то не хотела снова смотреть. К чужеродному. Это была фотография на всю страницу: женщина с двумя младенцами. Не здоровая женщина, нет, вид изможденный, выражение лица – по ту сторону злости и страха. Реклама UNICEF – Детского фонда ООН, хотя рекламой это, пожалуй, не назовешь. На смежной странице да, реклама: фотомодель умывается с косметическим мылом. Мать с младенцами – это где-то в Африке. У нее близнецы, и на двоих не хватает молока. Чудовищно. Но в этом, разумеется, весь смысл. Потому-то снимок и поместили именно здесь. Она не может прокормить обоих. Ей придется выбрать. Малыш слева – или малыш справа. Одному жить, другому нет. Когда она впервые это увидела, вознегодовала. Ходила взад-вперед по кухне, целую речь мысленно произнесла. Собиралась поговорить с Эриком, показать ему. Они пошлют деньги в UNICEF, несколько фунтов, что он сможет. И им следует говорить об этом во всеуслышание, делиться своим отвращением: что это за мир, где одна женщина покупает косметическое мыло, а другая должна выбрать, какого из детей кормить? Она собиралась с ним потолковать – за ужином, может быть, или когда он нальет себе выпить, или даже когда они будут лежать в постели под четой Арнольфини. Но Эрику весь день приходится иметь дело с людским страданием. Пристало ли жене подстерегать его со снимком африканки, которая не в состоянии прокормить своих детей?
Фотография не злила ее уже, по крайней мере не этим утром. Переверни страницу, подумала она, просто переверни страницу. Ничего с этим не сделаешь, нужно принять как данность: да, в этом мире всегда где-нибудь есть и будет женщина, стоящая перед таким выбором. Журнал уже старый, так что одного из детей сейчас нет на свете. Жуткая и бесполезная картинка. Смотреть на нее было изнурительно, но она продолжала вглядываться в глаза женщины.
Ее набожные родители, прихожане англиканской церкви, по воскресеньям в десять тридцать посещали службу у Иоанна Евангелиста, где на стене в средневековом стиле была изображена процессия со Святыми Дарами. Они с Вероникой ходили с ними почти каждое воскресенье, пока Вероника, которой было шестнадцать и одна неделя, вдруг не отказалась. Отец орал на нее. Его большие руки прямо-таки чесались. Мать была куском льда. О, пусть как хочет, глупая девчонка, считающая себя умнее всех.
Но в церковь ходят не все, сказала Вероника. Бертран Рассел в церковь не ходит! И они оставили ее в покое – мать застегивала перчатки, у отца побагровели виски, Айрин колебалась в дверях, глядела назад, силилась оказать молчаливую поддержку, послать безмолвное «да», пока отец не рявкнул с дорожки, не позвал ее по имени; и она заторопилась за ними следом.
Куда падали ее слезы, глянцевая бумага темнела. Слезинка для женщины. По слезинке каждому ребенку. Слезинка своей маме – она, в сущности, добрая женщина, хорошая и добрая. Слезинка отцу, который, когда они были маленькие, становился на четвереньки, натягивал на спину ковер и рычал медведем…
Откинулась на стуле, чтобы поплакать свободнее. Телефонный звонок. Она закрыла журнал, вытерла под глазами возвышениями больших пальцев. Торопливо пошла к лестнице. Подняла трубку во время четвертого звонка.
– Дом доктора Парри.
Кто-то из больницы, из приюта для душевнобольных, мужской голос. Хотят связаться с Эриком. Блокнот она захватила и под крокетами из тунца записала имя и номер телефона.
– Он, вероятно, еще на утренних вызовах, – сказала уверенным тоном, хотя понятия не имела, так это или нет, – но я позабочусь, чтобы он получил ваше сообщение… Да… Конечно… Да… Спасибо… До свидания.
Вначале, первые примерно полгода их жизни в коттедже, Эрик оставлял список пациентов, которых он посещает в этот день на дому, с телефонными номерами, у кого есть телефон. Она была чем-то вроде секретарши или сестры-регистратора. Это, по всей видимости, вполне нормально для жены врача общей практики. И ей нравилось. Давало ей роль, пусть и маленькую. Потом списки приобрели спорадический характер, и наконец их вовсе не стало. И возникло неудобство: человек из психиатрической больницы явно предполагал, что у нее есть такой список. Ну, чего нет, того нет.
Она зашла в кухню взглянуть на часы на стене, затем вернулась к лестнице и позвонила в амбулаторию. Трубку взяла миссис Болт – настоящая сестра-регистратор, та, кому платят. Сорок с чем-то, плотного сложения, с перманентом. На лице тонна пудры. О ее частной жизни можно только гадать. Доктора она, по ее словам, сегодня еще не видела, но его машина стоит.
Айрин попросила соединить.
– Если, конечно, он не с пациентом.
Пока еще нет, не с пациентом, хотя было ощущение, что миссис Болт не очень-то нравится соединять с женами.
В трубке щелчок, гудение. И вдруг ей стал слышен воздух в кабинете, где он сидел.
– Эрик?
– Это срочно? У меня начинается прием. Уже, наверно, пора было начать.
Она сказала ему про звонок. Про первый, к которому не успела, говорить не стала.
– Как у тебя утро прошло? – спросила она.
– Утро как утро. Послушай, мне некогда сейчас. Пока, до вечера.
Звонок в дверь. Он услышал и спросил, кто это, – странный вопрос, ведь не могла же она видеть оттуда, где стояла. Сказала, что, вероятно, почта, хотя, едва сказав, вспомнила, что почта уже была.
– Ну, всего хорошего, – сказал он.
– Пока.
– До вечера.
– Да. До вечера.
Она положила трубку и повернула голову к окну. Можно ли открыть в таком виде? Поправила волосы, пригладила желтые и оранжевые розы и двинулась в прихожую. По пути пришла глупая мысль, что это опять может быть француз, но, когда открыла дверь, это оказалась блондинка с фермы. Она стояла в дафлкоте и берете, разрумянившаяся от ходьбы, и держала коробку с яйцами.
6
Возле парковочной площадки для посетителей больницы и стоянки для карет скорой помощи было выделенное белыми линиями место для машины, где знак гласил: «Старший медик». Эрик заехал туда и встал. Рядом было место для авто директора, там стоял его бордовый «вулзли». Его машина всегда была чистенькая. Раз в неделю ее мыли пациенты, мыли и вощили.
Он пошел к главному входу, докуривая сигарету. Хотя день не очень годился, чтобы рассиживать снаружи, деревянные скамьи были заняты теми, кому разрешалось выходить на территорию. Многие, как и он, курили. Двоих-троих он узнал.
Больница в той основной своей части, что смотрела на подъездную дорогу, была средневикторианской архитектуры и не лишена некой провинциальной величественности, вряд ли рожденной представлением о том, что первые обитатели здания, скорее неимущие, чем умалишенные (хотя умалишенные, вероятно, тоже были?), заслуживают такой обстановки. Построил впечатляющую больницу – и, может быть, получишь заказ на железнодорожный вокзал или даже на административное здание. Оранжевый кирпич с орнаментом из более темного кирпича. Высокие окна на первых двух этажах, колокольная башня с флюгером, который, должно быть, некогда задорно поблескивал, но сейчас изрядно позеленел. Пониже на башне часы (очень похожие на вокзальные). Они показывали без десяти три. Эрик сверил их со своими наручными и слегка удивился, что они идут верно.
Из вестибюля – глазурованная желтая плитка стен и большой, никогда не используемый камин – наверх вела, уходя в тень, широкая деревянная главная лестница с железными балюстрадами. По этой лестнице могли ходить далеко не все. Он, разумеется, мог. В тускло освещенном коридоре второго этажа он прошел мимо мужских портретов в золоченых рамах. Бакенбарды, высокие бледные лбы – основатели, жертвователи, попечители.
Кабинет директора был в задней части здания. Дубовая дверь с латунной табличкой. Эрик постучался. Дальше по коридору трудилась согбенная фигура с тряпкой и ведром.
Дверь открыла секретарша.
– Здравствуйте, доктор, прошу вас.
Кабинет был единственным помещением в здании – ну, из тех, в которых Эрик бывал, – где не пахло дезинфекцией и кухонными испарениями. Может быть, и тут чуть-чуть пахло, но все же меньше. Панели на стенах, высокий потолок, два окна с видом на больничную ферму, на футбольное поле и, в ясные дни, на рваную городскую окраину вдали. Два письменных стола, поменьше и побольше. Четыре серых металлических шкафа для документов. В камине горел уголь. В углу на тумбочке папоротник в горшке еле заметно покачивал ветками от перемещений комнатного воздуха.
Директор, сидевший за столом побольше, встал и протянул руку.
– Эрик. Спасибо, что пришли. Надеюсь, мы вам день не испоганили.
Он сел обратно. Эрик уселся напротив. Директор был старше Эрика лет на десять. Светлые аккуратно подстриженные усы, зоркие серые глаза, темно-серый костюм, шелковый галстук с вышитой золотой короной. Он не был медиком, и с самого начала между ними завязалась молчаливая борьба за первенство в этом учреждении.
– Хересу?
Секретарша уже ставила на угол стола серебряный поднос. Бутылка «харвис бристоль крим», две симпатичные рюмки. Мужчины смотрели, как она наливает.
– Ваше здоровье, – сказал директор.
– Так что же именно случилось? – спросил Эрик. В общих чертах он уже знал, сказали по телефону, но с ним тогда говорил не директор, а старший палатный медбрат, он явно был искренне расстроен.
– Один из палаты «Фермер», – сказал директор. – Вы, может быть, помните его. Стивен Стори. Недолго тут пробыл. Молодой совсем. Девятнадцать?
Он посмотрел на секретаршу.
– Да, – подтвердила она. – Отметил тут день рождения. Восьмого сентября.
Директор кивнул.
– Умер, думаю, за несколько часов до того, как мы его обнаружили, хотя судить вам.
– Передозировка?
– Похоже на то. Аннабель, Иэн идет сюда?
– Ему было сказано, – ответила секретарша. – Мне послать кого-нибудь за ним?
– Придет, – сказал директор. – Вы не очень торопитесь, Эрик?
– Я думал, ему скоро домой. Стивену Стори.
– Да, – сказал директор. – Но они ведь, конечно, не всегда хотят домой.
– Пожалуй, так, – согласился Эрик.
Он окружил стоящую рюмку пальцами обеих рук. Пить не пил. Он не очень-то хотел пить с директором, как будто они друзья. Стивена Стори он помнил лучше, чем большую часть остальных. Он выделялся. Ум был очевиден. Ему бы самое место в университете, а не в психбольнице. Эрик попытался восстановить в памяти их последний разговор. Прошло всего несколько недель. Речь, помимо прочего, зашла о шахматах. Каждый из обоих играл в свое время с отцом, и каждый – это не было прямо между ними высказано, прозвучало намеком – остерегался выиграть. Диагноз – шизофрения. Диагностировать поступающих сюда больных в обязанности старшего медика не входило, этим занимался психиатр, но у Эрика сложилось впечатление, что этот врачебный ярлык клеится намного чаще, чем следовало бы.
– Что он выпил? – спросил Эрик. Ответ он знал почти наверняка, но нужно было убедиться.
Директор, хмуря брови, смотрел на папоротник.
– Снотворное, – сказал он.
Перевел взгляд обратно на Эрика и выдал полуулыбку-полугримасу – знак того, что затронута неловкая, но неизбежная тема. Они оба знали, что Стивен Стори попросил снабдить его на первые недели после выписки хлоралгидратом и Эрик эту просьбу исполнил.
– Ничто не показывало, – сказал Эрик, – что он мог такое замышлять. Ничто в истории болезни. Никаких попыток в прошлом. Ничего абсолютно.
– Самоубийство, увы, трудно предвидеть, это хорошо известно, – сказал директор. – Те, кто, думаешь, может, удерживаются. Те, у кого вроде бы дело идет на лад, вдруг кидаются под автобус. Планировщики, так я их называю, могут очень хитро себя вести. Но если бы он, как бы это сказать, обмолвился, он бы не получил таблеток, да?
– Разумеется.
Тишина – или что-то близкое к ней. Ворчание от горящего угля, деловитое поскрипывание ручки в пальцах у секретарши.
– Его нашли в прачечной, – сказал директор. – Точнее, в сушильне. Кто-то включил пожарную сигнализацию, и какое-то время тут был полный хаос. Когда посчитали людей по головам, пошли его искать. Он лежал на столе. И было письмо. На груди у него, кажется.
– Письмо?
– Мир как отвратительное место. Беспросветность будущего. Напыщенные жалобы, в общем и целом.
– Можно взглянуть?
– К сожалению, нет. Оно у полиции.