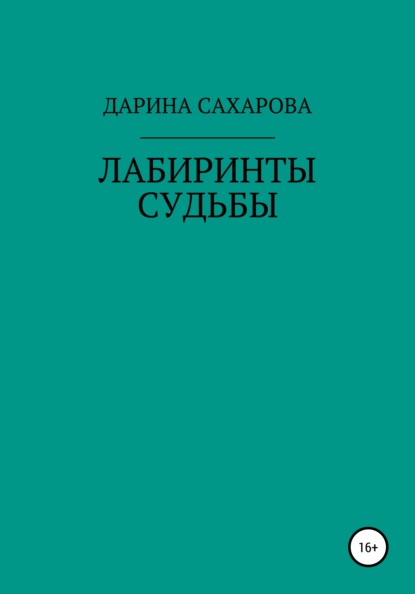Земля под снегом

- -
- 100%
- +
– У полиции?
– Вы едва с ним не встретились. Как его, Аннабель?
– Сержант Ортон.
– Да, Ортон. Мне не хочется называть его назойливым, но в какой-то мере это слово годится. И это осложняет дело. Им позвонила мать Стивена, грозная миссис Стори. Не сказать, что большая наша доброжелательница. Обычно семья только рада, когда все делается спокойно и тихо. Но на этот раз…
Он развел руками.
Эрик кивнул. Он понимал – и не вполне понимал. Что от него требуется, какие слова, какие действия? Серьезные ли неприятности у него будут? И какого рода неприятности? Он поступил опрометчиво? Безответственно? Так это выглядит со стороны? Понятней всего были разведенные руки директора. Жест означал, что мишенью всей возможной критики, всех официальных нареканий будет он, старший медик.
– Хотите?
Директор подвинул к Эрику серебряный портсигар. На крышке что-то было выгравировано, возможно – полковая эмблема.
– Значит, будет расследование?
– Не вижу, как этого можно избежать, – сказал директор. – Но я знаю обоих коронеров. Думаю, все пройдет гладко.
Масоны, подумал Эрик. Он предполагал, что когда-нибудь и ему предложат вступить. Не исключено, директор и предложит.
Стук в дверь.
– Войдите, – сказал директор.
Вошел мужчина в белом халате, один из медбратьев. Вид усталый.
– Иэн, – сказал директор, – с доктором Парри вы, кажется, знакомы.
– Да, сэр, знаком.
– Тогда давайте втроем спустимся. По дороге сообщите доктору подробности. То, что существенно.
Директор встал; Эрик встал. Секретарша бросила на них взгляд. Она была кладезь секретов. Мужчины вышли из кабинета. Коридор, лестница, двойная дверь, за которой начиналась больница как таковая. Психиатрические выглядят примерно так, как ожидаешь. Там действительно завывают, плачут, ведут разговоры с незримым, строят рожи, какие в обычной жизни люди строят разве что наедине с собой или в темноте. На цветных гладких стульях они сидели рядами, неуклюже подстриженные и пришибленные ларгактилом[24]. Там стоял телевизор – нововведение директора, – но смотрел его большей частью персонал. В одном месте, когда шли по коридору с цветными геометрическими плитками на полу, путь преградил мужчина в военном кителе со шрамами от бритвы по всему лицу. Иэн направился было к нему, чтобы отодвинуть, но другой пациент взял его за локоть и отвел обратно к стенке.
– Спасибо, Мартин, – сказал директор.
– Это Мартин его обнаружил, – заметил Иэн, когда они прошли.
– Я не помню, чтобы мне это говорили, – сказал директор. – А что он делал в прачечной посреди ночи?
– Ему неважно спится, – ответил Иэн. – Когда я в ночную смену, часто вижу, как он прохаживается.
– Это Мартин, значит, включил сигнализацию? Он ко всему, что связано с огнем, неравнодушен, кажется.
– Про сигнализацию не знаю, – сказал Иэн. – Возможно.
– А ведь могло быть и хуже, – промолвил директор. – Ему могло прийти в голову зажечь погребальный костер.
– Не думаю, что он бы так поступил, сэр. Сейчас уже нет.
– И все-таки я считаю, что нам надо прекратить эти ночные блуждания. Может быть, доктор Парри взглянет на то, что ему дают.
– Да, – сказал Эрик. – Если вы считаете нужным.
Он ждал, чтобы директор упомянул о снотворном, но, конечно, умолчание было еще красноречивей.
Наконец дошли до двери, на которой был только номер. Из ключей на поясе Иэн выбрал один и отпер дверь. Внутри стéны из крашеного камня, холод, как в маслодельне, маленькое окно под потолком, два деревянных стола на козлах. На дальнем столе тело под простыней. Эрик подошел и сдвинул ткань. Над столом висел металлический абажур без лампочки. Свет падал только от окна. Он ровно и мягко омывал мертвое лицо юноши. Его не раздели. На нем по-прежнему был пиджак с галстуком. Что говорит о твоем душевном состоянии галстук, который ты повязываешь перед самоубийством? Это знак сумасшествия – или просто желание выглядеть прилично, респектабельно даже, в глазах тех, кто тебя обнаружит? Нечто вполне нормальное? Нормальное побуждение?
Он обнажил одну из ладоней Стивена. Холодная, жесткая ладонь, кожа сморщенная, рубцовая. Передвинулся к концу стола и потрогал ступни, нажал пальцем сквозь шерстяные носки. Трупное окоченение идет от головы вниз – движется на юг, как любил выражаться один из его преподавателей в Манчестере.
Он пожал плечами.
– Двенадцать часов, – сказал он. – Пятнадцать. В этих пределах.
– Тут мы не можем его оставить, – сказал директор. – Он поедет в Бристоль. Возможно, не одна неделя пройдет, прежде чем тело отдадут для похорон. Вы свяжетесь с коронером?
Эрик кивнул. Надо будет узнать, какая в таких случаях процедура. Скорее всего, он только после расследования сможет подписать свидетельство о смерти.
– Сколько таблеток он выпил?
– Примерно половину склянки, – сказал Иэн. – Что не выпил, оставил в умывальне. Я это убрал и запер.
В амбулатории он принял еще трех пациентов. Долго заниматься никем не пришлось. В кабинет и обратно, три назначения, спасибо, доктор. Когда за последним закрылась дверь, он посмотрел на часы и выдвинул нижний ящик стола. Вынул оттуда розово-кремовый картонный конверт. На лицевой его стороне – типографская надпись изящным шрифтом с завитками, имитирующим женский почерк или как минимум предназначенным рождать у медиков женские ассоциации: «Эновид 5 мг»[25]. Конверт был слишком велик для любого из карманов, поэтому он спрятал его между страницами «Ланцета» и вышел в коридор. Там ему встретился Габби Миклос.
– Привет, Эрик.
– Привет, Габби.
– Что-нибудь криво-косо? – спросил Габби.
Его шерстяной костюм был на полномера ему велик. Глаза, как обычно, светились странным светом, как будто он только что закапал туда белладонну.
– В психиатрической кой-какая ерунда, – сказал Эрик. – В приюте. Завтра расскажу. Или в понедельник. Дело терпит.
– В приюте, – повторил Габби.
Глубокомысленно кивнув, он уставился на линолеум пола между ними. Эрику нравился Габби. Очень даже нравился, надо сказать – он был из немногих знакомых Эрика, кто не разочаровывал его тем или иным образом, – но досаждало, что он довольно туго усваивал правила игры. Хотя другого от иммигранта нельзя, пожалуй, ждать.
– Ну, до встречи, – сказал Эрик. Он поднял руку с «Ланцетом», и из журнала высунулся, будто кончик языка, уголок розового конверта. Он впихнул его обратно.
– Вечером туман опять наползет? – спросил Габби.
– Скорее всего, – сказал Эрик.
С весны, с тех блаженных дневных минут, изменивших его так, что он не отважился вернуться сразу домой, добрый час просидел в ложбине холма над коттеджем, приходя в себя под свежей листвой и рассматривая под новым углом свое прежнее «я» и свою жизнь до этого дня, жизнь, которой он довольствовался, тривиальную, как он внезапно увидел; с тех пор, с самого начала, между ними кое-что было условлено, и главным, о чем они условились, была необходимость держать происходящее в тайне. Не только его брак был причиной, но еще и невозможность в случае скандала сохранить сельскую практику. В большом городе такое может сойти с рук – но не здесь. Все прочие их соглашения вытекали из этого. Где им можно встречаться и где их никогда не должны видеть вместе; в какие дни и в какое время ему можно приезжать; как часто. Никаких телефонных звонков без крайней необходимости (скажем, Фрэнк сегодня вернется раньше обычного). Как правило, она щедро душилась, но они договорились, что в назначенные дни никаких духов (у Айрин было чуткое обоняние). Он следил за тем, к чему притрагивается, что перемещает. В ее спальне потом он всегда осматривался, оглядывал пол, проверял, не оставил ли чего-нибудь, о чем Фрэнк может, взяв в руки и прищурясь, подумать: не мое. Когда она видела его за этим занятием, когда наблюдала за ним из постели, где лежала на боку, стряхивая сигаретный пепел в перламутровую пепельницу, то иногда смеялась. Смех не был недобрым (он знал – она к нему расположена, может, даже и лучше было бы, будь она расположена чуть меньше). Она ведь тоже, напоминал он ей подчас, может многое потерять. Репутацию, замужество, дом и даже, потенциально, сына. Но она только улыбалась и глядела на него как на ясноглазого мальца с безнадежно наивными представлениями о мире. Деньги, конечно, – вот что давало ей уверенность. Что бы ни произошло, чековая книжка папаши в его ложноякобинском особняке будет к ее услугам. Она не окажется на улице, ей не придется устраиваться официанткой в кафе где-нибудь там, где никто ее не знает; она не будет опозорена. О том, чтó она такое в моральном плане, он понятия не имел. Он не знал ее с этой стороны. Иногда ему казалось, что она способна разрушить собственный дом просто так, чтобы услышать, какой будет грохот.
Но если из двоих именно он проповедовал осторожность, настаивал на ней, если именно ему однажды приснилось, что пол в ее спальне – не пол, а минное поле с нажимными крышками, упрятанными под уилтонский ковер, со зловредными маленькими зарядами, которые оторвут ему ноги, – если так, то с какой стати он едет сейчас к ней сквозь ошметки неусловленного дня? Всего-навсего из-за этой неприятности в психбольнице? Он что же, дал директору себя напугать? Директору! Субъекту из тех, что подпирают стойки в гостиничных барах, – да, отдаленно напоминая о войне за правое дело, но теперь-то они что? Только деньгу зашибать да трахать секретарш. Парень – другая история. Жаль его, что и говорить. Но пациенты умирают, это случается. Да, безусловно, не в девятнадцать лет, не здоровые в целом и не от таблеток, которые дал им он. Но если всякий раз паниковать из-за… Суть-то… Но он не мог пока сообразить, в чем заключена суть.
Впереди была придорожная площадка. Самое место остановиться и повернуть обратно, но, когда он доехал, машина сама промахнула дальше, рассекая предвечерние сумерки.
Наткнуться на Фрэнка он не боялся. Его распорядок дня он знал. Фрэнк редко возвращался из Бристоля до половины седьмого, обычно примерно в семь. Иногда у нее бывали гостьи – другие жены, которым нечем себя занять. Тут могла получиться неловкость – у иных был острый глаз, – но он, в конце концов, ее врач (и Фрэнка, если на то пошло). Приехал завезти лекарство, вот и все.
Он свернул с главной дороги и двинулся вдоль высокого каменного забора. У открытых ворот уменьшил скорость до пешеходной. Ее машина стояла внутри и была одна. Он проехал еще немного до других ворот, поуже, за которыми гравий подъездной дорожки обступали разросшиеся вечнозеленые кусты – рододендроны и азалии, ранним летом тяжелеющие от обилия розовых, алых и белых цветков. Элисон говорила, что этот въезд «для торговцев», и, вероятно, так и было, когда дом еще не постарел. В теории – до проверки у него дело не дошло – одна машина могла подъехать к дому по первой дорожке, а другая отъехать по второй без того, чтобы сидящие за рулем видели друг друга.
Он припарковался напротив гаража. Нисходящий свет его фар протяженно ложился на одну из ее сизых лужаек. Где лучи соединялись, он видел мишень, в которую Фрэнк и его сын Джон, приезжавший из закрытой школы на каникулы, пускали стрелы. Фрэнк однажды показал Эрику свою коллекцию луков. Дал ему английский длинный и предложил натянуть тетиву. Эрик справился, но с трудом, с заметным усилием; он этого не ожидал. В то время они еще могли стать друзьями.
Он прошел по траве к двойной стеклянной двери с задней стороны дома. Занавески еще были раздвинуты, и вокруг ступенек разливался желтый свет. Он поднялся к стеклу и заглянул внутрь. Увидел ее – она была одна. Сидела на софе затылком к нему, даря взгляду роскошь волос. От сигареты вился дымок. Звучала музыка. Он постучал по стеклу, выждал, постучал громче. Она встрепенулась, оглянулась; затем встала и осторожно двинулась к двери, на лице зарождалась улыбка. Когда уверилась, что это он, улыбка стала шире, и она повернула ключ.
– Ничего себе, – сказала она.
Он вошел. Она закрыла и заперла дверь, задернула, взявшись за шнур с резным наконечником из слоновой кости в виде шахматной фигуры, тяжелые занавески. Потянулась к нему поцеловать, затем отступила, чтобы вчитаться в его лицо.
– Что-то случилось? – спросила она.
Он покачал головой. Вопрос вызвал у него досаду. Он зашел глубже в комнату, она вернулась на софу. На ней были черные брюки капри и тонкий медового цвета свитер, на шее нитка жемчуга цвета снеговых облаков. Ступни босые, на ногтях темно-красный лак. В комнате было тепло – в ней всегда было тепло. Фрэнк установил новую систему отопления, побуждаемый женой (в холоде Элисон уже не та Элисон), а еще, как он сказал, из-за телепередачи про грядущий новый ледниковый период. Всю зиму она могла одеваться дома легко. Дом был большой, бывшее загородное обиталище банкира викторианских времен. Не особенно красивый, пропорции странные, но облагороженный снаружи глицинией, девичьим виноградом, плющом, временем. При нем был зимний сад – рубиновое и зеленое стекло. На территории небольшой бассейн с павильоном для переодевания, слегка напоминающим шале. Формально они жили там втроем, но мальчик, что ни год, отправлялся в школу, а Фрэнк с утра до вечера трудился в табачной компании. Большую часть времени Элисон была одна, дрейфовала по комнатам, чей обогрев стоил немалых денег.
– Выпьешь чего-нибудь? – спросила она. – Да сядь же.
– Я ненадолго, – сказал он.
– Ну, мне тогда налей.
– У тебя уже есть.
– Там почти пусто.
Он взял с низенького столика перед софой ее бокал. На столике лежала большая книга об искусстве: Пикассо, Миро, Хуан Грис.
– Ты просто по мне соскучился? – спросила она. – Или что-то другое?
Он долил ей джина, прибавил пару капель биттера. Капли распространялись, делаясь волоконцами розового дыма. На одной стороне бокала был почти безупречный отпечаток ее губ.
– Когда, ты думаешь, он вернется?
Он предпочитал не произносить при ней имени Фрэнка.
– Через миллиард лет, – сказала она. – Пятница. Он наверняка пьет портвейн в правлении с Эдвардом Стрэнгом и высчитывает, сколько презренного металла они загребли. У тебя что, дрянной день был?
– В психбольнице один покончил с собой.
– Ох! – Она притронулась к жемчугам. – Какой ужас.
– Он использовал снотворное, которое я ему выписал. Должен был ехать домой. Попросил на месяц, на два. Я не видел причины отказать. Он не выглядел подавленным. Собирался поискать работу. Казался… нормальным.
– Ну так что же, – сказала она. – Ты хотел помочь. Ты никак не мог знать заранее.
Он пожал плечами. Он передумал насчет выпивки и налил себе немного виски. Перед уходом вымоет и вытрет бокал на кухне или скажет, чтобы она это сделала.
– Милый, – сказала она (да, она иногда называла его так, и звучало мелодично, влекуще). – Не таблетки, другое бы нашлось что-нибудь. С крыши бы спрыгнул. Если им хочется, они находят способы, правда же?
– Молодой совсем, – сказал Эрик. – Оставил записку. Письмо. Я не прочитал. Полиция забрала.
– Откуда взялась вообще полиция?
– Его мать им позвонила.
– Казалось бы, это последнее, что ей могло прийти в голову. Ну и что, разве это незаконно? Самоубиваться.
– Способствовать этому незаконно.
– Да ладно тебе. Даже полицейские не такие идиоты, чтобы тебя в этом обвинять. Никто тебе ничего не предъявит.
– Я не знаю, как они поступят, – сказал он. – Директор дал ясно понять, что в случае чего он на линию огня становиться не будет. Нам обязательно слушать эту музыку?
Он не знал, что именно звучит. Что-то танцевальное, сентиментальное, дурацкое.
Она распрямилась, встала, пошла к проигрывателю и подняла иглу. Во внезапную тишину неким фоном, звуком извне вступил шелест теплового насоса.
– Поставить что-нибудь другое? – спросила она.
Он покачал головой.
– Моцарта?
– Ничего не надо, – сказал он. – Почему люди постоянно хотят музыки?
– Она делает их счастливее, – сказала она, опуская крышку проигрывателя.
Подошла к нему и завела руки ему за шею. Она была сильно надушена. Он едва удержался, чтобы не укусить ее. Отступил назад, и ее руки упали.
– Мне надо ехать, – сказал он. – Я только хотел отдать тебе вот это.
Из бокового кармана пиджака вынул шесть прозрачных упаковок с маленькими таблетками. Нелепый розовый конверт остался в машине.
– О, – сказала она. – Это то, что я думаю?
– Принимай одну в день, – сказал он. – Каждый день в одно и то же время. Так легче будет помнить. Важно не забывать.
– Спасибо, доктор. Ты думаешь, они правда действуют?
– Да.
– Не так, как те, после которых рождались несчастные младенцы с ластами вместо ручек?
– Их пьют для того, чтобы никто не рождался.
Она улыбнулась ему.
– Они мгновенного действия?
– Нет.
– Но через неделю-то?
Он допил виски и протянул ей бокал.
– Ладно, – сказала она, – ладно. Жаль, что у тебя выдался такой гнусный день. Ты врач что надо, Эрик. И человек что надо.
– Честно говоря, – сказал он, – я ни в том, ни в другом не уверен.
– Завтра у тебя будет другое настроение.
– Улучшится или ухудшится?
– Улучшится. Сильно.
Они коротко поцеловались. Она вытерла ему губы большим пальцем. Он вышел, как вошел, через стеклянную дверь. Снаружи была уже кромешная тьма, или так казалось после помещения. И возвращался туман, поднимался и плыл подобно дыму невидимых костров. Садясь в машину, он вспомнил, что хотел сделать ей внушение из-за письма в амбулаторию. Не сделал; и забыл к тому же спросить, как ее-то день прошел. Это часто у них такое? Его день, но не ее? Полминуты он пытался это себе представить – как она коротает дни в пустых комнатах, бегло проглядывает журналы и романы, пьет спиртное в полдень, подолгу разговаривает по телефону с другими женщинами, которым некуда себя деть, ест что-то неосновательное, открывает новую пачку сигарет, смотрит, стоя у окна, как листья, кружась, опускаются в пустой бассейн. И – хотя он не был очень-то склонен к мыслям о любви, не очень-то уважал это слово, считал, что оно затаскано до бессмысленности, выхолощено рекламщиками и шансонье, да и политиками тоже, иные из которых, кажется, недавно открыли его для себя, – ему пришло сейчас в голову, что в конечном счете это слово может просто-напросто означать желание вообразить себе жизнь другого человека. Сделать такое усилие. И он нашел, что способен на это, способен, как некий сопутствующий дух в комнате у нее за спиной, как некий ангел-регистратор, увидеть ее жизнь – но да, с усилием. Он запустил мотор (а что, если однажды он не запустится?) и аккуратно двинулся задним ходом среди кустов. Выруливая на главную дорогу, увидел фары другой машины, которая приближалась, спускаясь с горки. Когда проезжала мимо, он подумал, что она похожа на черный «зодиак» Фрэнка, и он успел увидеть в зеркальце заднего вида, как машина замедлила ход и свернула на боковую дорогу, на которой он только что был.
7
Коробка с яйцами лежала на кухонном столе. Дафлкот Рита сразу сняла. Сказала: как приятно здесь и тепло, и до чего холодно там на ферме. Несколько минут разговаривали о системах отопления. Около коттеджа у задней двери стоял бак для жидкого печного топлива, на нем работало центральное отопление дома. Вдобавок у них была «АГА», плита и она же печь, работавшая на коксе. В гостиной лежали поленья для камина, их доставлял один старик со своей кряжистой дочкой. Рита их обоих знала. Сказала, опасается, что дочка – узница старика. Айрин ответила, что ей это не приходило в голову.
Рита рассказала про «рейберн» у них на ферме, про то, как плита иногда превращается в вулканчик и извергает в кухню облако золы. Они с Биллом боятся дать ей погаснуть. Вдруг она после этого не захочет работать? Она горит без перерыва, кажется, лет сто.
Каждая из двух знала про другую, что та беременна. По Айрин на шестнадцатой неделе это было уже слегка заметно, и миссис Кейс в местном магазине, которая благоволила к Рите и жалела ее, считая странной, подтвердила ей. Айрин знала про Риту, потому что Эрик однажды обмолвился. Она была пациенткой Габби Миклоса.
– Хотите я вам дом покажу?
Они вышли из кухни и поднялись наверх. Над гаражом в конце коридора две маленькие спальни, кровати застелены валлийскими стегаными покрывалами; рядом главная спальня (слава богу, там вполне прибрано). С противоположной стороны еще одна спальня – та, в которой умер отец Эрика. Айрин старалась по возможности туда не заходить. Миссис Радж время от времени вытирала там пыль.
– Тут у нас ванная, – сказала Айрин, открывая дверь и отступая.
– Отсюда видно ферму! – воскликнула Рита. – А из нашей ванной я вижу вас. Ну, не вас, конечно…
– Забавно, – сказала Айрин.
Она не смогла бы объяснить, что именно считает забавным. Что они так долго тянули, прежде чем познакомились как следует? Ее настроение перед звонком в дверь – журналы, слезы – улетучилось, как утренний туман. Слишком много времени она проводит одна. Нездоровый образ жизни.
Спустились вниз. Гостиная, столовая, кабинет Эрика (туда не входили).
– А это детская, – сказала Айрин, открывая дверь в голую выбеленную комнату с панорамным окном, выходящим на задний двор (и на топливный бак).
Они стояли, заглядывая внутрь, и чудилось, будто, открыв эту дверь, они застали будущее врасплох и из глубины комнаты на них ответно посмотрело розовощекое дитя. Или двое детей почти одного возраста.
Кружным путем вернулись в кухню (в этом коттедже так можно было: выходишь из кухни в одну дверь и возвращаешься через другую напротив). За две-три минуты, пока снова не сели за кухонный стол, каждая успела сообщить другой то, что та уже знала; они обменялись датами и начали перечислять симптомы и жалобы, смеясь над тем, что в душé приводило их чуть ли не в отчаяние. Рита отставала от Айрин на месяц. Сказала, ей нечего еще показать.
– Поздно вечером я выгляжу немножко беременной, но это просто чай.
Сказала, болят зубы и кровоточат десны. И постоянно нужно в уборную по-маленькому.
– О да, – сказала Айрин, решив, что тоже будет говорить «уборная», а не «туалет». – У нас есть уборная внизу, если вам понадобится.
Она улыбнулась и почувствовала, что где-то посреди Суссекса ее мать строго приосанилась.
– Я все еще с утра в пижаме, – призналась Рита. – Честно говоря, это пижама Билла. Я подворачиваю штанины и рукава.
Она вытянула ногу и поддернула джинсовую ткань, показывая пастельно-бледные полоски на хлопчатобумажной мужской пижаме.
Чем дала повод перейти к обсуждению мужей. В саду певчие птицы устроились в живых изгородях и кустах, пережидая в укрытии остаток короткого зимнего дня. Птицы покрупнее курсировали в небе, цветом напоминавшем старый фарфор.
– Милота, наверно, быть замужем за доктором, – сказала Рита.
– Не без того, – сказала Айрин, не зная точно, что Рита понимает под милотой. Заработок врача? Его положение? – А женой фермера страшно тяжело, наверно, быть. Столько забот со всей живностью.
– Этакая миссис Ной, – сказала Рита. – Но почти все делает Билл, и живности у нас не так много. Пятнадцать коров, бык, пони, сколько-то кур. И кошка.
– По-моему, очень даже много!
– Одна корова вот-вот отелится. По кличке Друзилла. У них у всех есть клички, но никаких вам Маргариток и Смородинок. Одну мы зовем Нефертити.
– Ух ты! – сказала Айрин. – Должно быть, жутко царственная особа.
– Билл учился в Оксфорде, – сказала Рита, как будто эта учеба объясняла наречение коров в память нильских властительниц. – На юриста, пока не вылетел. Поступил, потому что папаша этого хотел. Думал сделать из него для семейного бизнеса своего юриста, чтобы доверять можно было.
Айрин кивнула. Про папашу она кое-что слышала. Как Эрик его назвал? Еще потер при этом палец о палец – в смысле, деньги.
– А ваш свекор – он тоже врач был?
– Нет-нет, – сказала Айрин. – Он работал на железной дороге. Начал с самого низа. Был рабочим фактически. И дорос до помощника начальника станции в Бирмингеме. Он скончался два года назад. Вскоре после того, как мы сюда переехали. Эрик всегда какой-то трепет перед ним испытывал.
– А Билл как про своего отца вспомнит, весь морщится, будто лимон сосет.
– Не ладят?
– Билл был бы рад-радехонек, если бы узнал, что его усыновили.
– Ужасно сложно все в семьях, правда? – сказала Айрин.
– А теперь, – сказала Рита, – у нас свои семьи, наша очередь.
И не поспоришь. Несколько секунд строгой тишины. Проехал без остановки на станции поезд.
– Товарный, – сказала Рита, в сущности, себе.
– Выпьете со мной гиннесса? – предложила Айрин. – Я в это время обычно наливаю себе стакан. Эрик купил целый ящик. Там уйма железа.
Она принесла из кладовки две стройные темные бутылки. Достала из шкафа два стакана. Сковырнула крышечки открывалкой с роговой ручкой. Обе аккуратно налили себе темного пива.