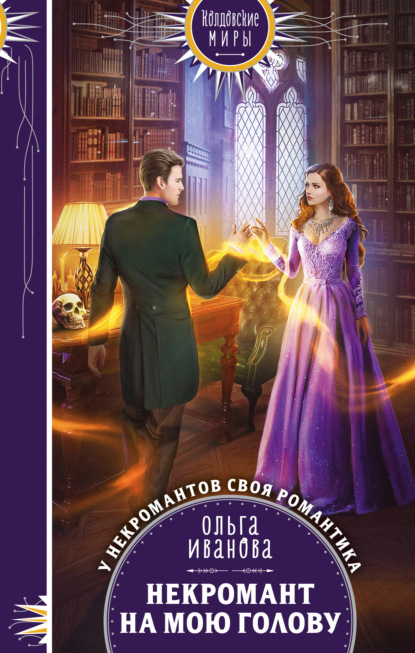Барин-Шабарин 9

- -
- 100%
- +

Глава 1
Тишина в детской была зыбкой, обманчивой. За дверью слышалось ровное дыхание спящих близнецов – Лизоньки и Алешеньки. Петя, наш пятилетний «адмирал», наконец сдался после третьей сказки о морских чудищах, засыпая с деревянной сабелькой в руке.
Я стоял на пороге детской, опираясь о косяк, чувствуя, как усталость, накопленная за день битв в Комитете и отражения теневых ударов, наваливается свинцовой тяжестью. И среди этой тишины, в мягком свете ночника, сидела она. Елизавета Дмитриевна. Моя Лиза. Жена, к которой я даже не прикоснулся после долгой разлуки.
Она не смотрела на меня. Ее пальцы, тонкие и обычно такие уверенные, бесцельно перебирали складки шелкового пеньюара. Профиль ее, освещенный сбоку, казался вырезанным из холодного мрамора.
Красивая. Недосягаемая. Мы не виделись месяцами. Война, дела, эта проклятая Аляска… Я видел, что Лиза ждала этого вечера. Ждала тепла моих рук, тихого шепота в темноте, забытья, но сейчас воздух в комнате был густым, как смола, пропитанным невысказанным. По обычаям этой эпохи мы должны были объясниться.
– Алеша… – ее голос прозвучал хрипло, неуверенно и в тоже время – страстно.
Видно, что соскучилась. Я – тоже. Сделав шаг внутрь комнаты, я сказал:
– Дети спят. Все спокойно.
– Спят, – ответила она, не поднимая на меня глаз. Ее голос был гладким, как отполированное стекло. – Петя долго не мог успокоиться. Спрашивал тебя. Хотел показать, как его фрегат потопил английский бриг.
Я кивнул. Каяться мне было не в чем. Я и не обещал, что буду сидеть с ними неотлучно.
– Завтра… – начал я, подходя ближе, пытаясь поймать ее взгляд. – Постараюсь отложить все дела и показать ему учебный морской бой. С холостыми выстрелами и абордажем.
– Завтра в восемь у тебя заседание Комитета, – отрезала она все тем же ровным, бесстрастным тоном. – А в девять тридцать – совещание у Военного министра. Прости, я видела пометки в твоем календаре. Выделено красным. «Неотложно».
Лиза знала меня. Знала, что я ни под каким предлогом не откажусь от дел, которые считаю важными. И использовала это знание сейчас как щит. Я сел на край кровати, почти в метре от нее. Достаточно близко, чтобы чувствовать легкий аромат ее духов – лаванды и чего-то неуловимо горького. Слишком далеко, чтобы коснуться.
– Прости, – прошептал я. – Знаю… знаю, что был далеко. Что ты одна… с детьми… в Екатеринославе, в дороге, здесь… Это… несправедливо, но…
Жена, наконец, повернула голову. Ее глаза, обычно теплые, как осенний мед, сейчас были темными, бездонными озерами. В них не было ни гнева, ни слез. Была… усталая, ледяная ясность.
– Несправедливо? – Она слегка наклонила голову, будто изучая редкий экспонат. – Алексей, ты забыл прислать цветы на нашу годовщину. Ты не был на крестинах Лизы и Алеши. Ты даже не спросил, как мы доехали? Я давно привыкла к твоему… отсутствию. Даже когда ты телесно здесь, мысли твои где-то далеко… В этих твоих комитетах, чертежах, шифровках. – Лиза помолчала, и в тишине шипение керосиновой лампы стало еще громче. – Это не несправедливость. Это… данность нашей жизни. Я приняла ее. Давно.
Я хотел возразить. Сказать, что строю будущее для них, для России. Что каждое решение в Комитете, каждый рискованный шаг – ради них. Однако слова застряли в горле. Они прозвучали бы фальшиво даже для меня самого. Потому что среди всех причин была и одна, о которой мы не говорили открыто. Тень, висевшая между нами почти два года. Тень, о которой супруга, похоже, знала. Нашлись доброжелатели.
– Я слышала, – произнесла она тихо, почти шепотом, но каждое слово падало, как камень. – Про Анну Владимировну Шварц… Что она… пыталась утопиться. В канале. Ее вытащили. Сейчас она в… – Лиза чуть помедлила, подбирая слово, – в заведении доктора Штейна. Для нервнобольных.
Вот и прозвучало это имя – Анна Шварц. Красивая, истеричная, безумно влюбленная когда-то… и безумная в буквальном смысле сейчас. Наша связь – давняя ошибка, краткий всплеск слабости на фоне бесконечной работы и отчуждения от Лизы.
Кончилось все быстро, уродливо. Анна смогла принять это. Не преследовала меня письмами, угрозами или попытками шантажа. Я о ней и не вспоминал, что было – то прошло. Однако ее пытались втянуть в политическую игру вокруг меня… Вот она и доигралась… До Екатерининского канала и лечебницы Штейна.
– Лиза… – начал я, голос предательски дрогнул. – Это… давняя история. Глупая. Постыдная. Она… не имела значения. Никогда.
– Для тебя – не имела, – парировала она мгновенно, и в ее глазах мелькнуло что-то острое, как лезвие. – Для нее – имела. Достаточно, чтобы броситься в ледяную воду. Достаточно, чтобы сойти с ума. – Она встала, подошла к окну, спиной ко мне. Ее фигура в тонком пеньюаре, очерченная тусклым светом из окна, казалась хрупкой и несгибаемой одновременно. – Я не ревную, Алексей. Бога ради. Тела? Они преходящи. Я знаю цену твоим амбициям. Но… – она обернулась, и в ее глазах стояли не слезы, а лед, – но когда твоя… слабость… ломает жизни, когда она приводит к таким вот… каналам и лечебницам… Это уже не просто твоя постыдная тайна. Это грязь. Которая может забрызгать тебя самого. И нас. Петю. Лизу. Алешу. Твои враги ищут крючок, чтобы зацепить тебя. И Анна Шварц с ее безумием – идеальный крючок. Ты ведь мог подставить нас. Не своей изменой, а своей… беспечностью.
Каждое слово било точно в цель. Я чувствовал, как гнев – на себя, на Анну, на эту ситуацию – смешивается с пониманием того, что Лиза в общем права. Что эта история – слабое звено. Что Щербатов или Андерсон могут докопаться. Использовать сумасшедшую женщину, чтобы бросить тень на меня, на Комитет. Опасность была не в самом факте давней связи, а в ее уродливом финале и в том, что я допустил его.
– Не я довел ее до этого, – сказал я, вставая. – Да, я не отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Я поддался ее просьбе, но сразу дал понять, что наша связь окончена. – Я сжал кулаки. – Ее пытались использовать против меня. Хотели запутать, втянуть в дешевый фарс, но Анна… Она перерезала горло одному из них и выстрелила в голову другому. Так что в канал она бросилась не из-за меня. И все же я помогу ей… Ее переведут в лучшее заведение. За границу, если надо. О ней позаботятся. Это… будет исправлено.
– «Исправлено»? – Лиза горько усмехнулась. – Жизнь, сломанную твоим равнодушием и ее безумием? Ты можешь запереть ее в самой дорогой клинике Швейцарии, Алексей. Но ты не исправишь того, что уже случилось. И не вырвешь того шипа, который теперь сидит во мне. Этот шип – знание о том, что мой муж, вице-канцлер, организатор великого восстановления Империи, так легко, так беспечно переступает через души. Что для него люди – пешки. Как в твоих комитетах. Как в твоей тайной игре на Аляске…
***
Рейкьявик. Название, означающее «Дымная Бухта», оправдывало себя. Холодный дождь смешивался с едким дымом от сотен печей, отапливающих низкие, крытые дерном дома. Воздух вонял рыбой, дегтем, влажной шерстью и угольной пылью.
«Святая Мария», втиснутая между потрепанной норвежской шхуной и черным от пыли британским угольщиком, казалась чужеродным лебедем в стае поморников.
Иволгин стоял на квартердеке, наблюдая, как команда, под неусыпным взором Бучмы, принимает последние мешки с углем. Каждый мешок был глотком жизни для паровой машины. Глотком, купленным слишком дорого.
Они стояли в Рейкьявике второй день. Это были два дня нервного ожидания, щемящей тоски по дому и постоянного чувства, что за ними следят. Иволгин знал – следят. «Ворон» не ушел. Он маячил на внешнем рейде, за туманной пеленой, вытянутый, тускло-серый, зловещий, как гроб. Его команда даже не была отпущена на берег. «Ворон» просто ждал, притаившись, как хищник у водопоя.
– Уголь приняли, капитан, – доложил старший помощник Никитин, поднимаясь на мостик. Его лицо было серым от усталости и небритой щетины, но в глазах горел старый огонь. – Пресная вода – полные цистерны. Провиант – на три месяца, если экономить. Соль, медикаменты… все, что смогли найти в этой дыре. – Он кивнул в сторону выхода из бухты. – А тот… все там. Как привидение.
– Вижу, – отозвался Иволгин, не отводя подзорной трубы от силуэта «Ворона». – Он ждет, когда мы выйдем.
– А почему он не взял нас здесь? – спросил Никитин, понизив голос. – В порту? Не захотел скандала?
– Потому что капитан его не дурак, – резко сказал Иволгин. – В порту – свидетели. Власти. Пусть это всего лишь датчане… Захват судна под Андреевским флагом – инцидент. А в открытом море…
Он не договорил. В открытом море можно было устроить «несчастный случай». Исчезновение. Или захват «по подозрению в пиратстве». Без лишних глаз.
Капитан скользнул взглядом по набережной, где толпились зеваки – выродившиеся потомки викингов. И обратил внимание на высокого человека с головы до ног затянутого в черную кожу. Он подошел к вахтенному матросу, дежурившему у трапа. Что сказал ему.
Парень сорвал бескозырку и просемафорил ею на мостик: «Русский. Просит разрешения пройти к капитану». Иволгин махнул рукой – пропустить. Незнакомец ловко взбежал по трапу. Поднялся на квартердек. У него было жесткое обветренное лицо.
– Вы – капитан? – спросил он, ощупывая Иволгина холодными голубыми глазами.
– С кем имею честь?
– Сотрудник Гидрографического департамента, Орлов, Викентий Ильич, – отрекомендовался тот.
Капитан «Святой Марии» не дрогнул не единым мускулом, хотя в голове у него тут же вспыхнула строчка из последней депеши Шабарина «Берегись „Орлов“. И вот перед ним человек, отрекомендовавшийся Орловым. Не его ли следует беречься?
– Вы с какого судна, господин Орлов? Я что-то не вижу в порту других русских кораблей.
– Если позволите, господин капитан, я хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз.
Иволгин почувствовал, что Никитин, что стоял за спиной незваного гостя, напрягся.
– Ну что ж, извольте пройти в мою каюту, – сказал капитан и первым начал спускаться с мостика. Проходя мимо камбуза, окликнул стюарда:
– Мекешин! Кофе и сэндвичи на двоих в мою каюту!
Иволгин происходил из семьи завзятых англоманов. У входа в надстройку, он вежливо пропустил чужака вперед. Не хватало, чтобы тот воткнул ему под лопатку нож или выстрелил в затылок. «Берегись Орлов». Для экономии времени ни знаки препинания, ни тем более кавычки в депешах «Петра» не использовались. Вот и понимай, как хочешь.
Отворив дверь своей каюту, капитан «Святой Марии» пропустил гостя внутрь. Вошел сам, оставив дверь приоткрытой. На всякий случай. Орлов огляделся. Иволгин жестом пригласил его садиться в единственный в маленькой каюте стул.
Чужак остался стоять, только вдруг принялся неловко расстегивать левой рукой свой кожаный редингот. Закончив, произнес с виноватой улыбкой:
– Не сочтите за друг, господин капитан. Не могли бы вы помочь мне снять это одеяние. Видите ли, у меня ранена рука.
Иволгин помог ему освободиться от редингота. Орлов во время этой операции болезненно морщился. Когда кожаное одеяние оказалось снято, капитан «Святой Марии» увидел, что рукав сорочки на правой руке разодран, а предплечье наспех забинтовано. И кровь пропитала повязку.
– Я приглашу врача, – сказал Иволгин. – Вашу рану надо осмотреть и перевязать, как следует.
– Буду вам весьма благодарен, – откликнулся гость. – Однако – позже. Сначала – дело… Будьте любезны, господин капитан, предъявите ваши документы! Желательно – капитанский патент.
– А вы не находите, господин Орлов, что это уж слишком? Кто вы собственно такой?
– Скоро вы все узнаете, господин капитан. Я должен сначала убедиться…
Иволгин вынул из запираемого несгораемого ящика свои бумаги. Тут в дверь постучали. Оказалось, что это стюард принес кофе и сэндвичи. Капитан благодарным кивком выставил Мекешина за дверь. В это время Орлов без стеснения рассматривал его документы.
– Все в порядке, господин Иволгин, – пробормотал он. Потом шагнул к двери и плотно ее притворил и понизив голос, добавил: – На востоке солнце встает над Нуткой.
***
Последнее слово Лиза произнесла почти шепотом, но я дернулся, как от удара током. Она знает? Или – догадывается? Или просто брякнула наугад? Не хватало мне еще шпионажа в собственной семье…
Я подошел к ней вплотную. Хотел схватить за руки, заставить посмотреть в глаза, и сказать, чтобы она не смела больше говорить о моих делах. Слов не потребовалось. Лиза отшатнулась, как от прикосновения раскаленным железом. По глазам было видно – поняла, что хватила лишку.
– Не надо, – ее голос дрогнул впервые. – Не сейчас. Я устала. Я… не хочу больше разговоров. Не сегодня.
Она обошла меня, направляясь к двери в спальню. На пороге остановилась, не оборачиваясь.
– Люби детей, Алексей. Хоть их ты не считай пешками… А меня… оставь в покое. На сегодня.
Дверь закрылась за ней с тихим щелчком, который прозвучал громче любого хлопка. Я остался один в полутьме детской. Воздух гудел от невысказанного, от ее ледяного гнева и моей беспомощной сейчас ярости. Тень Анны Шварц, безумной и мокрой, висела в комнате тяжелым призраком. Я потушил ночник, оперся лбом о прохладное дерево кроватки Алеши. Дыхание детей казалось единственным якорем в этом море грязи и отчаяния.
«Люби детей… А меня оставь в покое…»
Слова эти жгли. Я повернулся, чтобы уйти, дать жене тот самый «покой», о котором она просила, но пройти мимо двери в нашу спальню, как мимо крепости с поднятым мостом, я не смог – ноги не слушались.
Гнев на себя, на Анну, на весь этот нелепый, грязный мир, смешался с чем-то иным. С дикой, животной тоской. Тоской по жене. По ее теплу, по запаху кожи, по тому забытью, которое только она могла дать. Месяцы разлуки, холодных ночей в казенных кроватях, постоянное напряжение воли, сжатой в кулак – все это обрушилось на меня волной, сметая осторожность и гордость.
Я не постучал. Просто толкнул дверь. Она не была заперта. Елизавета Дмитриевна стояла у зеркала, спиной ко мне, сняв пеньюар. Тонкая сорочка из кремового батиста очерчивала знакомый, любимый до боли изгиб спины, линию бедер.
Лампада перед иконой в углу бросала дрожащий свет на ее обнаженные плечи, на прядь темных волос, упавшую на шею. Она вздрогнула, услышав шаги, но не обернулась. Плечи ее напряглись.
– Лиза… – мой голос был чужим, хриплым от нахлынувшего желания. Я сделал шаг, потом еще один. – Я не могу… Я не уйду. Не сейчас.
Я подошел вплотную. Услышал ее сдержанное дыхание. Увидел, как под тонкой кожей на шее пульсирует жилка. Пахло лавандой, теплой кожей и слезами. Она не отворачивалась, но и не поворачивалась. Замерла, как лань, почуявшая охотника.
– Я просила оставить меня в покое, – шепотом сказала она, но в ее голосе не было прежней ледяной силы. Была усталость. И дрожь. Та самая дрожь, которую я знал.
– Я не могу, – повторил я, и мои руки, будто помимо воли, легли ей на плечи. Кожа под пальцами была прохладной, шелковистой. Она вздрогнула сильнее, но не отстранилась. – Месяцы, Лиза… Месяцы я не дышал. Только работал, воевал, интриговал… Я умираю без тебя. Даже… даже через всю эту грязь. Особенно через нее.
Мои пальцы скользнули вниз, по ее рукам, ощущая под батистом знакомые косточки запястий, тонкость предплечий. Я прижался губами к ее шее, к тому месту под ухом, которое всегда заставляло ее зажмуриваться. Вдохнул глубже. Лаванда, соль слез, ее – родной, единственный запах. Запах дома, которого я лишил себя.
– Алексей… не надо… – она попыталась вырваться, но движение было слабым, половинчатым. Ее тело помнило. Помнило мое. Столько лет вместе – ложь, измена, обиды не могли стереть мышечной памяти, химии притяжения, заложенной глубже любых слов. – Я не хочу… не сейчас… После того, что ты…
Я перекрыл ее слова поцелуем. Не нежным. Жестким, требовательным, полным отчаяния и голода. Она сопротивлялась секунду, губы ее были сжаты. Потом… сдалась. Со стоном, похожим на рыдание. Ее руки поднялись, не оттолкнуть, а вцепиться в мои волосы, притянуть ближе. Поцелуй стал глубоким, влажным, горьким от ее слез, которые текли теперь беззвучно, смешиваясь со вкусом нашего отчаяния.
Мы не шагнули к кровати. Мы рухнули на нее. Одежда была помехой, которую мы рвали, сбрасывали с себя в каком-то безумном, яростном танце. Никакой нежности. Только ярость плоти, заглушающая ярость души. Желание стереть дистанцию, боль, предательство – хотя бы на миг – чистым, животным соединением.
Мои руки сжимали ее бедра, поднимая ее навстречу мне. Ее ноги обвили мою спину, пальцы впились в кожу, оставляя следы. Мы двигались в жестоком, отчаянном ритме, не глядя друг другу в глаза, стараясь не думать, только чувствовать.
Чувствовать тепло, тесноту, знакомые изгибы, спазм наслаждения, который вырывался стоном из ее горла – стоном, в котором было больше боли, чем радости.
Это не было любовью. Это было забвением. Взрывом темной звезды, ненадолго освещающей бездну между нами. Когда волна схлынула, оставив нас мокрыми, дрожащими, лежащими рядом в темноте, наступила не тишина примирения, а тяжелое, стыдливое молчание.
Я чувствовал, как бьется ее сердце под моей ладонью, прижатой к ее груди. Так же часто, как мое. Но между нами лежало все невысказанное, вся горечь вечера. Страсть не сожгла мосты. Она лишь на миг заставила забыть о пропасти. Я обнял ее, прижал к себе. Она не отстранилась, но и не прижалась. Просто лежала, дыша. Глаза ее в темноте были широко открыты, смотрели в потолок.
– Лиза… – начал я, но слова застряли. Что я мог сказать? Извиниться за Анну? Обещать, что такого больше не будет? Это было бы ложью. Мы оба знали, что моя жизнь – это риск, расчет и постоянная игра с огнем. И люди рядом со мной могут обжечься. Даже она.
– Молчи, – прошептала жена. Ее голос был хриплым, опустошенным. – Просто… молчи. И держи меня. Пока не рассвело.
Я притянул Лизу ближе, вжавшись лицом в ее волосы. Держал. Крепко. Как утопающий держится за обломок. Знал, что утром стена между нами вырастет снова. Что разговоры, наподобие сегодняшнего, еще впереди.
Что враги не дремлют, а Иволгин, возможно, гибнет в океане. Но в эту темную минуту, в тепле ее тела, пахнущего лавандой и мной, было единственное спасение. Краткое, горькое, необходимое, как глоток воды в пустыне. Мы так и заснули – вцепившись друг в друга, не простив, не забыв, но на миг прекратив войну.
Глава 2
Вечный, назойливый питерский дождь, наконец, перестал молотить в окна, но легче от этого не стало. Я только что вернулся из Особого Комитета – с еще одной битвы за новые дороги, за фабрики, за будущее России, которому столь многие сопротивлялись.
Ей богу, на войне легче, чем в кабинетах. Все эти лощеные чинуши, хитрованы купчины – от них устаешь сильнее, чем в штыковой атаке. После часа— другого переливания из пустого в порожнее, у меня начинала болеть не только голова.
От желания разбить эти лощеные рожи ныли уже не только мышцы – кости. Эх, давненько я не брал в руки шашки. В смысле – шашку… Все не досуг… Зря я об этом подумал, как говорится – накликал.
Едва я потянулся к графину с водой, как вдруг дверь распахнулась без стука. Ворвался Верстовский. Лицо его посерело как небо на столицей, в руках он сжимал листок телеграфной депеши, держа его как отравленный кинжал.
– Ваше сиятельство… Екатеринослав… – голос его сорвался. – Губернатор Сиверс… Его карета… Взорвана на Соборной улице. Вместе с женой… и детьми. Никто не выжил. Их всех убило…
Графин выскользнул из моих пальцев, свалился на дорогой персидский ковер с глухим стуком. Вода растеклась темным пятном, смешиваясь с узором. Я не верил своим ушам… Выхватил у жандарма листок, прочитал депешу:
«Ваше высокопревосходительство… Третьего дня… Губернатор Сиверс… Вместе с домочадцами…»
Александр Карлович Сиверс… Тучный, вечно недовольный, но эффективный управленец. Моя крепкая опора в губернии, где я начинал и где столько всего было задумано и сделано. И сколько еще предстоит сделать…
Представляю ужас, какой испытает Лиза, когда узнает об этом… Ведь она знавала жену Сиверса… Да и я ее помню… Она так заразительно смеялась на балу всего-то год назад. И дети… двое мальчишек. Взорваны… От ненависти перехватило дыхание…
– Кто? – слово вырвалось хриплым шепотом.
– Неизвестно. Местные жандармы в недоумении. Депеша пришла с опозданием… Но… – Верстовский протянул другой листок – не телеграфный, а грязный, мятый, будто побывал во многих руках. – Это… нашли утром среди вашей почты, ваше сиятельство.
Я развернул бумагу. Почерк был грубым, угловатым, будто не пером писали, а вырезали ножом. Слова лезли в глаза:
«ПСУ СИВЕРСУ – СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ! ПЕСНЯ СПЕТА! НЕ ДРЕМЛЕТ ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДЕЙСТВИЯ! ГОТОВЬСЯ, ШАБАРИН, ПРИСПОСОБЛЯЕМ ПЕТЛЮ И ТЕБЕ, ЦАРСКОМУ ХОЛУЮ, ДУШИТЕЛЮ СВОБОДЫ! КОРОТКА ВЛАСТЬ ПСОВ САМОДЕРЖАВИЯ! ДОЛОЙ ТИРАНОВ! ЗА ВОЛЮ НАРОДНУЮ!»
Ком в горле превратился в ледяную глыбу. Не просто террор. Послание. Личное. Мне. «Петлю приспособляем». Мои пальцы сжали бумагу так, что костяшки побелели. Перед глазами встали лица: Лиза, читающая перед сном. Петя, машущий деревянной саблей. Маленькие Лиза и Алеша, спящие в кроватках. И… взорванная карета. Обгоревшие детские тела. Петлю?..
– Верстовский, – снова заговорил я. – Немедленно. Экстренное совещание. В Третьем отделении, у графа Орлов. Пригласить… Нет, доставить всех, кто нужен.
Через полчаса в кабинете графа Орлова в здании Третьего отделения на Мойке собрались все, кого я велел доставить. За столом – сам шеф жандармов, его замы, представитель Министерства внутренних дел с лицом подлинного цербера закона. Я швырнул на стол мятое письмо «Народного Действия» и депешу о гибели Сиверса.
– Видите? – спросил я, не садясь. – Это не просто убийство. Это объявление войны. Лично мне. И всему, что я делаю. Особому комитету. Будущему Империи.
Граф Орлов, благообразный старик с холодными глазами, покачал головой, тяжело вздохнув:
– Ужасная трагедия, Алексей Петрович. Скверно. Скверно. Жандармы в Екатеринославе бездарны, конечно… Усилим розыск. Все силы бросим…
– Розыск? – перебил его я, стукнув кулаком по столу. Стаканы звякнули. – Они уже здесь, граф! В Петербурге! Они бросили вызов лично! Они знают, где я живу! Они пришли за мной! И за вами, если вы этого не понимаете! Хуже того – за нашим императором! Вспомните Владимирова!
– Ваше сиятельство, выбирайте слова, – зашипел чиновник из МВД. – Мы ведем наблюдение за всеми подозрительными кружками. Аресты воспоследуют…
– Аресты? – я горько усмехнулся, наклонившись к нему. – Вы будете арестовывать призраков?.. Пока они готовят следующий взрыв! Следующей кареты! Моего дома! Или – вашего!.. Они нападают из тени! Значит, и бить по ним нужно тоже из тени! Мне нужны не соглядатаи, а охотники!
Я выпрямился, глядя им в глаза – этим сытым, осторожным бюрократам.
– Я предлагаю создать особые группы. Своего рода эскадроны смерти. Вне всяких формальностей. Из ветеранов-фронтовиков, знающих цену свинцу и стали. Из агентов Третьего отделения, готовых на все. На средства из фондов Комитета и… лично моих. Им – должна быть предоставлена полная свобода рук. Выявление, слежка, ликвидация. Без суда. Без следствия. Без бумаг. На террор следует отвечать террором. Кровь за кровь. Они хотят тайной войны? Они ее получат. И узнают, что такое настоящий имперский порядок.
В кабинете повисло гробовое молчание. Граф Орлов побледнел. Его замы переглянулись. Представитель МВД вскочил:
– Это… это беззаконие, ваше сиятельство! Частные убийцы? Вне контроля Третьего отделения и нашего министерства? Это же хаос! Варварство! Самодержавие держится на законе…
– Самодержавие, – перебил я его ледяным тоном, – держится на силе. На умении отвечать ударом на удар. А закон? Закон хорош для мирного времени. Сейчас война. Война, которую объявили нам. Сиверс и его дети – первые жертвы. Кто следующие? Вы, граф? Ваши дети? Император?!
Я видел сомнение, страх, отвращение в их глазах. Они боялись моей идеи больше, чем террористов. Боялись ответственности. Боялись царя. Боялись меня.
***
– На востоке солнце встает над Нуткой, – повторил Орлов, его голос был низким, ровным, но в нем чувствовалась усталость, не физическая, а глубинная, как у человека, несущего слишком тяжелую тайну. – Вы узнаете этот пароль? Знак того, что я не самозванец. Хотя, глядя на меня, в этом можно усомниться.
Он опустился в кресло и взял чашечку с кофе, и в его серых, холодных глазах Иволгин увидел что-то новое – не ученую сдержанность, не расчет, а отблеск пережитого.
– Я узнаю пароль, – сказал капитан.
– Шабарин… Алексей Петрович… он знал, что «Святой Марии» понадобится проводник там, где карты лгут, а компас сходит с ума. Где лед строит лабиринты, а течения затягивают в ловушки. Там, в проливах между морями Баффина и Бофорта… Это моя стихия. Мое проклятие…