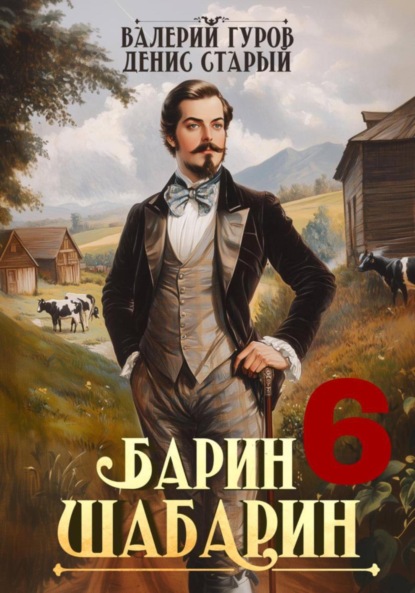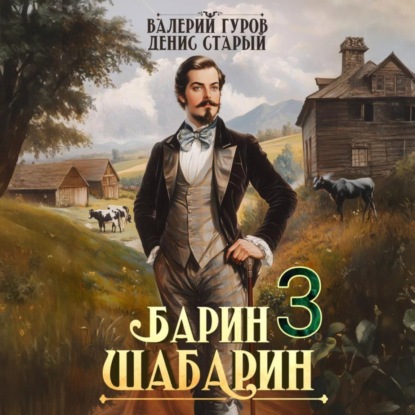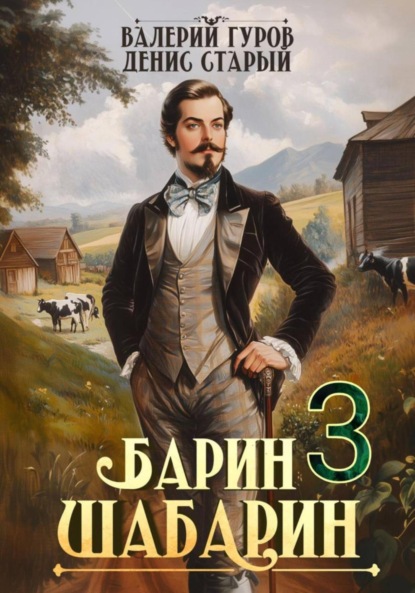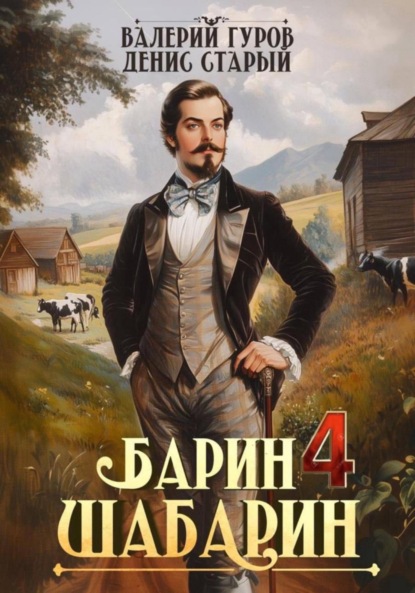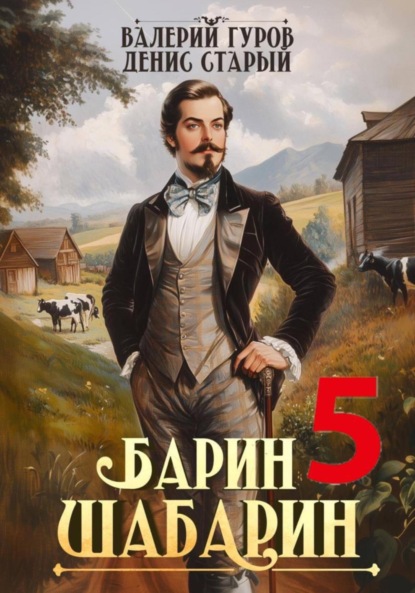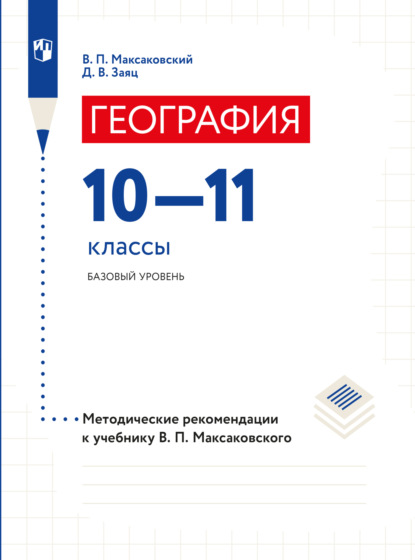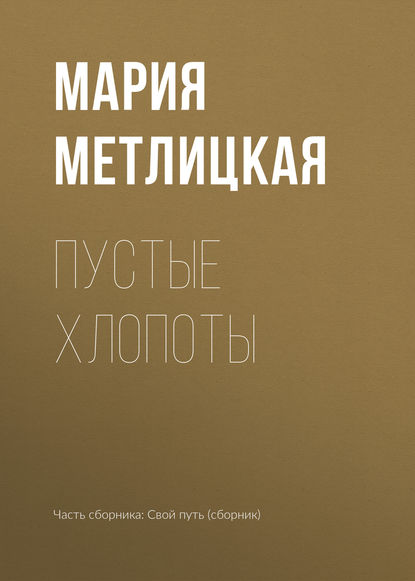Барин-Шабарин 9
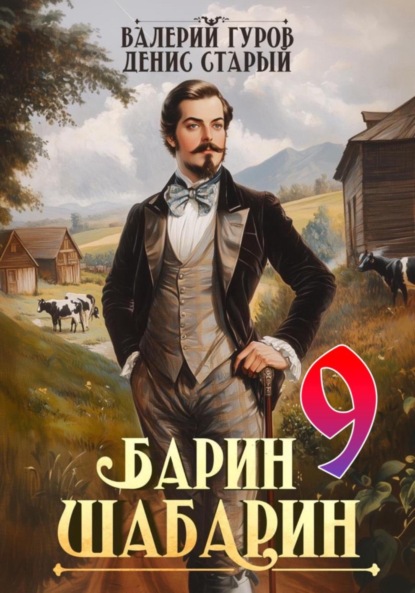
- -
- 100%
- +
***
«Щит Империи». Так я назвал их. Не «Черные Вепри», как предлагал кто-то из моих помощников. Слишком зверино и примитивно. Щит. Защита. Сталь, закаленная в горниле. Команда отборных, верных только мне, прошедших через ад Крымской войны, Константинополя, Варшавы, Марселя и уже познавшие мрак питерского подполья.
Эскадроны смерти? Возможно. Но это был мой скальпель, острый и беспощадный, вскрывающий гниющую плоть столицы. Я чувствовал их присутствие даже здесь, за толстыми стенами Зимнего – тени, готовые к действию.
И посему, получив полное одобрение самого венценосца, той же ночью я выпустил «Щит» на охоту. Петербург погрузился во влажный, холодный сумрак, пронизанный редкими огнями фонарей, отражавшимися в лужах, как слепые глаза.
Как призраки, выныривая из колодцев дворов и черных пастей подворотен, мои щитоносцы пресекали готовящиеся преступления. Не только – террор. Грабеж, убийство, изнасилование – любой криминал.
Не лязг сабель, не горделивые выкрики – тихий скрип дверей, взломанных ломами, обмотанными тряпьем, приглушенные хрипы в темноте, короткие, как выдох, команды. Так осуществлялись облавы на явочных квартирах в районе Сенной площади, где вонь дешевой харчевни смешивалась с запахом нищеты и гнили.
На конспиративных мастерских в мрачных доходных домах Коломны, где под видом часовщиков или аптекарей бомбисты варили свои адские смеси. Щитоносцы находили банки с едкой кислотой, склянки с ртутью, обрезки медных проводов, литографские шрифты, которыми печатались проклятия «тирану Шабарину» и корявые чертежи новых бомб, придуманных «народными мстителями». Каждая находка была красноречивее любых газетных пасквилей. Улики упаковывались в мешки, как урожай смерти.
Бывали и перестрелки. Короткие, яростные вспышки во тьме трущоб у Обводного канала. Оранжевые сполохи выстрелов, режущие ночь, крики боли, больше похожие на стон, глухие удары прикладов о кость и плоть.
Мои люди не брали пленных в горячке боя. Никакой пощады, никаких сантиментов. Я требовал результатов, а не зверства ради зверств. Но эффективность в этой грязной войне часто выглядела как немотивированная жестокость для тех, кто не видел, как выглядит человек после взрыва гремучей ртути, в банке, начиненной гвоздями. Кто не слышал предсмертного хрипа невинного кучера или ребенка, пробегавшего мимо.
И город просыпался другим. Да, страх витал в сыром утреннем воздухе, густой, липкий, осязаемый. Его можно было вдохнуть, как туман. Но это был уже не только страх перед невидимым, вездесущим террором. Это был и страх перед безжалостной, неумолимой мощью «Щита». Передо мной. Петля затягивалась туже, сжимая глотку столицы. Город замер, прислушиваясь к шагам в ночи, к скрипу ступеней. Даже звон колоколов с колокольни Петропавловской крепости звучал как погребальный набат.
Я тоже не отсиживался в сторонке в то мокрое питерское лето, прочувствовав на себе всю ее сырость, которая была не просто влажностью, а живой, пронизывающей до костей субстанцией. Она же сочилась по серым, покрытым мерзлой слизью и чем-то бурым, похожим на запекшуюся кровь, стенам подвала.
Сырость впитывалась в толстое сукно моей шинели, пробиралась под воротник мундира, смешивалась с едким запахом человеческого пота, страха, рвоты и старой крови, въевшейся в каменный пол. Это место – сырой, низкий, как склеп, подвал под казармами моих «щитоносцев» на Галерной улице – существовало вне официальных протоколов, вне законов, написанных для солнечного света. Здесь царили законы тени, войны и возмездия. Воздух был тяжелым, словно его можно было резать ножом.
Я приезжал сюда для того, чтобы вести допросы. И вот передо мною, на грубом стуле, привязанный веревками к спинке, сидел очередной подследственный. Молодой. Лет двадцати, не больше. Лицо бледное, восковое, с огромным сине-багровым фонарем под левым глазом. Губа распухла, запекшаяся кровь бороздкой тянулась от уголка рта к подбородку. А вот глаза… Глаза светились фанатичным, неистовым внутренним огнем.
Кто он? Студент Практического технологического института? Рабочий с Чугунолитейного? Неважно. Его взяли вчера на полуподвальной конспиративной квартире в Песках, с двумя фунтами гремучей ртути в банке и пачкой листовок. Не рядовой боевик. Связной. Координатор мелкой ячейки. Звали его, по документам, Егор Семенов.
Я стоял перед ним, сняв волглую шинель и оставшись в темно-зеленом мундире без знаков различия и регалий. Незачем сбивать допрашиваемого с панталыку золотом шитья и орденскими звездами. При виде высокопоставленного чиновника, он сразу почувствует себя героем, борцом с самодержавием. А должен почувствовать себя вошью, гнидой, которую раздавить не жалко.
Понятно, что я не собирался кричать на него. Тем более – мордовать. Щитоносцы не жандармы и не палачи. Мы – карающий меч контрреволюции. Телесные истязания – удел слабых, глупых и отчаявшихся. А я смотрел Семенову в глаза. Холодно. Пристально. Без ненависти, но и без жалости. Как ученый на интересный, но опасный экземпляр.
Мой заместитель, Седов, настоящая каменная глыба с лицом, изъеденным оспой, как после дроби, стоял у железной двери, неподвижный, слившись с тенью. Его дыхания не было слышно. Он его затаил, чтобы не пропустить ни одного слова, которое будет произнесено здесь – ни моего, ни подследственного.
***
– Егор, – начал я тихо, почти ласково, как разговаривают с запуганным зверьком. Голос звучал странно гулко в каменном мешке. – Ты не убийца. Не чудовище. Ты… заблудший. Одураченный. Использованный. Твои друзья, те, кто дал тебе эту банку со смертью, однажды пытались меня убить. Знаешь? – Я сделал паузу, давая словам впитаться, как яду, и увидел, как его зрачки чуть расширились. – В карете был не я. Арестант. Бывший солдат. Звали его Степаном. У него остались жена, Марья, и двое детей в Вологде. Девчонка Аленка, лет восьми, и мальчишка Ванька, пяти лет. Сироты теперь, Егор. Благодаря тебе. И твоим друзьям. Благодаря этой гремучке в банке.
Фанатичный блеск в глазах Егора дрогнул. В глубине, за огнем ненависти, мелькнуло что-то другое – растерянность? Крайне слабая, но все же жалость? Я продолжил, методично, как хирург, вскрывающий нарыв:
– Ты веришь, что твои банки, твои бомбы принесут свет? Свободу? Всеобщее счастье? Взгляни сюда. – Я кивнул Седову. Тот молча шагнул вперед, его сапоги глухо стукнули по камню. Он бросил на пол у ног Егора пачку тех самых листовок, изъятых в Песках. А сверху – аккуратно положил фотографию в деревянной рамке. Старая, выцветшая. Пожилая женщина с усталым, но добрым лицом, мужчина в мещанском сюртуке с бакенбардами, двое детей – девочка с косичками и мальчик в гимназической форме. Обычная разночинская семья. – Твои хозяева, Егор. Знакомы? «Пламенник» и его ближний круг. Живут в хорошей, теплой квартире на Английском проспекте. Пьют дорогой цейлонский чай из фарфоровых чашек. Пишут воззвания о страданиях народа, о его гневе. А посылают на смерть таких, как ты. И таких, как Степан. Ты – расходный материал в их большой игре. В чужой игре, Егор. Чьей?
Егор напрягся всем телом, губы задрожали, обнажая сцепленные зубы. Он попытался отвернуться, резко дернув головой. Седов, не меняя выражения лица, грубо, одним движением огромной лапы, вернул его голову лицом ко мне. Костлявые пальцы моего зама впились в щеку парня.
– Кто платит, Егор? – Мой голос стал жестче. – Кто дает деньги на квартиру на Английском проспекте? На кислоту? На хорошую бумагу для листовок? На тот самый дорогой чай? Чьи интересы ты обслуживаешь, разнося по городу банки со смертью? Чьи?!
Последнее слово прозвучало как удар хлыста. Я не ожидал прорыва. Но он случился. Не от страха перед болью, которую Седов мог причинить легко. От внезапной, дикой ярости преданного дурака. От острого, как нож, осознания, что его «святое дело», его жертвенность – всего лишь грязная ложь, прикрытие для чужих целей. Его лицо исказилось гримасой бессильной злобы.
– Не знаю! – выкрикнул он хрипло, срываясь, слюна брызнула из распухшего рта. – Не знаю имен! Клянусь! Деньги… приходят через Ригу! Контора… «Балтийская торговая компания»… Ящики с «оборудованием»… с пометкой «Лондон»! Консульство… их курьеры, в бархатных ливреях… всегда… всегда курят! Этот… этот английский табак! Пахнет… как в аду! Вы – тиран! Палач! Но… они… они используют нас! Как скот! Как пушечное мясо!
Он затих, задыхаясь, судорожно глотая воздух, плевая на пол кровавой слюной.
«Балтийская торговая компания». Рига. Ящики «оборудования» из Лондона. Курьеры консульства. Английский табак. Все совпало с уликами, которые мы собирали на месте терактов или изымали на конспиративных квартирах. Не прямое указание на Форин-офис, конечно, но нить прослеживается достаточно ясно, как лед на Неве. Очень, и очень ясно.
Я отступил на шаг. Сырость подвала вдруг показалась не просто влажностью, а ледяным дыханием далекого, туманного острова, донесшимся через тысячи верст. Не «Народное действие» было истинным врагом. Оно было лишь оружием. Топором в руках кузнеца. И кузница эта стояла не где-нибудь, а на берегах Темзы. Истинный враг дышал ненавистью к возрождающейся России, к ее будущему. Ветер дул с запада. Несло холодом, запахом пороха и сладковатым дымком «Capstan Navy Cut». Внезапно, с невероятной ясностью, я вспомнил запах табака, который распространял вокруг себя британский военный атташе Монтгомери во время нашей встречи у австрийского министра иностранных дел.
– Перевести в камеру, – приказал я Седову. – Отдельную. Сухую. Накормить. Перевязать раны. И пусть доктор осмотрит его.
Сказав это, я больше не смотрел на Семенова, а направился к выходу, к узкой, скрипучей лестнице, ведущей наверх, в мир света и условностей. Данных накапливалось все больше, затягивая петлю доказательств причастности британских властей к «внезапному» взрыву в России революционной активности.
Теперь я знал, куда направить не только «Щит», но и тонкие щупальца дипломатии, финансового давления. Война вышла на новый, куда более опасный уровень. Ветер с Темзы грозил стать ураганом, способным смести все на своем пути. И я обязан был встретить его во всеоружии, не дрогнув.
Правда, одного давления и дипломатической игры мало. Лондон должен почувствовать на себе всю тяжесть русского возмездия. Веками англичанка гадила безнаказанно, встречая любой отпор недоуменным: «And what about us? – А нас-то за что?». А – за все! За кровь невинных! За то, что вы всюду суете свой сопливый нос и гадите, гадите, гадите…
Глава 4
Холодное утро билось в высокие окна кабинета в Зимнем, отражаясь в полированной поверхности стола, как в замерзшем озере. Запах свежей газетной бумаги, все еще кричащей о «позоре» и «бессилии», смешивался с терпким ароматом кофе и запахом горячего воска от только что вскрытых конвертов с донесениями.
Я стоял у окна, глядя, как первые лучи осеннего солнца, бледные и робкие, цепляются за позолоту шпиля Адмиралтейства, пытаясь растопить ранний иней на его игле. Мысль о Егоре из подвала, о его фанатичных глазах и кровавой слюне, о сладковатом запахе «Capstan» и нити, ведущей к Темзе, была как заноза. И для того, чтобы ее вытащить требовалась иголка особого рода. Здесь скальпеля «Щита» не достаточно, здесь требовался инструмент мощнее.
– Ваше высокопревосходительство, – тихий голос прервал мои размышления.
Я все-таки обзавелся молодым расторопным секретарем, Фомку оставил для домашних хлопот. Молодой чиновник, поблескивая стеклышками очков, стоял передо мною, держа в руках папку с гербом.
– Проект Устава Императорского института прикладных наук и технологий одобрен его величеством. И… господа ученые ждут в Синем зале.
Я кивнул, не отрывая взгляда от шпиля. «Одобрен». Одно слово, но какая борьба стояла за ним! Колебания царя, ворчание казначея Фитингофа о «непомерных расходах», язвительные намеки моего старого союзника Воронцова, что «России нужны не ракеты, а грамотные земские учителя». Но я продавил. Сила не только в страхе, но и в видении. Видении грядущей мощи Империи.
Синюю залу заполняло необычное для дворца оживление. Запах дорогого сукна и пудры смешивался здесь с едва уловимыми химическими нотами – скипидаром, кислотой, металлом. Не придворные львы, а люди иного склада.
Профессор Якоби, седой, с птичьим профилем и живыми, мерцающими от нетерпения глазами, что-то горячо обсуждал с бароном Шиллингом-младшим, сыном умершего изобретателя телеграфа, размахивая листком с формулами.
Химик Зинин, плотный, с окладистой бородой и спокойным, как глубокое озеро, взглядом, внимательно слушал молодого, пылкого Обухова-младшего, металлурга, чьи руки, покрытые мелкими ожогами и следами металлической пыли, жестикулировали, описывая свойства новой стали.
Полковник Константинов, грузноватый, круглолицый, больше похожий на доброго дядюшку, чем на талантливого инженера-ракетчика, стоял чуть в стороне, стискивая свернутый в трубку чертеж, который принес по моей просьбе. В воздухе витала энергия открытий, смелая мысль, вырвавшаяся из пыльных аудиторий на волю.
– Господа, – мой голос мягко, но властно прервал гул. Все обернулись, смолкли. Я почувствовал их взгляды – смесь надежды, любопытства и осторожного недоверия ученого к чиновнику высокого ранга. – Его императорское величество соизволили утвердить Устав. Императорский институт прикладных наук и технологий рождается сегодня. – Я позволил себе легкую улыбку. – Не в парадных речах, а в делах. Вот ваши назначения и… ключи.
Я подошел к столу, где лежали тяжелые связки ключей и папки с печатями. Каждому – здание под лаборатории на Васильевском острове, средства из моего личного фонда и самого императора – в обход Фитингофа. Право набирать лучших выпускников университетов и организуемых попутно технических училищ, независимо от их сословного статуса.
По глазам ученых мужей было видно, как воодушевлены они открывающимися возможностями. Я знал, что Якоби уже завершает разработку новых гальванических батарей. Обухов колдует на легированными сплавами, а Константинов мечтает о куда более мощных боевых ракетах.
– Профессор Якоби, – я обратился к старому электротехнику, – помните, нам нужны генераторы переменного тока, электрические двигатели, ну и батареи, разумеется. Это будущее наших заводов, машин на суше и на море, средств связи. Доведите все это до ума. Барон Шиллинг, ваш телеграф должен опутать Империю проводами быстрее, чем осенняя паутина – лес. Господин Зинин, без ваших новых соединений – ни пороха надежного, ни красок стойких, ни лекарств. Господин Обухов… – Я взял со стола небольшой образец – обломок английской корабельной брони, привезенный нашим агентом. Он был тяжел, прочен, отливал холодным, мертвенным блеском. – Наша сталь должна быть крепче. Легче. Дешевле. Это – щит флота и меч армии. Полковник Константинов… – Я повернулся к ракетчику. – Ваши «игрушки» должны научиться лететь дальше, бить точнее. Голос России должен быть услышан даже… за океаном. Готовьте испытания. Тайно, разумеется. В случае успеха – подумаем о серийном производстве.
Ученые один за другим брали ключи и папки и спешно откланивались. Им не терпелось приступить к работе. Остался, как мы заранее условились, лишь Константин Иванович Константинов. Я провожал ученых взглядом, думая о том, что многие годы эти лучшие умы Империи сталкивались с непониманием чиновников и жадностью финансистов. Да и общество относилось к разработкам отечественных гениев с недоверием и пренебрежением. Куда, дескать, нам с нашим кувшинным рылом да в калашный ряд.
Я кивнул ракетчику и он принялся раскатывать свой чертеж на большом круглом столе.
– Алексей Петрович, – начал полковник, когда я подошел к столу. – Вот разные вариант конструкции и компоновки пускового станка.
Она начал показывать свои чертежи. Я перебрал листы, нашел схему знакомую до боли. Несколько направляющих, идущих параллельно друг другу. «Катюша», только без автомобиля.
Если на суше использовать, то придется таскать лошадями, потом их распрягать и уводить подальше. А вот на пароходе такую можно сделать стационарной. А именно применение на флоте меня сейчас интересовало больше всего. Я невольно просвистел «Катюшу».
– Что это за мелодия, ваше сиятельство? – заинтересовался Константинов.
– «И бойцу на дальнем пограничьи от Катюши передай привет…» – напел я и добавил: – Продолжайте разрабатывать вот эту схему, Константин Иванович. Подумайте над вариантом корабельной установки.
***
– Войдите! – сказал Иволгин.
Дверь открылась. На пороге каюты появился Орлов.
– Добрый день, Григорий Васильевич, – сказал он. – Я не один.
– Здравствуйте, Викентий Ильич. Пусть ваш товарищ тоже войдет.
Вслед за гидрографом в каюту буквально протиснулся охотник-промысловик Кожин. Капитан «Святой Марии» пригласил их садится. Гости кое-как разместились в тесной каюте.
– Разговор у нас будет секретный, Григорий Васильевич, – предупредил Орлов.
Иволгин кивнул и налил пришедшим своего любимого рому. Гидрограф пригубил. А аляскинский охотник опрокинул бокал надо ртом, крякнул, поморщился, отер усы.
– Эта бесконечная погоня начинает заметно влиять на умонастроения команды, – без обиняков начал Орлов. – Уйти от «Ворона» мы не сможем. Действия его экипажа предсказать невозможно. Выход один – превратиться из загоняемой дичи – в хищника.
Кожин согласно покивал.
– Что вы имеете в виду? – спросил капитан «Святой Марии». – У нас всего одна шабаринка на борту и четыре пулемета. Если мы откроем о британцам огонь, они нас в щепки разнесут.
– Верно! – кивнул гидрограф. – Об открытом нападении не может быть и речи. Нужно обездвижить корабль противника и захватить его капитана в заложники. При этом, «Святая Мария» должна оставаться недосягаемой для артиллерии британцев.
– И как вы намерены обездвижить бронированный паровой фрегат?
– А вот – как! – произнес Орлов и развернул карту проливов Баффинова моря.
***
На учрежденный по высочайшему повелению День Русской Учености, когда должно было состояться торжественное открытие трех новых университетов – в Екатеринославе, Нижнем Новгороде и Томске – я отправился в родной Екатеринослав. Благо его теперь связывала железнодорожная ветка с Харьковым.
И вот в теплый сентябрьский денек я стоял на кафедре в переполненной, душной от дыхания сотен людей аудитории здания бывшей Екатеринославской гимназии, которая приютила студентов и преподавателей, покуда не будет воздвигнут комплекс зданий для самого Университета.
В гимназии провели ремонт, так что запах свежей краски, древесной пыли, юношеского пота и женских духов гулял по залу для проведения торжественных актов. Передо мной было море молодых лиц. Разночинские, поповские, дворянские, купеческие, крестьянские и сыновья рабочих, допущенных к высшему образованию по особому указу. На задних рядах – местные сановники, промышленники, их жены и дочери. Явно пришли, чтобы полюбоваться на парней.
– Господа студенты! – Мой голос, усиленный акустикой зала, прозвучал гулко. – Вы стоите не просто в стенах гимназии, ныне преобразованной в Университет. Вы стоите на пороге новой эпохи! Эпохи, где знание – не роскошь для избранных, а насущный хлеб Империи! – Я видел, как загораются глаза у парней, особенно у тех, чьи лица были обветрены и суровы. – Там, за этими стенами, куют сталь, тянут рельсы, строят машины. Это делают отцы многих из вас, но без ваших умов, без света науки, все это – лишь слепая сила! Ученый, инженер, исследователь – вот новые солдаты России! Солдаты на поле прогресса! Ваша битва – не за клочок земли, а за будущее! За то, чтобы русская мысль, русское слово, русское изобретение звучало громко и гордо на весь мир! Чтобы наша сталь была крепче, наши машины – умнее, наши корабли – быстрее! Знание – вот новая сталь России! И вы – ее кузнецы!
Аплодисменты были сначала робкими, потом перешли в громовые овации. Я видел слезы на глазах у старика-профессора, восторг на молодых лицах. Контраст с ночными акциями «Щита», с сырыми подвалами и ненавистью «народных освободителей» был разителен, почти болезнен. Две стороны одной медали. Молот и наковальня. Инвестиции в будущее против отчаянной борьбы с ползучей интервенцией в настоящем.
После моего выступления, начались речи профессоров и даже некоторых студентов. Потом был объявлен банкет. И не только для высокопоставленных лиц – для всех присутствующих в зале. Одного ресторана Морица не хватило, чтобы вместить всех гостей. Пришлось арендовать все приличные заведения в городе. За что местные рестораторы были мне безмерно благодарны. Простой народ тоже не остался в стороне от Дня Русской Учености.
К нему была приурочена специальная ярмарка, где можно было торговать чем угодно, но купцы, предлагавшие товары касающиеся народного просвещения – книги, тетради, карандаши, наглядные пособия – получали льготу по выплате податей. Здесь же устраивались представления, но необычные балаганы с кривляющимися скоморохами и тягающими пудовые гири силачами, а спектакли с научными сюжетами – путешествиями в дальние страны и таинственными изобретениями безумных ученых.
Огромной популярностью пользовались две постановки, созданными силами местного театра и, увы, на мои деньги. Это «Путешествие на Луну», по новой повести князя Одоевского, опубликованной с продолжением в журнале «Электрическая жизнь», и «Чудовище Франкенштейна» по роману британки Мэри Шелли. Правда, без балагана все же не обошлось.
Чего только стоили мало одетые танцовщицы, задирающие ноги на стартовой площадке эфиролета, отправляющегося на наш естественный спутник. Или пожирающий людей заживо безымянный монстр, который был создан – по сюжету пьесы – немецким ученым русского подданства по фамилии Франкенштейн в Олонецкой губернии.
Ничего. Лиха беда начало. Вон как пацаны у афиш крутятся, медяки считают. Билеты-то не дешевы! Я, оставив охрану у входа в шатер, где шли представления, вошел внутрь, направившись прямиком в закуток антрепренера, господина Вертопрахова. Увидев меня, он вскочил, принялся кланяться, предложил чаю.
– В другой раз, Серафим Ионыч, – сказал я. – У меня вот какое дело к вам. Пусть ваши зазывалы объявят, что детей обоего пола, в возрасте от двенадцати до шестнадцати проходят на представление «Путешествие на Луну» бесплатно. Вернее – за мой счет. Я распоряжусь.
– Всенепременно исполню, Алексей Петрович!
– Только, Серафим Ионыч, уберите в от греха подальше девиц из кордебалета. А то Синод ваше представление прикроет.
***
Кабинет в Зимнем казался уютным после екатеринославского ливня, который обрушился на город в день моего отъезда, но напряжение в нем висело гуще дыма от камина. Передо мной – не ученые мужи, а столпы земные: представитель Святейшего Синода, владыка Антоний, с лицом аскета, но умными, проницательными глазами; и трое «китов» русского капитала – Кокорев, плотный, краснолицый, с цепким взглядом хозяина жизни; Солдатенков, сухой, элегантный, с манерами аристократа; Демидов, потомок горных королей Урала, мощный, молчаливый, с тяжелым взглядом.
– Господа, – начал я без преамбул, раскладывая на столе свежие газеты с отчетом о об открытии университетов и… менее приятные экземпляры с карикатурами и криками о «провале». – Вы видите две России. Одна – строит университеты, рвется вперед. Другая – невежественна, темна, легковерна. И именно во тьме второй России плодятся мифы о «тиране Шабарине», растут корни террора, как поганки после дождя! Неграмотный мужик – легкая добыча для любого бунтовщика, для любой вражеской пропаганды! Он не прочтет статьи и рассказы в «Электрической жизни», не поймет выгоды ваших заводов! Он услышит лишь ересь, сулящую рай на земле ценой крови! – Я ударил кулаком по газете с карикатурой. – И эта кровь может быть вашей! Кровью ваших детей!
Кокорев нахмурился, постукивая толстыми пальцами по ручке кресла. Солдатенков приподнял бровь. Демидов не шелохнулся. Владыка Антоний сложил руки на животе, его лицо было непроницаемо.
– Потому, – продолжил я, смягчая тон, но не нажим, – я учреждаю Высочайшую комиссию по всенародному просвещению и ликвидации безграмотности. Но одной комиссии мало. Нужны школы. Тысячи школ! В каждом селе! В каждой слободе! Нужны книги, азбуки, учителя! Нужен «Школьный фонд». – Я посмотрел на купцов. – И я обращаюсь к вам, столпы русского предпринимательства, к вашей мудрости и патриотизму. Жертвуйте! Не только на храмы – на школы! Каждая построенная школа – не просто здание. Это – крепость! Крепость против тьмы, суеверий и бунта! Крепость, защищающая ваши капиталы, ваше дело, ваше будущее и будущее ваших детей в сильной России!
Повисла тишина. Тяжелая, как чугунная ограда Летнего сада. Кокорев первым нарушил молчание:
– Школа – дело богоугодное, Алексей Петрович. Но мужик, грамотный – он же хитрее! Требовательнее! Платить за обучение не будет, а жалование захочет побольше!
– Василий Александрович, – парировал я, – темный мужик сожжет ваш завод во время бунта, не понимая, что лишает себя работы. Грамотный мужик – ваш лучший работник, понимающий свою выгоду. Он купит ваши ситцы, ваши инструменты, вашу сталь. Он расширит ваш рынок! И он не поверит первому крикуну о «земле и воле»! Он прочтет законы и поймет, кто ему враг, а кто – защитник.