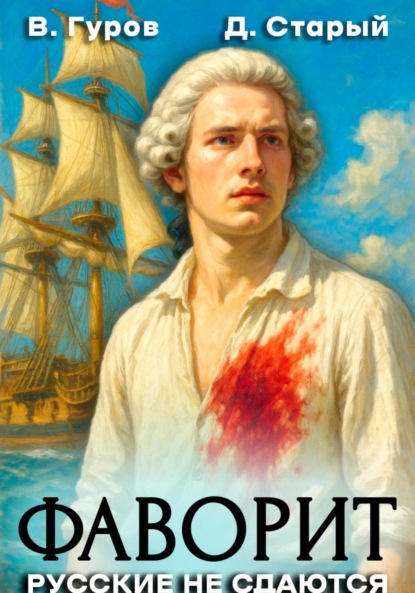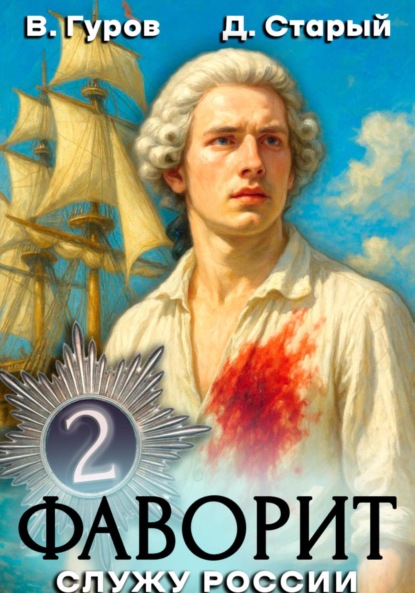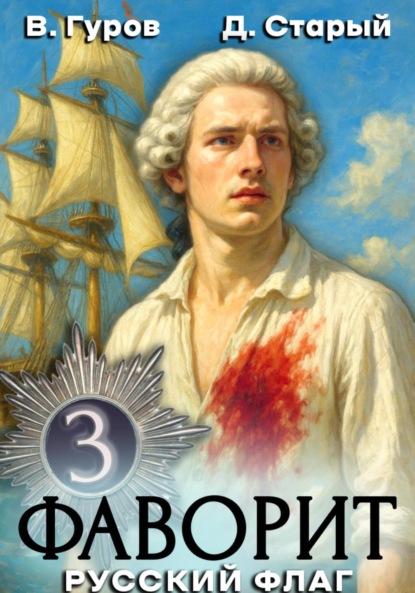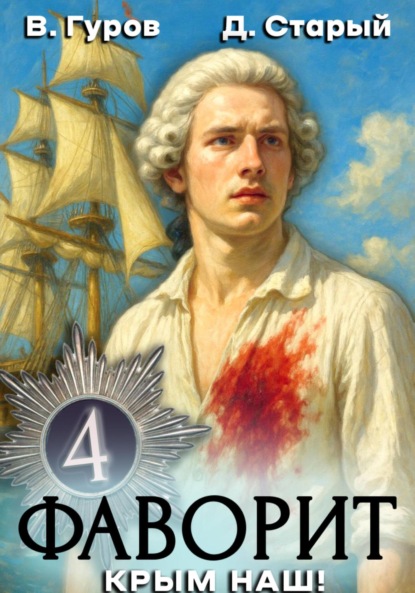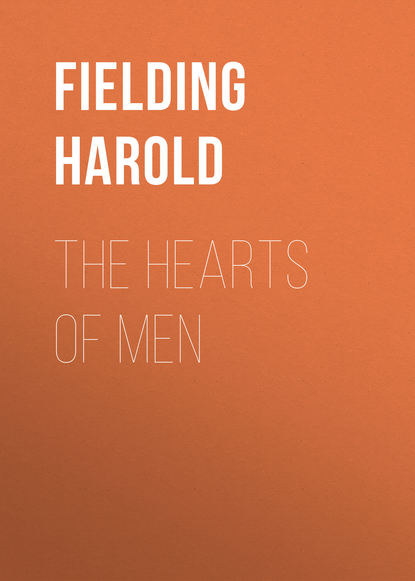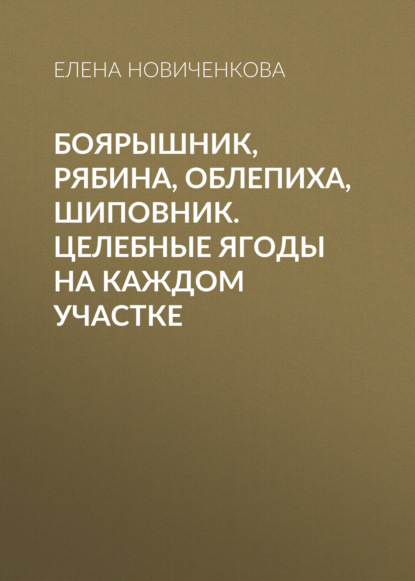Фаворит 6. Только вперёд!

- -
- 100%
- +
– Бах-бах-бах-бах! – прогремели наши пушки. Те, что были внизу, на Первой линии обороны.
Во врага полетела ближняя картечь. Это означало и то, что сейчас турки получают максимальный урон. Но также и свидетельствовало, что они подошли достаточно близко. И вот-вот должен состояться решительный рывок вражеских штурмовиков. А дальше остаётся лишь только залп первой, второй, вряд ли третьей линии наших стрелков и все – рукопашный бой.
– Подайте сигнал артиллерии, чтобы оттягивалась! – уже не замечая меня, отдавал приказы Миних. – Пушки в крепость!
Вид командующего был суровый и сдержанный. Ни один мускул не дёргался на лице этого, бесспорно одарённого человека. Да из чего бы мне ждать бурных эмоций от фельдмаршала, когда я знаю, как в иной реальности, даже в самых сложных своих жизненных моментах Христофор Антонович показывал пример выдержки.
Я под руку не лез. Но и не уходил, хотя присутствующий здесь же Степан Апраксин так и зыркал на меня недобрым взглядом. Да и другие недовольные моей настойчивостью были. Уверен, что, если Миних ещё хоть полслова скажет в мою сторону и тон фельдмаршала будет неодобрительным, Апраксин на меня накинется. Нет, вряд ли с кулаками. Но вот с упрёками и обвинениями, в том числе за несоблюдение субординации, наверняка.
Между тем солдаты, впрягшись в верёвки, прокручивая большие колёса лафетов, стали вытаскивать пушки с первой линии обороны. Опять немалый риск. Успеют ли они закатить пушки в крепость? Если даже успеют доделать, то не получится ли столпотворение у ворот и на мосту через глубокий ров? А эти же ворота должны ещё выпускать на помощь солдат первой линии обороны свежие пехотные полки.
Надеюсь, что фельдмаршал знает, что делает. Хотя считаю его задумку недоработанной.
– Вы ещё здесь? – вновь обратил внимание на меня командующий.
– Так точно, и готов предоставить своих штуцерников и гранатомётчиков для отражения атаки неприятеля! – быстро отчеканил я. – Дозвольте занять место в обороне!
– Вы проявляете неуважение! – вклинился в наш разговор с фельдмаршалом Степан Апраксин.
И чего только Степка на меня взъелся? И просьбу его я некогда выполнил, передал вещицу. И не так чтобы проявляю враждебность к Елизавете Петровне, в кружке любителей которой состоит Стёпа. Может, видит именно в этом во мне конкурента? Влюблён в златовласку? Или завидует? Я же из унтер-лейтенантов до гвардейских секунд-майоров дорос. А это очень быстро, чуть больше, чем за год.
– Господин секунд-майор, извольте объяснить, кто такие гранатомётчики и чем ваши штуцерники помогут бою? – не обращая внимания на Апраксина, чем вызывая явное недовольство последнего, спросил командующий.
Мне хватило полторы минуты, в ходе которых фельдмаршал наблюдал за действиями врага наших артиллеристов, чтобы объяснить, кто такие гранатомётчики и чем могут помочь штуцерники.
– Действуйте! – всё же проявив некоторые эмоции, чуть повышая голос, сказал Миних. – Справа от нас нужно усилить оборону. Турки накидали туда ядер, там немалые потери. Всенепременно вы остаётесь в крепости. Если ослушаетесь – прикажу вас арестовать и до конца войны продержу под арестом.
Понял, не дурак. Вот был бы дурак, так и не понял бы, что больше испытывать терпение командующего не следует. Хотя потом я обязательно спрошу у Христофора Антоновича, чем он руководствовался, когда запрещал мне непосредственно участвовать в бою. Беречь меня не надо.
Больше я ничего не спрашивал, как и ни секунды не собирался оставаться на позиции наблюдательного пункта.
Столько времени потрачено на разговоры и разрешения. Ситуация должна была резко смениться. И тогда даже часть моего отряда могла бы не вступить в бой. Но… противник почему-то остановился. И это было очень странно. Они сейчас находились под прямым огнём ближней картечи.
Хотя… русские пушки с первой линии обороны как раз-таки оттягивали. И картечи уже не предвиделось. А крепостные орудия посылали во врага только ядра, которые наносили урон, но не настолько существенный, как это могло бы быть, если бы применялась картечь, да тут и крепости стрелять картечью было сложнее.
Так что выходило, что турки накапливали силы для решающего штурма. Может быть, и поспешил командующий отдавать приказ затащить имеющиеся пушки на этом участке обороны в крепость.
Вот, когда был на наблюдательном пункте, готов был критиковать командующего за то, что раньше не отвёл артиллерию. А теперь, напротив, считаю, что он поспешил. И в истории часто случается так, что полководцев критикуют за то или иное решение. При этом «знатоки» могут апеллировать к последствиям и упущенным возможностям, даже не предполагая, как выглядела обстановка на момент принятия решения.
– Ну, с Божьей помощью! – провожал я два десятка гранатомётчиков и три десятка штуцерников на передовую.
Я, выполняя приказ командующего, в свалку не лез. И, признаться, даже было немного стыдно, что ли. Хотя по реакции моих бойцов не заметил и толики осуждения. Тем более, что я буду участвовать в этом сражении. Ведь можно новейшими пулями доставать до врага даже со стен крепости.
Так что, я быстро организовал штуцерников, обязательно Кашина. Заняли позиции на крепостной стене и приготовились внести свой вклад в общую победу. Ну победу же?
– Бах-бах-бах! – в какофонии взрывов и выстрелов, еле различимо, донеслись пушечные залпы версты за три-четыре левее.
И вот только в этот момент турки рванули-таки вперёд. Теперь стало понятно, почему они простояли под огнём крепостной артиллерии не менее пятнадцати минут, ничего не предпринимая.
Кто ставит в абсолют русскую расхлябанность – тот мало знаком с проявлением этого явления у турок. По крайней мере, в исторической ретроспективе. Наверняка, на бумаге турецкого командования план штурма выглядел идеальным.
Турки предполагали, что они отвлекут нас от крепости, проведя здесь штурмовые действия, но не в полном объёме. Вон, татар на верную смерть послали! Но заставили русское командование сконцентрировать свои усилия в одном направлении. А теперь, как видно, пошли в бой и на другом участке крепостных сооружений.
Но этот момент наш командующий учитывал. Глупо неприятелю, имея колоссальное преимущество в численности, бить только на каком-то одном узком участке оборонительной линии, протяженность которой более, чем восьмикилометровой линии обороны.
Занёс зрительную трубу в то место, где располагался Второй оперативный резерв, с удовлетворением отметил, что паники в рядах русских воинов нет, а, значит, всё идёт по плану.
– Работаем! – сказал я, обращаясь к двум десяткам штуцерников.
Точнее сказать, стрелять из двух десятков будут только семь человек. А вот остальные на перезарядке. Только лишь у нас с Кашиным на перезарядке будет стоять один боец. Ну такие перестрелки мы будем вести новыми пулями.
– Бах-бах! – почти синхронно с Кашиным мы произвели выстрелы.
Тут же другие снайперы послали свои пули навстречу ускоряющимся туркам.
Расстояние составляло чуть более четырёхсот метров. Для конусообразной пули с улучшенной обтюрацией рабочей является дистанция куда как большая. Да и для простых штуцеров с круглыми пулями четыреста метров – вполне себе убойное расстояние.
Вот только, если конусообразной пулей ещё есть смысл прицеливаться, то круглую нужно было пускать непосредственно «в ту степь». Однако вряд ли будет много промахов. На относительно небольшом участке, едва ли в шестьсот метров, турки сконцентрировали как бы не десять тысяч штурмовиков первой волны. И столько же готовились, когда у первой волны хоть что-то станет получаться.
Стреляли крепостные пушки. Причём, количество работающих орудий резко увеличивалось. В других направлениях подтянули пушки, а также были те, которые ранее не использовались. Точно не уверен, по каким причинам. Возможно, пушки считались ненадёжными или с малым ресурсом выстрелов.
Но теперь вслед наступающим туркам летело просто невообразимое количество ядер. Я же видел и другие возможности.
Да, штуцер – вещь громоздкая, сложная в зарядке и стреляет редко, когда один раз в полторы минуты. Это если заряжать по старинке и старыми пулями. Но, если бы здесь, на стенах, находился полк егерей, вооружённых штуцерами, то по такой мишени, которую сейчас представляла толпа стремящихся в бой янычар, было бы сильным поспорье с крепостных стен. Вот только всем солдатам и офицерам, которые стояли рядом с нами и завистливо смотрели, как мы хоть чем-то пытаемся помочь своим собратьям по оружию, было завидно. Я видел эти лица, которые зло смотрели в сторону врага и сжимали зубы от бессилия.
– Бах-бах-бах! – почти в упор выстрелили бойцы первой линии обороны.
Этот залп скосил немало турок, сотню, может, и две. Вот только следующие с ятаганами наперевес, используя лестницы и приспособления из досок с набитыми на них брусками, взбирались на русские укрепления. Начиналась жестокая рубка.
Но сейчас мы ещё только стояли на пути к этому. Русские солдаты ещё не отличались исключительным умением штыкового боя. Это потом, во время румянцевских и суворовских войны, русским равных не будет в штыковой атаке.
Так что было видно, как умирают русские солдаты. Умирают и турки, которым сложнее, ещё нужно взобраться на брустверы. И в этом есть некоторые преимущества для русских воинов, которые своими фузеями с примкнутыми штыками кололи врага сверху. Но повсеместно турки уже были наверху креплений, а некоторые и спрыгивали с них, хоть бы и на русские штыки.
Вялая атака противника превратилась в ожесточённый бой. Отступать никто не собирался. Да и когда ввязался в драку, когда уже на брустверах, или в русских траншеях, даже не за султана бьются, и не за религию. За жизни свои.
Ворота крепости распахнулись. Сразу под крепостными стенами ручейками разбегались солдаты, чтобы занять своё место в линиях. Было отрадно смотреть, что этот процесс происходит относительно слаженно и организованно. Недаром всё-таки командующий приказывал ещё ранее, когда и турки не подошли, проделывать этот манёвр.
И теперь каждый солдат знал своё место. Раньше таких выходов было организовано сотню или даже больше раз. И, видимо, не зря.
– Бах-бах! – мы продолжали стрелять.
Теперь, когда противник был уже на расстоянии двухсот метров, прицеливаться было куда как проще. И целились уже не только мы с Кашиным, но и другие мои штуцерники.
Я точно видел, что сразил не менее четырёх турецких командиров. Именно по ним мы чаще всего стреляли, либо же по флагоносцам. Когда роняется флаг подразделения, моральный дух тоже падает.
Застучали барабаны. Казалось, что уже невозможно, но ещё больше усилился огонь артиллерии. Сразу два русских полка отправились на помощь своим соплеменникам.
Там, вдали, все еще громыхали пушки, и уже отправились на усиление резервы. Но было очевидно, что турки не добились успехов. И всё-таки главный удар неприятеля был на этом направлении, у крепости.
Свежие силы русской армии не склонили перевес в нашу сторону. Но установилось равновесие. Турки не могли пройти дальше траншей и ретраншементов, брустверов. Но и мы пока не могли отбросить их.
– Всё! Больше нет! – сообщил мне мой перезаряжающий.
Все пули нового образца были мной использованы.
– По старинке круглыми пулями заряжай! – скомандовал я.
Теперь придётся стрелять намного реже. Но стоять без дела точно не буду.
– Готовься! Первый батальон Самарского полка на выход! – раздавались приказы внутри крепости.
А за ее пределами появлялись все новые и новые русские полки. Турки же не спешили посылать подкрепления. Они проигрывали уже в этом. Теперь перевес на нашей стороне.
– Ба-ба-ба-бах! – послышались множественные разрывы гранат.
Мои гранатаметчики работали.
И тут… Враг дрогнул. Перевес случился. Мы оказались даже не сильнее, не опытнее. Мы вовремя принимали решения. Мы были больше готовы к сражению.
А скоро еще и так усложним жизнь врагу, что бежать они будут к Дунаю, оставляя Крым, своих союзников ни с чем. Врочем, а Крым-то наш!
Глава 3
Случайностей не существует – все на этом свете либо испытания, либо наказания, либо награда, либо предвестия.
Ф. Вольтер
Петербург
3 июля 1735 года
Двое молодых людей вновь занялись этим… Словно по заранее согласованному на самом верху графику. Один раз соитие должно было произойти до обеда, один раз после. И если молодожены хотели спрятаться, заняться собственными делами, то их неизменно отыскивали и сопровождали к брачному ложе.
Анна Иоанновна, словно завтра собираясь умирать, требовала неукоснительных исполнений супружеских обязанностей от Анны Леопольдовны и Антона. И никакие слезы племянницы русскую императрицу не могли разжалобить.
Государыне нужен был наследник русского престола. Она хотела прекратить эту чехарду с императорами и императрицами. Мужчина должен быть на русском троне. Так считала женщина-самодержца.
Он и она сидели на разных краях большой кровати. Он тяжело дышал и смотрел на неё, а она смотрела в пустоту, лишь судорожно одёргивая ночную рубашку. Будто бы стараясь сделать ее длиннее. Ей было ужасно стыдно и до крайности неловко.
И была лишь одна эмоция, которая объединяла этих двух людей – боль. Нет, не физическая, хотя и без этого не обошлось – процесс зачатия ребёнка без желания и даже с отвращением вряд ли вызывает приятные физиологические ощущения. Больше всего их обоих мучила боль душевная.
Ему, Антону Ульриху Брауншвейскому, было больно осознавать, что он отвергаем. Что именно он – причина страданий любимой женщины. Новоиспечённый муж считал, что всем сердцем полюбил Анну Леопольдовну. Ради этой любви он даже был готов отказаться на какое-то время делить ложе с женой. Только бы ей, Анне, было спокойнее.
Но все вокруг давили на молодоженов. Только и разговоров, что о долге Антона и Анны перед Россией. Их принуждали быть вместе. Нет, точно не ходить, не разговаривать, не находить общие интересы. Спать… Как животные, почти как жеребец на конезаводе Бирона покрывает кобылу.
Да, невозможно заставить двух людей исполнять супружеский долг. Это же вопрос интимный, эмоциональный. Решение которого принимают только он и она. Но, когда за дверью слушают, когда могут сделать внушение, пригрозить, не выпускать из комнаты… Если вообще ничего не происходит, то срочно присылается медикус, порой, и не один.
И ладно, что осматривают его, Антона, делая акцент на интимных местах. Но они осматривают и Анну Леопольдовну. Что и причиняет большую боль Анне Леопольдовне, постоянные ли осмотры разных мужчин-докторов или близость с нелюбимым мужем, она не могла себе ответить. Она лишь хотела, чтобы всё это закончилось как можно скорее.
Да был бы хотя муж другой, а не этот худощавый, прыщавый, лопоухий, нескладный. Анна сама не понимала, почему питает к Антону столь глубокое отвращение. Ведь он не был груб, даже в какой-то мере жалел её, пусть и не решался что-то предпринять.
Просто молодая женщина видела в своём муже квинтэссенцию всех своих негативных эмоций. Кроме того, пусть сама того не осознавая, Анна обвиняла именно Антона во всём унижении, которому её подвергали. Ведь если бы не было Антона Брауншвейгского, не было бы ни унижения, ни боли.
Анна не могла и в сторону служанки взглянуть – казалось, что та насмехается над ней. Не говоря уже о том, чтобы гордо выйти из комнаты, которую молодым выделили для зачатия наследника Российского престола.
– Сударыня, я… – сделал попытку заговорить Антон.
– Молчи! – зло прошипела Анна Леопольдовна, поднимая руку в сторону мужа, но даже не оборачиваясь к нему. – Не смей со мной разговаривать!
– Но я же ни в чём не виноват! – почти со слезами выкрикнул Антон Ульрих. – Думаешь мне хорошо? Нет!
Анна вскочила с кровати, оказалась у канделябра из восьми свеч, резко развернулась к Антону. Она поняла, что в свете свечей её лёгкая ночная рубашка просвечивается, демонстрируя все очертания молодого женского тела. Анна сорвала с кровати одеяло и укуталась.
Да, у них была вынужденная близость. Но полностью Анна не раздевалась.
– Вы не понимаете, насколько мне противны! – процедила сквозь зубы она. – Вы… Вы…
Её рука потянулась к канделябру – и почти обезумевшая женщина чуть не схватила его, чтобы ударить мужа. Но остановилась… У нее скоро будет другой способ прекратить все это, избавить себя от ненавистного мужа.
Антон постарался держаться мужественно. Он тоже поднялся и посмотрел на супругу. Зря… Вид его худощавого обнажённого тела, подросткового и нескладного, ещё сильнее помутил разум Анны. Она смотрела на мужа с ненавистью. Но не отрывала взгляда, чтобы еще больше напитать себя негативом, чтобы решиться…
И вдруг Анна стала милой. Изменилась, даже одеяло откинула на кровать, чтобы муж мог слюной подавиться, рассматривая контуры тела любимой женщины.
– Ладно, как говорят в России: чему быть, того не миновать. Раз нам суждено зачать наследника престола, так тому и быть, – сказала Анна.
Впервые за несколько дней Антон улыбнулся. Он вдруг, в одно мгновенье стал абсолютно счастливым человеком. Ему показалось, что ещё можно наладить отношения. Он не учёл резкой перемены в настроении жены. Не понял, что в этом есть опасность.
– Вы можете выйти и сообщить, что на сегодня ваша служба в кровати окончена, – с ядом произнесла Анна.
И это несмотря на то, что она уже приняла решение. Решение, за которое знала – не простит себя до конца дней. Но убедила себя, что, если не сделает того, что намеревается, наложит на себя руки. Ибо иных вариантов больше Анна не видела.
Между тем, натянув лишь портки, Антон Ульрих в приподнятом настроении распахнул двери в комнату, увидел дежурного медикуса, гвардейцев.
– Господа, можете быть спокойны. Свой долг перед престолом мы на сегодня исполнили, – сказал Антон.
Он, поочередно закрыв две половинки двери, с надеждой посмотрел на жену. Ещё вчера или позавчера она могла с криком выгнать его. А теперь – не гонит. Более того, Анна попыталась изобразить улыбку. И Антон потянулся к ней, как утопающий к тростиночке, не понимая, что та лишь даст надежду и вместе утянет на дно.
Скажи ему, чтобы сейчас сделал хоть какую глупость, да хоть бы и выпрыгнул со второго этажа, Антон тотчас распахнул бы окно и сиганул.
Всю жизнь Антон Ульрих слышал, что он «не такой», что он не приспособлен к военному делу. Хотя трудно было представить подростка знатных кровей, кто бы столь усердно занимался теорией военного дела. Мальчика упрекали в телосложении, закармливали, заставляли больше спать. Но, все тщетно. Не получалось полнеть. И даже мушкет удержать Антону было трудно, когда его сверстники уже стреляли.
Маленькие германские княжества были воинственны, сыновей там растили для войны, иное искусство мало ценилось. Художеством могли заниматься только те принцы, что преуспевали и в воинских науках.
А последние пять лет своей жизни Антон, по характеру ответственный и исполнительный, слышал лишь одно, что он обязан стать русским принцем. И давление на мальчика только усилилось.
На не самого крепкого человека навалилась непосильная ответственность. С одной стороны – семья, которая учила его, как поступать, кого из родственников в первую очередь продвигать в России по службе. С другой – императрица и десятки ее приближённых. Они взывали к Антону, внушая важность «долга перед Отечеством». Хотя под Отечеством имелся в виду, конечно, не Брауншвейг.
В России Антон сразу же оказался в центре политических интриг. То люди Остермана подходили и напоминали о «благодарности», то сам герцог Бирон внушал, кому обязан Антон.
Да всё бы ничего… Другие ведь справлялись, можно было найти себе опору в ком-нибудь из русских вельмож. Но императрица Анна Иоанновна зациклилась на наследнике. Она чувствовала недомогания, знала о заговорах, спешила. Волынский ежедневно находил новые «факты». И даже имя Бирона порой всплывало. Но именно для своего фаворита она и спешила. Его поставить регентом при наследнике хотела.
– Ну, куда же вы? Муж мой? Останьтесь! Или… приходите в спальню через час. Надо же хоть поговорить, а не только это… – сказала Анна.
– Сударыня, могу ли я поинтересоваться, с чего вы сменили гнев на милость? – осторожно спросил Антон.
Он-то по уже выработанной привычке собирался уходить. Да, радостный, счастливый, но все равно уходить.
– В России говорят: стерпится – слюбится. Я хочу ускорить это «слюбится», – артистично солгала она.
– Я буду в вашей опочивальне через час, – не веря своему счастью отвечал Антон.
После осмотра медиками Анна вызвала подругу – Юлиану Норову. В предвкушении осуществления плана княжна даже не сопротивлялась унизительной процедуре.
– Юлиана… Ты же моя единственная отрада. Можешь представить, через что я прохожу? Как же я тебе завидую. У тебя нет этих унижений, и ты делишь ложе с лучшим из мужчин, – рыдая, жаловалась Анна. – Я уже должна быть в тягости, но еще месяц, или больше это терпеть. Я не могу и не хочу.
Она уже была уверена, что беременна. Слишком много «соитий» было с мужем, слишком регулярных, под надзором врачей. Те уверяли императрицу: «Анна Леопольдовна уже должна носить ребёнка». Анна Леопольдовна подслушала один из таких разговоров.
– Ты принесла? – прошептала Анна на ухо подруге.
– Анна, умоляю, может, не стоит? – взмолилась Юлиана.
– Не стоит? А разве ты не видишь выгоды? – зашипела Анна. – Во всем сплошная выгода. И тебе не жалко меня? А о своем будущем ты подумала?
Они не раз говорили о судьбе Анны. И не раз речь заходила и о Норове. Анна Леопольдовна в своих фантазиях нарисовала такой идеал Александра Лукича, что и сама уже не понимала, любит ли его как человека или влюблена в созданный ею же образ.
Но при принятии страшного решения, Анна придумала множество поводов, чтобы убедить себя в правоте.
– Ты же понимаешь, что при мне ты станешь самой уважаемой и богатой? Я приближу вас с мужем к трону еще более, чем тётушка приближает Бирона, – шептала Анна своей подруге.
– Но Антон… Он будто заблудшее дитя. Это великий грех, если мы убьём его, – ответила Юлиана. – Можно же увезти Антона в Сибирь. Я найду, кто нам поможет.
– Нет… Решено, – все же немного задумавшись, но после решительно, сказала Анна Леопольдовна. Давай яд!
Да, они задумали убить Антона. Вернее – Анна задумала, а Юлиана колебалась. Но и ей хотелось власти и почёта. Юлиана старалась убедить себя, что иначе останется ни с чем. Ведь её и Норова поженили лишь ради того, чтобы у Анны была возможность завести любовную связь с гвардейцем. Так что Юлиана без дружбы с Анной и вовсе может стать ненужной никому.
Анна же видела пример тётки. У Анны Иоанновны муж умер через несколько недель после свадьбы, а она стала герцогиней Курляндской, затем императрицей. Почему бы племяннице не повторить путь тетки?
– Вот, – сказала Юлиана и вложила в руку подруги флакончик. – Двадцать капель убьет любого, но не сразу. Это то, что ты и хотела.
– Хорошо. Все, уходи! – спрятав флакон под матрас, Анна Леопольдовна прогоняла подругу.
Через час Анна встречала мужа в несвойственной ей манере. Она была в красивом платье с глубоким декольте, с озорной мушкой у рта, приветлива и жизнерадостна. Даже Кельнской водой облилась [духи].
– Муж мой, не выпьем ли шампанского? Я заранее велела открыть бутылку. Вот… Сама налила. Оно так пениться, немного разлила на стол, – кокетливо сказала Анна Леопольдовна.
Молодая женщина подала бокал. Ее руки тряслись, но Анна улыбалась. Антон же растерялся, действовал механически. Его рука потянулась к бокалу, он осушил его до дна, не почувствовав никаких посторонних вкусов. Да и всего во второй раз в свой жизни Антон Ульрих пил шампанское.
– Отчего же вы сами не пьёте? – дрожащим голосом спросил он.
Он терялся, не знал, как поступать в таких ситуациях, будучи наедине с любимой женщиной.
– Доктора говорят, что вино не всегда полезно женщинам в тягости. А я ведь, возможно, уже в тягости. Вы, мой милый друг, изрядно старались над этим, – Анна скривилась, не получилось до конца отыграть роль.
Но Антон был так очарован, что ничего не заметил.
Анна Леопольдовна наблюдала за ним, пытаясь уловить хоть какие-то изменения. Но яд должен был действовать медленно, в течение дня или двух. Достаточно было один раз выпить и все… И не вывести ничего.
– Выпей ещё, мой друг, – с улыбкой сказала она, вновь наливая шампанское.
Антону даже показалось, что они могут провести ночь вместе. Вот так, даже не по принуждению, по желанию. А после… У них все будет хорошо, точно. Полюбят еще друг друга.
И тут дверь распахнулась. В комнату ворвалась императрица. Створки дверей резко распахнулись, отпружинили о стены и вернулись, ударяя мощную женщину. Анна Иоанновна даже не обратила внимания на это. Скорее больно было дверям, они накренились, дали трещину.