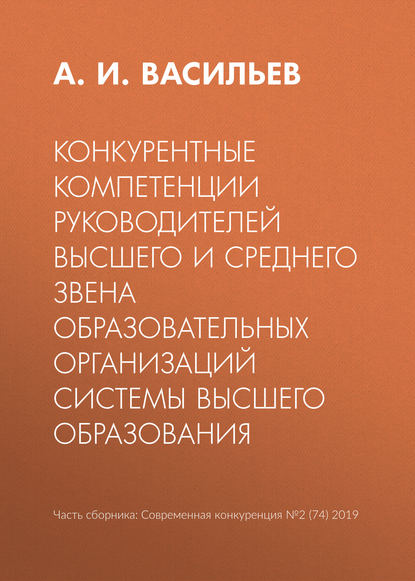- -
- 100%
- +

Глава 1. Голод
Голод – это не просто пустота. Это тяжесть. Свинцовый слиток, влитый в желудок, который тянет тебя к земле, к грязи, к небытию. Он гудит в ушах монотонным, низким басом, заглушая все остальные звуки мира. Мысли становятся вязкими, короткими, как судороги. Выжить. Найти. Взять. Пятьсот рублей, найденные вчера на пыльном асфальте, были не спасением, а проклятием. Случайность, жестокая насмешка вселенной, бросившая мне кость, чтобы лишь раздразнить агонию. Я потратил их на черствый хлеб и бутылку воды, и это лишь отсрочило приговор, сделав его ожидание еще более мучительным.
Но что, если не случайность?
Эта мысль, тонкая, как лезвие, резала туман истощения. За миг до того, как мой взгляд упал на смятую купюру, я не просто хотел есть. Я *требовал*. Я закрыл глаза, и вся моя сущность, всё мое отчаяние, вся моя ненависть к тем, кто низвел меня до этого состояния – к Кураторам, к их безликой, всепроникающей системе – сжалась в один-единственный, беззвучный вопль, обращенный в никуда. *Дай мне*. И ничто ответило.
Или мне так показалось. Мозг, отравленный кетонами, способен на любые фокусы. Он может рисовать оазисы в пустыне и находить смысл в хаосе кофейной гущи. Я, Павел, бывший преподаватель философии, специалист по онтологическим парадоксам, лучше других знал, как легко сознание обманывает само себя, выстраивая причинно-следственные связи там, где их нет. Post hoc ergo propter hoc. После этого – значит вследствие этого. Классическая ошибка.
Но я должен был знать. Я должен был проверить. Потому что если это не ошибка, если тот миг был не бредом, а актом творения… тогда все меняется. Не просто моя жизнь, но и сама структура реальности, какой я ее знал.
Мой взгляд зацепился за вывеску на противоположной стороне улицы. Неоновые буквы, часть из которых перегорела, складывались в слово «Х…МЕРА». Кафе. Дешевая забегаловка, судя по мутным окнам и облупившейся краске. Запах прогорклого масла и вчерашнего супа доносился даже сюда, смешиваясь с выхлопами и городской сыростью. Идеальное место. Достаточно людное, чтобы затеряться, достаточно убогое, чтобы мое рванье не вызвало подозрений.
Эксперимент должен быть чистым. Не просто найти деньги. Это слишком просто для совпадения. Нужно нечто конкретное. Специфичное до мелочей. Я заставил себя сформулировать заказ, мысленную заявку во вселенскую пустоту. Горячий борщ. Густой, наваристый, с куском разваренного мяса. Ложка сметаны, белым островком тающая в багровом море. И ломоть черного хлеба, настоящего, с плотным мякишем и твердой коркой. Не буханка из супермаркета, а именно такой, как пекла бабушка. И стакан крепкого черного чая, обжигающего, без сахара.
Вот он, мой запрос. Конкретный. Недвусмысленный. И главное условие – я не должен за него платить. Ни копейки. Еда должна прийти ко мне сама. Через волю другого человека, через ошибку в счете, через пожар на кухне и всеобщую панику – неважно. Механизм вторичен. Важен результат.
Перейдя дорогу на дрожащих ногах, я толкнул скрипучую дверь. Внутри было сумрачно и тесно. Воздух, казалось, можно было резать ножом. За стойкой, протирая стакан несвежей тряпкой, стояла грузная женщина с лицом, похожим на печеное яблоко – такое же морщинистое и недовольное. Несколько столиков были заняты. Двое рабочих в замасленных спецовках, молча хлебающих что-то из мисок. Старик, похожий на спившегося профессора, читающий газету сквозь толстые линзы очков. И в углу, спиной ко мне, сидел мужчина в сером плаще. Он не ел, просто смотрел в окно. Что-то в его неподвижной фигуре заставило меня напрячься. Один из них? Один из псов Кураторов? Маловероятно. Они предпочитают действовать тоньше, но паранойя уже давно стала моей второй кожей.
Я сел за самый дальний столик, в темном углу, откуда просматривался весь зал. Женщина за стойкой проводила меня тяжелым взглядом. Я чувствовал себя под микроскопом. Каждый мой жест, каждый вздох казался неестественным. Голод скручивал внутренности в тугой узел.
Я закрыл глаза. Нужно было сосредоточиться. Отключиться от запахов, от тихого гула голосов, от скрипа стульев. Нужно было снова нащупать то состояние, ту точку абсолютного отчаяния и абсолютной воли.
«Борщ. Горячий, с мясом. Черный хлеб. Чай».
Я повторял это не словами, а образами. Я видел пар, поднимающийся от тарелки. Чувствовал на языке вкус свеклы и чеснока. Ощущал в руке тяжесть ложки. Я строил этот образ в своем сознании, кирпичик за кирпичиком, наделяя его весом, температурой, запахом. Это была не молитва. Молитва – это просьба. Это был приказ. Я не просил милостыню у мироздания. Я требовал то, что принадлежит мне по праву… по какому праву? По праву того, кто увидел трещину в ткани реальности?
Ничего не происходило. Зал жил своей жизнью. Рабочие доели и, расплатившись, вышли. Старик перевернул страницу газеты. Мужчина в плаще все так же неподвижно сидел у окна. Хозяйка продолжала лениво протирать посуду.
Может, я просто сошел с ума. Может, я сижу здесь, в этой вонючей забегаловке, пуская слюни, как идиот, а через десять минут эта женщина вышвырнет меня на улицу. Страх и стыд подступили к горлу, смешиваясь с тошнотой от голода.
Я открыл глаза. Взгляд хозяйки был прикован ко мне. Она что-то поняла. Она шла ко мне. Медленно, вразвалку, как танк, идущий на таран.
Сердце заколотилось, отбивая паническую дробь по ребрам. Провал. Сейчас будет унижение. Скандал. Возможно, вызовут полицию. А это для меня конец.
– Чего сидим? – ее голос был низким, прокуренным. – Меню на стойке. Или ждем кого?
Язык прилип к небу. Что сказать? Что я провожу эксперимент по материализации желаний?
– Я… я решаю, – прохрипел я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более спокойно.
Она хмыкнула, смерив меня взглядом с головы до ног. Взгляд задержался на моих стоптанных ботинках и грязных брюках.
– Решай быстрее. У нас тут не зал ожидания.
Она развернулась и пошла обратно к стойке. Отсрочка. Но надолго ли?
Я снова закрыл глаза, на этот раз с яростью отчаяния. Нет. Я не сдамся. Я заставлю этот мир прогнуться. Я вложил в свой мысленный приказ всю боль, все унижение, всю тоску по утраченной жизни. Я вспомнил свое увольнение, лживые улыбки коллег, презрительный взгляд ректора. Я вспомнил, как Кураторы стерли мою научную репутацию, превратив меня в посмешище, в сумасшедшего. Я вспомнил ночи в подворотнях и каждый проклятый день, наполненный только одним желанием – есть.
Эта ярость стала топливом. Образ борща вспыхнул с новой силой. Он уже не был просто картинкой. Он стал требованием. Он стал единственной возможной реальностью в этой точке пространства-времени. Все остальное – фон, иллюзия, которую нужно продавить.
Внезапно в зале что-то изменилось. Тихий гул прервался. Я открыл глаза.
Мужчина в сером плаще встал. Он медленно повернулся, и я впервые увидел его лицо. Обычное, ничем не примечательное лицо, но глаза… Глаза смотрели не на меня, а как будто сквозь меня. Он сделал несколько шагов к центру зала, и его движения были странно плавными, почти нечеловеческими.
А потом он заговорил. Негромко, но его голос, лишенный интонаций, заполнил все помещение.
– …ибо сказано: не хлебом единым будет жить человек, – произнес он, глядя в потолок. – Но всяким словом, исходящим из уст…
Старик в очках опустил газету. Хозяйка замерла с тряпкой в руке. Все смотрели на него.
– Время жатвы пришло, – продолжал он, его голос начал крепнуть. – Плевелы будут отделены от зерен. И каждый получит по делам своим. Жаждущий – напьется. Алчущий – насытится!
Он резко повернулся к хозяйке.
– Ты! Женщина! Ты взвешена на весах и найдена очень легкой! Твоя мера не полна!
Хозяйка побагровела.
– Ты чего несешь, убогий? А ну, проваливай отсюда!
– Я – глас вопиющего в пустыне! – он воздел руки к потолку. – Я – перст указующий! И я говорю тебе: накорми этого человека!
Его палец указал прямо на меня.
Я замер. Кровь отхлынула от лица. Этого не может быть. Это… это слишком. Слишком театрально. Слишком безумно. Это не то, чего я хотел. Я хотел тихого чуда, незаметного сбоя в системе. А получил проповедь городского сумасшедшего.
– Какого еще человека? – прорычала хозяйка. – Этого оборванца? Да он сидит тут полчаса и слюни пускает! Денег у него, поди, ни копейки!
– Его голод – твой грех! – прогремел мужчина. – Его жажда – твоя вина! Накорми его, и, может быть, тебе зачтется! Дай ему то, что он просит!
Он сделал шаг к ней. Она отшатнулась, схватив со стойки тяжелую солонку.
– Не подходи, псих! Я сейчас милицию вызову!
В этот момент старик в очках, который до этого молча наблюдал за сценой, поднялся.
– Успокойтесь, граждане, – сказал он неожиданно твердым голосом. – Не надо милиции. Человек, похоже, не в себе. А вы, милейший, – обратился он к пророку в плаще, – может, хватит представлений?
Он подошел к стойке, вытащил из кармана потертый бумажник и протянул хозяйке несколько мятых купюр.
– Вот, возьмите. И дайте… – он на секунду запнулся, посмотрев на меня. – Дайте ему… борща. Тарелку горячего борща. И хлеба. И чаю.
Я не дышал.
Мир сузился до этих слов. До скрипа купюр в руках хозяйки. До недоверчивого сопения мужчины в плаще, который, казалось, был удивлен таким поворотом не меньше меня.
Хозяйка, все еще злая, но уже не испуганная, выхватила деньги.
– Ладно, – проворчала она. – Раз уплочено. Но чтоб этого психа тут больше не было.
Она скрылась за занавеской, ведущей на кухню. Мужчина в плаще постоял еще мгновение, растерянно оглядываясь, затем, так же внезапно, как и начал, замолчал, ссутулился и быстро вышел на улицу. Словно из него выпустили воздух.
Старик посмотрел на меня. В его глазах за толстыми стеклами очков не было ни жалости, ни любопытства. Просто усталость.
– Приятного аппетита, – кивнул он, вернулся на свое место и снова углубился в газету, будто ничего не произошло.
Через несколько минут передо мной на столе материализовалась тарелка. От нее шел густой пар, пахло чесноком, лавровым листом и мясом. В центре багровой глади белел островок сметаны. Рядом лежали два толстых ломтя черного, ноздреватого хлеба. И стоял граненый стакан с дымящимся чаем.
Все было в точности так, как я заказывал.
Я взял ложку. Руки дрожали так сильно, что я едва не расплескал суп. Первый глоток обжег пищевод. Это была не просто еда. Это была жизнь. Это была сила, вливающаяся в меня, разгоняющая кровь, проясняющая мысли. Я ел медленно, смакуя каждую ложку, каждый кусок хлеба. Я не смотрел по сторонам. Весь мир исчез, осталась только эта тарелка, этот хлеб, этот чай.
Это не было совпадением.
Совпадением мог быть сумасшедший пророк. Совпадением мог быть сердобольный старик. Но то, что они сошлись в одной точке времени и пространства, чтобы исполнить мой конкретный, детально продуманный заказ – это уже не совпадение. Это был ответ. Уродливый, гротескный, пугающий, но ответ. Вселенная не просто дала мне то, что я хотел. Она устроила для меня спектакль. Она использовала этих людей как марионеток, как актеров в абсурдной пьесе, поставленной специально для одного зрителя – для меня.
Тот проповедник… был ли он просто сумасшедшим? Или моя воля нашла самый подходящий сосуд, самое слабое звено в цепи человеческих сознаний в этом зале, и вложила в его уста нужные слова? А старик? Был ли его жест проявлением доброты? Или моя сила заставила его руку полезть в кошелек, сделав его инструментом чуда?
Я доел борщ до последней капли. Выпил чай. Голод отступил, но на его место пришло нечто иное. Холодный, липкий страх, который был хуже любого голода.
Одно дело – найти деньги на асфальте. Другое – заставить людей действовать против их воли, сломать их рутину, вторгнуться в их жизни, чтобы удовлетворить свою прихоть. Если я могу это, то где граница? Что я смогу завтра? Заставить поезд сойти с рельсов, чтобы не опоздать на него? Обрушить курс валют, чтобы разбогатеть?
Я посмотрел на свои руки. Обычные руки, с грязью под ногтями. Руки слабого, затравленного человека. Но теперь я знал, что в этих руках – или, вернее, в сознании за ними – дремлет нечто, способное перекраивать реальность.
Кураторы. Они ведь тоже искали нечто подобное. Они изучали пределы человеческих возможностей, копались в древних текстах, ставили бесчеловечные эксперименты. Они считали, что знание – это власть. Они хотели контролировать мир. Они сломали меня, потому что я подошел слишком близко к их тайне, потому что мои теории выходили за рамки дозволенного. Ирония судьбы заключалась в том, что они, со всей их мощью, аппаратурой и агентами, искали снаружи то, что, оказывается, было спрятано внутри. Внутри меня.
Старик дочитал газету, аккуратно ее сложил и, не глядя в мою сторону, направился к выходу. Когда он проходил мимо моего стола, он на долю секунды замедлился и, не поворачивая головы, тихо сказал:
– Они видят не все. Но слышат многое. Будьте осторожнее со словами. Даже с теми, что не произносите вслух.
И вышел.
Я застыл, провожая его взглядом. Холодный пот прошиб меня.
Он знал. Он не был случайным прохожим. Его усталость была маской. Его жест – не благотворительностью, а предупреждением. Или… или это снова моя паранойя? Мое сознание, опьяненное первым успехом, теперь видит знаки и заговоры в каждом слове? «Они видят не все. Но слышат многое». Кто «они»? Кураторы? Или какие-то другие силы, о которых я даже не подозреваю?
Я встал из-за стола. Тело, получившее пищу, обрело новую силу, но душа была в смятении. Я вышел из «Химеры» на улицу. Городской шум оглушил меня. Машины, люди, реклама – все это казалось теперь декорацией. Хрупкой, ненастоящей. Я посмотрел на небо, затянутое серыми облаками.
Эксперимент удался. Я получил свое доказательство. Я не сумасшедший.
И от этой мысли мне стало страшнее, чем когда-либо в жизни. Потому что если я не сумасшедший, то мир вокруг – безумен. И я, кажется, только что нашел рычаг, чтобы управлять этим безумием. Я был сыт. И я был в ужасе. Моя охота за истиной закончилась. Началась моя война с ней.
Глава 2. Первое чудо
Тарелка борща, съеденная не в голодном бреду, а в ясном, трезвом ужасе, лежала в моем желудке свинцовым грузом. Она не питала – она давила, превращаясь из спасения в улику. Каждый шаг по растрескавшемуся асфальту отдавался внутри глухим, тошнотворным эхом, будто я проглотил не суп, а камень с собственной могильной плиты. Город вокруг меня изменился. Или изменился я. Прежде его шум был просто фоном, безликим рокотом равнодушной машины, перемалывающей таких, как я, в пыль. Теперь же в гудке автомобиля мне слышался предостерегающий рык, в шелесте газеты, гонимой ветром по тротуару, – торопливый шепот, а в случайных взглядах прохожих – немое обвинение.
«Они видят не все. Но слышат многое. Будьте осторожнее со словами. Даже с теми, что не произносите вслух».
Слова старика в очках, этого deus ex machina в потертом пальто, впились в мой мозг, как паразиты, и теперь прорастали там, оплетая каждый нейрон ледяными побегами страха. Кто эти «Они»? Мои старые знакомые, Кураторы, что лишили меня кафедры, репутации и средств к существованию за неудобные лекции о воле? Вряд ли. Их методы были грубыми, но прямолинейными: доносы, проверки, увольнение по статье. Они работали с бумагами и протоколами. Они ломали жизни, а не законы физики. А это… это было нечто иное. Нечто, способное слышать беззвучный крик голодного желудка и отчаянную молитву о тарелке борща.
Мой дом встретил меня знакомым запахом пыли, старых книг и безысходности. Пять этажей без лифта, обшарпанная дверь с тремя замками, которые давно уже не защищали, а лишь символизировали желание отгородиться от мира. Раньше эта конура была моей крепостью, последним оплотом, где я мог спрятаться от реальности. Теперь она казалась сценой, залитой невидимым светом софитов, а я – актером, не знающим своей роли, но чувствующим на себе тысячи невидимых глаз. Я прошел в единственную комнату, служившую мне и спальней, и кабинетом, и столовой. Горы книг, как позвоночники доисторических чудовищ, громоздились на полу. На письменном столе – пожелтевшие рукописи, моя так и не законченная работа «Воля как онтологический императив». Какая ирония. Я писал о воле, способной формировать бытие, и вот, кажется, моя собственная воля вырвалась из теоретических рамок и начала калечить реальность.
Я сел на продавленный диван и уставился в стену. Нужно было думать. Думать как философ, а не как перепуганный обыватель. Итак, что мы имеем? Факт первый: я мысленно сформулировал желание – конкретное, детализированное, с условием бесплатности. Факт второй: желание было исполнено, пусть и через гротескное представление с участием двух незнакомцев. Факт третий: появился свидетель, или, возможно, соучастник, который озвучил недвусмысленное предупреждение о некой форме наблюдения.
Выводы? Первый, самый соблазнительный и самый пугающий: я обладаю способностью изменять реальность усилием мысли. Второй, рациональный: это было чудовищное, статистически маловероятное, но все же совпадение. Мужчина в плаще – обычный городской сумасшедший. Старик – сердобольный интеллигент, который решил его успокоить и заодно накормить бедолагу, то есть меня. А точное совпадение заказа… ну, борщ – не самое экзотическое блюдо. Третий, параноидальный: это была постановка. Спектакль, разыгранный Кураторами, чтобы окончательно свести меня с ума, довести до точки, когда я сам подпишу себе приговор в психиатрической лечебнице.
Но слова старика… «Даже с теми, что не произносите вслух». Эта фраза выбивалась из любой рациональной или параноидальной концепции. Она указывала на то, что источник информации был именно в моей голове.
Нет, я не мог больше жить в сомнениях. Мне нужен был еще один эксперимент. Чистый. Контролируемый. Здесь, в моей запертой изнутри квартире, где нет ни пророков, ни сердобольных стариков. Где результат будет зависеть только от меня и моей… силы.
Что я мог пожелать? Нечто простое. Нечто, чего в этой комнате точно нет и быть не может. Нечто, что не потребует вмешательства других людей, этих хрупких марионеток, чьи ниточки я, похоже, научился дергать.
Мой взгляд упал на пустой коробок из-под спичек, лежавший на столе. Последнюю спичку я сжег три дня назад, пытаясь закурить найденный на улице окурок.
Спичка. Одна-единственная спичка.
Идеально. Маленькая, незначительная, бесполезная без коробка. Ее появление нельзя будет списать на щедрость вселенной или заботу Кураторов. Она либо появится, либо нет.
Я встал и подошел к столу. Дрожащими руками смахнул с его поверхности пыль и крошки, создавая подобие алтаря. В центр этого чистого пространства я положил пустой коробок. Символическая могила, которую я должен был потревожить.
Я сел на стул, выпрямил спину, как учил меня когда-то на лекциях по восточной философии один заезжий гуру. Закрыл глаза. Дыхание. Глубокий вдох, медленный выдох. Нужно было очистить разум от страха, от сомнений, от голосов из кафе. От всего, кроме образа.
Спичка. Деревянное тельце. Красно-коричневая серная головка. Я представил ее во всех деталях: занозистую текстуру древесины, легкий химический запах серы, то, как она лежит на ладони, почти невесомая. Я не просто представлял. Я *требовал* ее существования. Я обращался не к Богу, не к дьяволу, а к самой ткани реальности, к тому первичному субстрату, из которого, по мнению некоторых идеалистов, соткано все.
«Пусть здесь, на этом столе, рядом с коробком, появится одна спичка», – сформулировал я мысленный приказ. Четко, безэмоционально, как хирург, делающий разрез.
Тишина.
Я сидел с закрытыми глазами минуту, две, десять. Ничего не происходило. В ушах звенело от напряжения. Мышцы свело. Сознание начало расплываться, а образ спички – тускнеть, уступая место издевательской пустоте.
Неужели совпадение? Неужели я просто сумасшедший, умирающий с голоду философ, который принял приступ чужого безумия за знак свыше? Облегчение и разочарование боролись во мне с одинаковой силой. Я был готов открыть глаза и принять свое поражение, свою нормальность, свое безумие – что угодно.
И тут я услышал звук.
Кап.
Тихий, мерный.
Кап.
Он шел из угла, где находилась крохотная кухонька, совмещенная с ванной. Кран. Старый, ржавый кран, который я безуспешно пытался починить сотню раз, опять начал капать.
Кап.
Этот звук ворвался в мою медитацию, как назойливая муха. Он разрушал концентрацию, вносил в идеальную тишину элемент хаоса. Я попытался его игнорировать, снова сосредоточиться на образе спички, но капли падали прямо в мозг, отсчитывая секунды моего провала.
Кап. Кап. Кап.
Ритм сбился, стал чаще, настойчивее. Мне показалось, или в нем появилась какая-то издевка? Будто сама вселенная смеялась над моими потугами. «Ты хочешь сотворить спичку? – шептали капли. – Ты, который не может починить даже старый кран?»
Гнев начал закипать во мне. Гнев на собственное бессилие, на этот кран, на весь мир. Я сжал кулаки. Нет. Это испытание. Это они, те, кто слышат, проверяют меня. Отвлекают. Пытаются сбить. Они хотят, чтобы я сдался. Но я не сдамся.
Я направил всю свою волю не только на создание спички, но и на подавление этого звука. Я приказал ему замолчать. «Заткнись!» – мысленно заорал я, вкладывая в этот беззвучный крик всю свою ярость и отчаяние.
Кап…
И тишина.
Кран замолчал. Внезапно. Абсолютно.
Я замер, боясь дышать. Такого не бывало никогда. Он мог затихать на время, но чтобы вот так, по приказу, оборвать свою монотонную песню на полуслове…
А потом произошло второе.
За окном, задернутым грязной шторой, поднялся ветер. Резкий, порывистый. Он завыл в старой раме, и форточка, которую я всегда тщательно задраивал, со скрипом распахнулась. Порыв холодного воздуха ворвался в комнату, взметая пыль, шелестя страницами рукописей на столе. Я инстинктивно зажмурился.
Когда я открыл глаза, ветер уже стих. Форточка болталась на одной петле. А на столе, в центре очищенного мной пространства, рядом с пустым коробком, лежала она.
Спичка.
Старая, отсыревшая, с обломанным кончиком. Она была грязной, будто пролежала не один год где-то на чердаке или в водостоке. Но это была она. Идеальное материальное воплощение моего заказа.
Я смотрел на нее, и сердце мое колотилось так, что, казалось, вот-вот пробьет ребра. Оно случилось. Снова. Но как? Ветер принес ее? Задул с крыши? С соседского балкона? Да, это было возможно. Чертовски маловероятно, но возможно. И кран… может, просто прокладка окончательно развалилась и забила трубу. Всему можно было найти рациональное объяснение.
Но я не хотел его искать.
Я протянул дрожащую руку и взял спичку. Она была реальной. Твердой. Пахла сыростью и гнилью. Я поднес ее к коробку, чиркнул… и ничего. Серная головка рассыпалась в прах, оставив на коробке грязный след.
Бесполезная. Мертвая. Насмешка.
Я не создал огонь. Я создал лишь видимость, потенцию огня. Иллюзию.
И в этот момент страх вернулся с новой силой. Это не было чистое творение ex nihilo. Это было похоже на то, как если бы кто-то, услышав мою просьбу, небрежно швырнул мне первую попавшуюся под руку вещь, похожую на то, что я просил. «На, подавись. Ты хотел спичку? Вот тебе спичка. А то, что она не горит, – твои проблемы».
Кто? Кто швырнул ее?
Слова старика снова зазвучали в голове. «Они слышат многое».
Они услышали. И ответили.
Я вскочил и подбежал к окну. Отодвинул штору. Внизу, на улице, было пустынно. Лишь ветер гонял по асфальту осенние листья. Никого. Но я чувствовал, что это не так. Я чувствовал на себе взгляд. Не из дома напротив, не из проезжающей машины. Это был взгляд отовсюду и ниоткуда. Взгляд самого воздуха, самого пространства.
Я заметался по комнате, как зверь в клетке. Моя крепость превратилась в ловушку. Стены, которые раньше дарили уют, теперь давили, сжимались. Мне показалось, что обои смотрят на меня тысячами мелких глаз своего узора. Книги на полках перестали быть друзьями и превратились в молчаливых судей. Каждый предмет в комнате казался чужим, подброшенным, частью декораций в этом чудовищном спектакле.
Я остановился посреди комнаты, пытаясь унять дрожь. Нужно успокоиться. Логика. Мне нужна логика. Я не могу поддаваться панике. Я философ.
Итак, они слышат мои мысли. И они могут влиять на физический мир. Они подсунули мне эту спичку. Зачем? Чтобы показать, что они существуют? Чтобы посмеяться надо мной? Или это было предупреждение? «Мы знаем о твоей силе. Мы следим за тобой. Не зарывайся».
Система Кураторов казалась теперь детской песочницей по сравнению с этим. Те были людьми. Их мотивы были понятны: власть, контроль, устранение инакомыслящих. А мотивы этих… этих «слухачей» были мне абсолютно неясны. Боги? Демоны? Инопланетяне? Или, что еще хуже, просто некая безличная сила, равнодушный механизм, который реагирует на аномалии вроде меня?