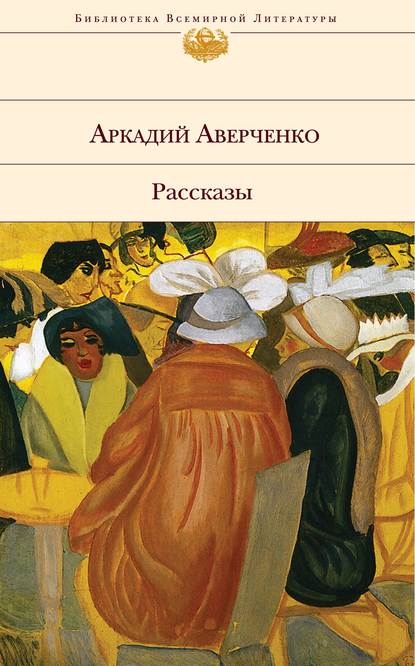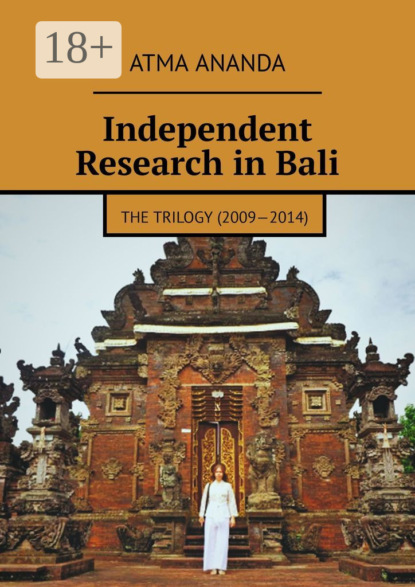- -
- 100%
- +
Я снова подошел к столу. Взял пустой коробок. Внутри что-то загремело. Странно, я был уверен, что он пуст. Я вытряхнул его на ладонь. Оттуда выпала не спичка.
Маленький, тускло поблескивающий в слабом свете лампы… жук. Бронзовка. Мертвый, засохший.
Я не просил жука. Я никогда не думал о жуках. Откуда он там? Я точно помню, как проверял коробок. Он был пуст. Я бы заметил. Я бы почувствовал вес.
Может, он всегда там был? А я в своем исступлении просто не обратил внимания?
Нет.
Это было послание. Знак. Но что он означал? В древнем Египте скарабей был символом возрождения. Но это бронзовка. Мертвая. Символ чего? Несостоявшегося творения? Тщетности моих усилий? Или намек на то, что я сам – просто жук в коробке, которого можно в любой момент вытряхнуть на чью-то безразличную ладонь?
Я с отвращением смахнул жука на пол. Моя квартира перестала быть моей. Она была осквернена. Чужое присутствие ощущалось в каждой частице пыли, в каждой трещине на потолке.
Я подошел к раковине, чтобы налить себе воды. Руки тряслись. Тишина в квартире была оглушительной. Не капал даже кран. Эта тишина была хуже любого шума. Она была неестественной, напряженной, как затишье перед бурей. Я открыл воду, и из крана полилась тонкая, ржавая струйка. Я подставил стакан, наполнил его и жадно выпил. Вода отдавала металлом.
И когда я ставил стакан на раковину, я услышал это снова.
Не капли.
Стук.
Тихий, но отчетливый. Он шел не из труб. Он шел из стены. Той самой, что отделяла мою квартиру от соседней.
Тук.
Пауза.
Тук-тук.
Пауза.
Тук.
Это был не случайный шум. Это был ритм. Осмысленный. Азбука Морзе? Нет, что-то проще. Словно кто-то по ту сторону стены, зная, что я стою здесь, в этой точке, в этой оглушительной тишине, привлекал мое внимание.
Соседи? Семья алкоголиков. Они либо орали друг на друга, либо спали мертвецким сном. Они не стучали. Никогда.
Я замер, превратившись в слух. Сердце остановилось.
Тук. Тук. Тук.
Три ровных, размеренных удара. Они прозвучали не как вопрос, а как утверждение. Как точка в конце предложения.
Они не просто слышат.
Они рядом. Прямо за стеной. И они знают, что я знаю.
Я медленно, на полусогнутых ногах, отошел от раковины в центр комнаты. Взгляд мой был прикован к стене с облупившейся штукатуркой. Я стоял и ждал, не зная, чего боюсь больше: того, что стук повторится, или того, что он прекратится навсегда, оставив меня наедине с моим знанием в этой комнате, которая больше не была ни домом, ни крепостью, а стала стеклянным террариумом, где за каждым моим движением, за каждой моей мыслью наблюдают холодные, нечеловеческие глаза. И тишина, наступившая после, была ответом, куда более страшным, чем любой звук.
Глава 3. Неожиданное падение
Стук. Пауза. Стук. Стук.
Тишина, густая, как остывшая кровь.
Стук.
Звук не был пьяным бредом, не был случайным ударом упавшего тела или брошенной бутылки. Он был точен, как удар метронома, отмеряющего последние секунды приговоренного к смерти. Три удара, пауза с длиной в человеческий выдох, два удара, еще одна бездна тишины, и последний, одинокий, как гвоздь, вбиваемый в крышку гроба. Ритм. Осмысленный. Нечеловечески осмысленный для квартиры Семена и Валентины, моих соседей, чье существование обычно озвучивалось симфонией пьяной ругани, звоном посуды и глухими, жалкими всхлипами.
Я замер посреди своей комнаты, превратившись в соляной столп. Воздух, который я вдыхал секунду назад, застыл в легких колючим комком льда. Каждая клетка моего тела кричала: беги. Но куда бежать из самого себя? Из квартиры, которая стала продолжением моего черепа, где теперь звучали чужие, враждебные мысли, облеченные в форму этого мерного, издевательского стука.
Они.
Старик в кафе «Химера» не лгал. Его слова, брошенные мне как спасательный круг и одновременно как камень на шею, теперь звенели в ушах набатом: «Они слышат многое. Будьте осторожнее со словами. Даже с теми, что не произносите вслух».
Я провел эксперимент со спичкой, жалкий, отчаянный жест, чтобы уличить их, чтобы доказать себе, что я не схожу с ума. И вот он – ответ. Не просто ответ, а издевательство. Они не только подслушали мою мысль, мой тихий, внутренний шепот о единственной спичке, но и ответили на него с точностью палача. Три, два, один. Будто отсчет перед казнью. Или перед началом нового, еще более жуткого эксперимента, где я – и подопытный, и, возможно, само орудие.
Желудок свело голодным спазмом, но голод этот был уже иным. Не физиологической нуждой, а экзистенциальной пустотой. Я хотел есть, потому что это было единственное понятное, человеческое желание, оставшееся во мне. Все остальное тонуло в вязком, иррациональном ужасе.
Я медленно, на полусогнутых ногах, подошел к стене. Той самой стене, тонкой, как пергамент, отделяющей мой убогий порядок от их гниющего хаоса. Приложил ухо к холодным, засаленным обоям. За стеной – тишина. Та самая, что давит на барабанные перепонки, тишина, в которой слышно, как ползет по венам кровь. Они затихли. Они ждут. Ждут моей реакции.
Что это? Проверка? Испытание? «Кураторы», мои бывшие тюремщики из университетской системы, всегда любили такие игры. Они создавали ситуации, где единственным выходом было унижение, подчинение, признание своей ничтожности. Но это… это было иного порядка. «Кураторы» были людьми. Пусть жестокими, ограниченными, но людьми. Их методы были предсказуемы в своей грубости. А здесь… здесь пахло серой. Здесь была логика, но логика чуждая, нечеловеческая.
Я отстранился от стены. Взгляд мой упал на стол. На нем, как улика, лежала отсыревшая спичка. Рядом – пустой коробок с мертвым жуком внутри. Насмешка. Символ тщетности. Ты можешь желать, Павел, ты можешь даже получать, но плоды твоей воли будут мертвы, гнилы, бесполезны. Твой огонь не зажжется.
Нет.
Я стиснул зубы. Нет. Это не тщетность. Это вызов. Это они показывают мне правила игры. Они говорят: «Мы здесь. Мы все слышим. Твоя сила под нашим контролем. Попробуй сделать что-то, чего мы не позволим».
Страх – это яд, парализующий волю. Я учил этому своих студентов, цитируя стоиков. А теперь сам дрожу, как осиновый лист. Но если я обладаю силой, если я действительно могу изгибать реальность под себя, то страх – это первое, что я должен выжечь из своей души. Бог не боится. Он внушает страх.
И я принял решение. Единственно верное в этой абсурдной шахматной партии. Я должен сделать ответный ход. Я пойду к ним. Я посмотрю им в глаза. Я заставлю их проявить себя. Сидеть здесь и ждать следующего стука – значит признать поражение. Это значит позволить им диктовать условия.
Я направился на кухню. Мои движения были медленными, почти ритуальными. Нужно было вооружиться. Не для физической защиты – я прекрасно понимал, что если они обладают такой властью, то кухонный нож их не остановит. Мне нужно было оружие символическое. Предмет, который сфокусирует мою волю, станет ее продолжением.
Нож отпал сразу – слишком грубо, слишком по-животному. Я – философ. Мое оружие – мысль, воля, разум. Я вернулся в комнату. Мой взгляд скользнул по книжным полкам, по верным, старым друзьям. Кант. «Критика чистого разума». Тяжелый том в потрепанном переплете. Да. То, что нужно. Вес вековой мудрости, тяжесть человеческой мысли, пытающейся обуздать хаос бытия. Я взял книгу. Она приятно легла в руку, ее увесистость придавала уверенности. Это был не просто кирпич из бумаги, это был талисман. Щит разума против иррационального ужаса.
Я подошел к входной двери. Повернул ключ в замке. Скрип механизма прозвучал в тишине квартиры оглушительно. Сердце колотилось где-то в горле, сухо и больно. Я открыл дверь и шагнул на лестничную площадку.
Здесь всегда пахло одинаково: смесью кошачьей мочи, кислой капусты и застарелого отчаяния. Тусклая лампочка под потолком отбрасывала больничные, желтые тени. Вот моя дверь, обитая рваным дерматином. А вот их – напротив. Дверь Семена и Валентины была произведением искусства в стиле дегенеративного экспрессионизма. Деревянная, некогда выкрашенная в уродливый коричневый цвет, теперь она была покрыта сетью царапин, вмятин, подтеков неизвестного происхождения. Кнопка звонка была вырвана с мясом, из стены торчали два оплавленных провода.
За дверью слышался приглушенный бубнеж телевизора и покашливание. Обычные звуки. Банальные. И от этой банальности становилось еще страшнее. Зло, которое я себе представлял, должно было обитать в готических замках или стерильных лабораториях, а не за обшарпанной дверью пропитой квартиры в спальном районе.
Я занес руку, чтобы постучать. И замер. Как? Как я должен постучать? Просто так? Как сосед, пришедший попросить соли? Нет. Это не годится. Это будет ложью. Я пришел не с просьбой, а с вызовом. Я пришел ответить.
Мои костяшки пальцев коснулись шершавого дерева.
Стук. Стук. Стук.
Я выдержал паузу, отсчитывая удары собственного сердца.
Стук. Стук.
И снова тишина, напряженная до звона.
Стук.
Я повторил их код. Я вернул им их послание. Теперь мяч на их стороне.
За дверью все стихло. Телевизор умолк. Кашель прекратился. Наступила та самая ватная, давящая тишина, что была мгновение назад в моей квартире. Прошла, казалось, целая вечность. Я уже начал думать, что они не откроют, что они просто затаились, смеясь надо мной. Но потом я услышал шаркающие шаги и скрежет замка, который, казалось, не смазывали со времен его установки.
Дверь со стоном приоткрылась.
На пороге стояла Валентина. Я видел ее сотни раз мельком – в магазине, во дворе. Но сейчас я смотрел на нее по-другому. Я пытался разглядеть за этой опустившейся, помятой оболочкой что-то еще. Распухшее, серое лицо. Мешки под глазами цвета старого синяка. Спутанные, сальные волосы неопределенного цвета. Запах перегара и немытого тела ударил в нос так сильно, что я на миг отшатнулся. На ней был выцветший ситцевый халат с узором из каких-то неправдоподобно веселых ромашек, которые выглядели на ней как насмешка.
Она смотрела на меня мутными, ничего не выражающими глазами.
– Чего тебе, философ? – просипела она. Голос был под стать внешности – хриплый, надтреснутый.
Я сжимал в руке Канта. Книга казалась якорем в этом море абсурда.
– Добрый вечер, Валентина, – произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно. – Вы не могли бы сделать музыку потише?
Это была стандартная, дежурная ложь. Первая пришедшая в голову.
Она уставилась на меня с тупым недоумением.
– Какую музыку? Телевизор у нас работал. И то тихо.
– Я говорю не про телевизор, – я смотрел ей прямо в глаза, пытаясь пробить эту мутную пленку. – Я про стук. Вы стучали в стену.
На ее лице не дрогнул ни один мускул. Она просто смотрела. Так смотрят на уличного сумасшедшего.
– Никто не стучал, философ. Тебе послышалось. Ты бы поел лучше, а то вон, бледный какой. Может, белочка к тебе пришла, а не к нам?
Она попыталась усмехнуться, но получился какой-то безобразный, скривившийся оскал.
– Я не пью, Валентина, – твердо сказал я. – И у меня очень хороший слух. Стучали. Очень отчетливо. Сначала три раза, потом два, потом один.
Я произнес это медленно, чеканя каждое слово. Я ждал реакции. Искорки узнавания, проблеска страха, чего угодно. Но ничего не было. Ее лицо оставалось непроницаемой маской тупого безразличия.
– Совсем свихнулся, – пробормотала она, скорее себе, чем мне, и уже начала было закрывать дверь, но из глубины квартиры донесся другой голос, такой же прокуренный и дребезжащий.
– Валька, кто там?
– Да сосед наш, мыслитель, – крикнула она через плечо. – Говорит, мы стучим ему тут. Цифры какие-то считает.
В проеме показался Семен. Он был еще более жалок, чем его жена. Худой, как скелет, обтянутый желтой пергаментной кожей. Тонкая шея, на которой болталась голова с редкими седыми волосами. Но глаза… его глаза были другими. Если у Валентины они были просто мутными, то у Семена в их глубине таилось что-то острое, как осколок стекла. Хитрое и злое.
– Стучим, говоришь? – он подошел ближе, от него несло еще сильнее. – А чем же это мы стучим, уважаемый? У нас и сил-то нет, чтоб стену проломить. Мы люди тихие, больные.
Он разыгрывал спектакль. Я это чувствовал. Все это было слишком наигранно, слишком правильно. Двое несчастных алкоголиков, которых донимает сумасшедший сосед.
– Я не знаю, чем, – ответил я, не сводя с него глаз. – Но я знаю, что стучали. И я прошу вас прекратить.
– Да мы и не начинали, – хихикнул Семен. Его взгляд скользнул по книге в моей руке. – О, Канта читаем? Великий ум. А ты знаешь, что он говорил? Что вещи-в-себе непознаваемы. Вот и мы для тебя – вещь-в-себе. Не пытайся познать, философ. Живи своей жизнью, а мы будем своей.
Это был удар. Прицельный, точный. Упоминание Канта, эта издевательская философская отсылка из уст опустившегося пропойцы… Это не могло быть случайностью. Мои пальцы до боли сжали переплет.
Я понял, что проигрываю. Я стою здесь, на их территории, и они водят меня за нос. Они смеются надо мной. Мой прямой вызов провалился. Они оказались умнее. Они спрятались за масками, которые невозможно сорвать. Любое мое обвинение разобьется об их железобетонное: «Ты сошел с ума». И ведь со стороны это выглядело именно так.
Нужно было уходить. Перегруппироваться. Обдумать новый план.
– Хорошо, – сказал я глухо. – Видимо, я ошибся. Извините за беспокойство.
Я повернулся, чтобы уйти. Чувство унижения и бессилия жгло изнутри. Я сделал шаг к своей двери.
И тут, мне в спину, Семен бросил фразу. Тихо, почти неразборчиво, как будто бормоча себе под нос.
– Спичками-то не разжился, мыслитель? А то у нас тоже кончились.
Я застыл.
Каждое слово вонзилось в мой мозг, как раскаленная игла.
Спичками.
Мой эксперимент. Моя тайная мысль, произнесенная в запертой, пустой квартире. Слово, которое никто, кроме меня, не мог знать.
Я медленно обернулся.
Они стояли в дверном проеме, все так же. Валентина с тупым лицом, Семен с хитрой ухмылкой. Но теперь я видел их по-другому. Я смотрел не на двух несчастных алкоголиков. Я смотрел сквозь них. И там, в глубине их пустых, выцветших глаз, я увидел Его. Тот самый холод. Ту самую нечеловеческую, насмешливую разумность. Это не были марионетки, как тот пророк в кафе. Те были грубо скроены, их дергали за ниточки. Эти же… эти были идеальными сосудами. Оболочками, наполненными чужой, ледяной волей. Их собственная личность, их жалкие жизни, их пьянство – все это было лишь камуфляжем, идеальным прикрытием, в которое никто никогда не поверит.
Семен все еще ухмылялся, но теперь его ухмылка не казалась пьяной. Она была острой, как бритва. Он знал, что сказал. Он знал, что я понял. Он наслаждался этим моментом.
Книга Канта в моей руке вдруг показалась невыносимо тяжелой и бесполезной. Вся человеческая мудрость, вся мощь разума – все это было прахом перед тем, что смотрело на меня из глаз этого живого мертвеца.
Я ничего не ответил. Я не мог. Любое слово было бы лишним, было бы проигрышем. Я просто смотрел на них, запоминая этот холод в их зрачках. Затем я молча повернулся, вошел в свою квартиру и закрыл дверь. Повернул ключ в замке один раз, потом второй. Задвинул щеколду.
Я прислонился спиной к холодному дерматину. Сердце не билось – оно трепыхалось, как подстреленная птица. Стук их двери прозвучал как выстрел.
Тишина.
Теперь я знал. Сомнений не осталось. Это не совпадение. Это не игра моего воображения. «Они» существуют. И они не где-то далеко, не в тайных правительственных бункерах и не в иных измерениях.
Они здесь. Прямо за стеной. И они знают мое самое сокровенное. Они знают всё.
Квартира больше не была тюрьмой. Она стала преддверием эшафота. А стук в стену не был предупреждением.
Это был стук молотка судьи, выносящего окончательный приговор.
Глава 4. Проверка
Замок щелкнул с окончательностью гильотины. Я прислонился спиной к хлипкой двери, и ее картонная душа жалобно скрипнула под моим весом. Тишина. Не та благословенная, пустая тишина, которую я когда-то ценил, проводя вечера над рукописями Гуссерля, а тишина натянутая, звенящая, как струна, готовая вот-вот лопнуть. Это была тишина, полная ушей.
Я стоял в полумраке своей прихожей, и мир схлопнулся до размеров этой коробки, до тонкой стены, отделяющей меня от них. От Семена и Валентины. Или от того, что носило их имена и опухшие от пьянства лица. Фраза Семена – «Спичками не балуйтесь, философ, сгореть можно» – все еще висела в воздухе, словно дым от той самой отсыревшей спички. Она не рассеивалась. Она пропитала все: старую вешалку с единственным пальто, потертый линолеум, даже сам воздух, который я вдыхал. Они знали. Они не просто слышали – они смотрели прямо в мой череп, как в аквариум, разглядывая каждую лениво проплывающую мысль.
Паника подкатила к горлу ледяной волной. Как мне теперь думать? Как строить план? Любая мысль о побеге, о сопротивлении – это немедленный доклад врагу, трансляция в прямом эфире, которую вел мой собственный мозг. Я был своим главным предателем. Я запер дверь, чтобы остаться наедине с врагом, который уже был внутри. Не в квартире – во мне самом.
Я прошел в комнату, стараясь ступать бесшумно, словно это могло иметь хоть какое-то значение. Солнечный свет, косой и пыльный, падал на стол, на раскрытого Канта, которым я так глупо пытался вооружиться. «Критика чистого разума». Какая ирония. Мой разум был нечист, вскрыт, выставлен на всеобщее обозрение. Я чувствовал себя пациентом на операционном столе в анатомическом театре, где невидимые студенты с интересом разглядывают мои трепещущие нейроны.
Сесть. Нужно было сесть. Ноги дрожали. Я опустился на стул, положив руки на стол. Не думать. Не думать о них. Не думать о спичке. Не думать о старике в кафе. О чем можно думать, чтобы это не было обо мне? Я вцепился в первую попавшуюся мысль: таблица умножения. Дважды два – четыре. Дважды три – шесть. Мозг послушно выдавал заученные строки, но под этим бессмысленным бормотанием, на самом дне сознания, билась одна-единственная мысль-птица: «Они слушают. Они слушают прямо сейчас».
Я вскочил. Прошелся по комнате. От окна к двери, от двери к книжному шкафу. Шесть шагов туда, шесть обратно. Моя клетка. А за стеной – зоопарк. Или, скорее, смотрители зоопарка, которые развлекаются, наблюдая за метаниями пойманного зверя.
Стоп. Я остановился посреди комнаты. Если они читают мысли, то каков механизм этого чтения? Они улавливают образы? Вербальные конструкции? Эмоциональный фон? Старик в кафе сказал: «Будьте осторожнее со словами. Даже с теми, что не произносите вслух». Значит, они цепляются за слова, за оформленную мысль. А что, если… что, если не давать им оформленной мысли?
Я снова сел за стол. Мое оружие всегда было здесь, в голове. Я – философ. Я привык блуждать в таких абстракциях, где теряется любое человеческое содержание. Что, если создать в голове «белый шум»? Не тишину, которую они легко просканируют, а хаос. Информационную бурю, стену из чистого смысла, настолько плотную и неразборчивую, что за ней можно будет спрятать одну-единственную, крошечную, но настоящую мысль.
Это был безумный план. Попытка заговорить Бога, заболтать вселенную. Но выбора у меня не было. Я закрыл глаза.
Первая линия обороны. Я начал с самого простого. Стихи. Лермонтов, Блок, Мандельштам. Я гнал их в голове, не вслушиваясь в смысл, превращая высокую поэзию в частокол из слов. «Выхожу один я на дорогу…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Мы живем, под собою не чуя страны…». Строфы сменяли друг друга, переплетались, обрывались. Но это было слишком просто. За этим ритмичным забором легко было различить мои истинные намерения. Я чувствовал, что это не работает. Стена была прозрачной.
Нужно что-то сложнее. Что-то, что потребует от меня полной концентрации. Что-то, что заставит сам мой разум работать на пределе, не оставляя ресурсов на побочные мысли. И я обратился к своему единственному союзнику. К нему. К старику из Кёнигсберга.
Я открыл книгу наугад. Антиномии чистого разума. Идеально. Тезис и антитезис. Две взаимоисключающие, но логически доказуемые идеи. Я вцепился в первую антиномию.
«Тезис: Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве». Я начал выстраивать в уме доказательство, как его строил Кант. Цепочка умозаключений, логических связок. Я представлял себе эту мысль не как текст, а как архитектурное сооружение. Вот фундамент – предположение о бесконечной регрессии. Вот несущие колонны – аргументы о невозможности завершенной бесконечности. Я видел, как растет это здание, эта ذهنية конструкция, заполняя собой все мое сознание.
Но потом… «Антитезис: Мир не имеет начала во времени и не ограничен в пространстве, но бесконечен в отношении как времени, так и пространства». И я начал строить второе здание. Прямо напротив первого. Здание-близнец, здание-враг. И вот они стояли в моем сознании – два невозможных, но реальных собора мысли, и между ними плясали молнии чистого противоречия. Моя голова загудела. В висках застучало.
Я добавил вторую антиномию. «Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей…» и «Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей…». Еще два здания. Теперь у меня в голове был целый город невозможной архитектуры. Город-парадокс. Я бродил по его улицам, касался стен, которые одновременно существовали и не существовали. Я заставлял себя верить в обе стороны каждого спора одновременно. Это было мучительно. Словно пытаться смотреть обоими глазами в разные стороны. Лоб покрылся холодной испариной. Голод, до этого бывший глухим фоном, вцепился в желудок раскаленными клещами, требуя внимания, пытаясь пробить брешь в моей обороне.
Но я держался. Я нагромождал концепции. Гегелевская триада – тезис, антитезис, синтез – закручивалась в бешеном вихре. Я пытался осмыслить «бытие» и «ничто» одновременно, пока они не слились в «становление». Я швырял в этот ментальный костер все, что у меня было: монады Лейбница, волю Шопенгауэра, вечное возвращение Ницше. Мой разум превратился в поле битвы титанов, в ревущий котел, где плавились идеи. Я довел себя до грани. Голова раскалывалась. Мир за закрытыми веками плыл оранжевыми и фиолетовыми пятнами.
И вот тогда, в самом центре этой бури, в точке абсолютного штиля, я позволил себе сформулировать ее. Одну-единственную, простую, как гвоздь, мысль. План проверки.
Мне нужна была проверка, которую нельзя было бы списать на случайность. Что-то конкретное. Действие. Не получение, а совершение.
«Сегодня, – подумал я, спрятав эту мысль за стеной из антиномий, – ровно в тот момент, когда часы на Спасской башне начнут бить шесть вечера, я подойду к полке и разобью единственную оставшуюся у меня чашку. Синюю, с отбитой ручкой».
Это было идеально. Часы по радио больше не передавали. У меня не было ни телевизора, ни интернета. Я не мог знать точного времени. Шесть вечера – это была условность, привязанная к внешнему событию, которое я не контролирую. И действие – разрушение. Не созидание. Я ничего не просил у мира. Я собирался у него отнять. Уничтожить крошечную часть своего убогого имущества. Если они слышат, они будут ждать. Если моя стена работает, для них это будет внезапный, немотивированный акт вандализма.
Сформулировав мысль, я тут же обрушил на нее новый вал ментального шума. Я вцепился в самое сложное, что мог придумать – в кантовское доказательство существования Бога, одновременно удерживая в уме все возражения против него. Это была пытка. Мозг плавился. Я чувствовал, как по подбородку течет струйка пота.
Я сидел, оцепенев, потеряв счет времени, погруженный в эту рукотворную бурю. Мир сузился до гула в ушах и пульсации в висках.
И вдруг сквозь этот гул я услышал его. Тихий, далекий, но абсолютно ясный перезвон. Часы. Где-то далеко, может быть, из открытого окна через несколько дворов, доносился бой курантов. Я не стал считать. Я просто знал. Время пришло.
Я медленно открыл глаза. Комната казалась нереальной, подернутой дымкой от умственного перенапряжения. Я встал. Ноги были ватными. Моя ментальная стена все еще стояла, но она истончилась, грозя рассыпаться. Я поддерживал ее последним усилием воли.
Шесть шагов до книжного шкафа. На верхней полке, рядом с томиком Паскаля, стояла она. Моя последняя чашка. Синяя эмаль, потемневшая от времени. Золотой ободок почти стерся. И скол на месте, где когда-то была ручка. Я помнил, как купил ее на блошином рынке в прошлой, другой жизни.
Я взял ее в руки. Она была холодной и гладкой.
В голове все еще грохотала битва философских систем. Я держал оборону.
Я поднял руку с чашкой. Секундное колебание. А что, если я ошибаюсь во всем? Что, если за стеной просто двое несчастных алкоголиков, а я – сумасшедший философ, который сейчас без всякой причины разобьет свою последнюю посуду?