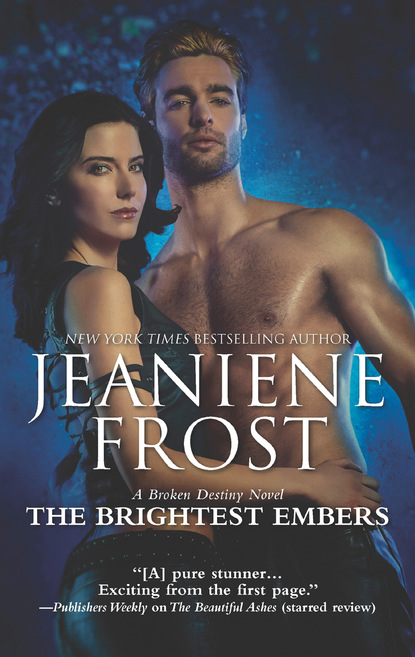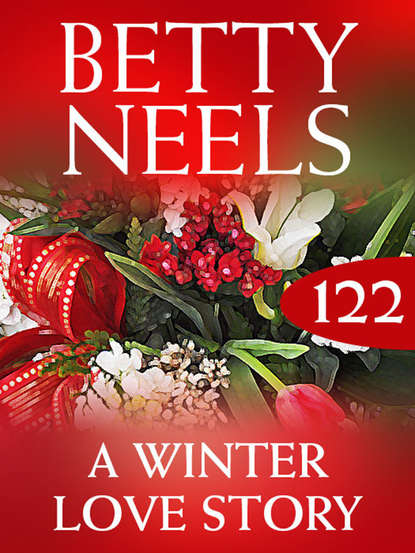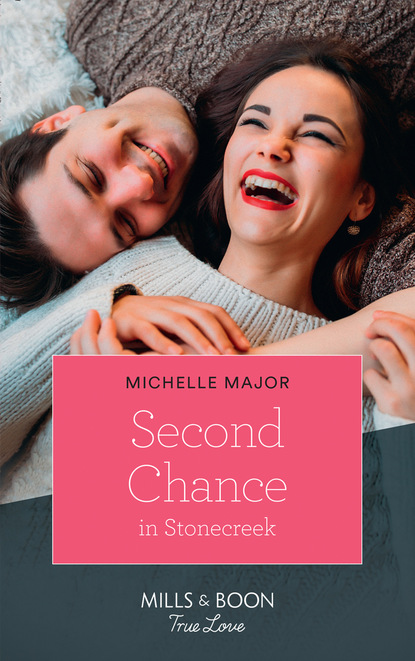- -
- 100%
- +
Нет. Фраза про спички. Стук. Это было реально.
Я разжал пальцы.
Чашка летела вниз, казалось, целую вечность. Я видел, как она переворачивается в воздухе. Синяя комета в пыльном свете моей комнаты.
Звук. Резкий, оглушительный в мертвой тишине. ДЗИНЬ!
Осколки разлетелись по полу. Один, самый крупный, похожий на синий полумесяц, отлетел к самой стене. К *той самой* стене.
Я замер, тяжело дыша. Буря в моей голове стихла. Я опустошил себя. Теперь я просто слушал. Слушал тишину за стеной.
Минута. Две. Пять. Ничего. Ни пьяного бормотания, ни скрипа кровати, ни звяканья бутылок. Абсолютная, мертвая тишина. Такая же, как у меня.
Неужели?.. Неужели получилось? Неужели я смог на несколько минут стать для них невидимым, неслышимым? Радость была острой и болезненной, как первый вдох после долгого пребывания под водой. Я смог! Я нашел способ! Я могу думать!
Я сделал шаг к столу, чувствуя эйфорию и страшную усталость одновременно. Я прислонился к нему, закрыв глаза. Я их обманул. Я, Павел, бывший преподаватель философии, нищий и голодный, обманул всеведущих тюремщиков.
И в этот момент торжества я услышал звук.
Он донесся из-за стены. Тихий. Едва различимый.
*Цок.*
Я замер. Что это?
*Цок-цок.*
Это был не стук. Не шаги. Звук был тонким, стеклянным. Словно кто-то взял маленький камешек и легонько постукивал им по стене с той стороны.
*Цок… цок-цок… цок.*
Я подошел к стене, приложил к ней ухо. Обои были холодными и шершавыми. Звук стал отчетливее. Он раздавался точно напротив того места, куда отлетел самый большой осколок моей чашки.
И тут я понял.
Они не стучали. Они не пытались передать мне сообщение. То, что они делали, было гораздо хуже.
Они взяли что-то – осколок чашки, или стакана, или кусочек плитки, неважно, – и теперь методично, с холодным, нечеловеческим терпением, выстукивали по стене с той стороны точную копию узора трещин на моем полу.
*Цок-цок-цок* – это линия разлома. Пауза. *Цок* – это отдельный маленький осколок.
Они не просто слышали мою мысль. Они видели результат. Моя ментальная крепость, мой город-парадокс, моя стена из чистого разума – все это было для них не более чем забавным узором на стекле, сквозь которое они продолжали смотреть. Они позволили мне довести мой эксперимент до конца. Они дали мне эту крупицу надежды. Они насладились моим коротким триумфом.
А потом, с издевательской точностью, они показали мне, что я все это время оставался клоуном на их арене. Они не просто знали, что я разобью чашку. Они в деталях видели, как именно она разобьется.
Я отшатнулся от стены. Ужас был уже не ледяным, не паническим. Он был горячим, черным, как смола. Он затапливал легкие.
Я посмотрел на синие осколки на полу. Потом на стену. Моя хитрость. Моя философия. Мой разум. Все это было пылью. Игрушками в руках сущности, для которой Кант и Гегель – не более чем детский лепет.
Они не просто читают мысли. Они видят мир моими глазами.
Я сел на пол, спиной к стене, той, что вела в коридор – подальше от них. Я обхватил голову руками. Издевательское постукивание прекратилось. Они донесли свою мысль. Теперь за стеной снова была тишина. Но я знал, что она значит. Это была тишина палача, который ждет, пока приговоренный осознает свой приговор в полной мере.
Но сквозь этот черный, вязкий ужас начало прорастать что-то иное. Что-то твердое и острое. Если оборона невозможна. Если спрятаться нельзя. Если любое мое действие им известно наперед… тогда что остается?
Остается действие, лишенное всякой логики. Остается воля, направленная не на созидание и не на защиту.
Я поднял голову и посмотрел на стену, за которой они обитали. Я больше не пытался строить в уме барьеры. Я больше не пытался думать о высоком. Я сосредоточился на одном. На образе этой стены, на штукатурке, на кирпичах, на пространстве за ней. Я вложил в этот взгляд всю свою ненависть, все свое отчаяние, всю свою голодную, загнанную в угол ярость.
И я пожелал. Не спичку. Не еду.
Я пожелал им боли.
Глава 5. Осознание
Осколки синего фаянса на грязном линолеуме были руинами моего разума. Каждая трещина, каждый острый край – это обломок несостоявшейся логической конструкции, развалины моей последней крепости. Я стоял над ними, как бог, созерцающий мертвый, им же созданный и им же разрушенный мир. Эйфория от мнимой победы, короткая, как вспышка сгорающей спички, угасла, оставив после себя лишь едкий запах серы и тотальную, выжигающую пустоту. Они не просто видели. Они не просто слышали. Они скопировали саму суть разрушения, передали узор случайности, превратив мой акт воли в свой жалкий перформанс.
Ярость, которая пришла на смену отчаянию, была иной природы. Не той, что кричит и бьется в конвульсиях, а холодной, плотной, как сгусток ртути в груди. Это была ярость окончательного понимания. Философия мертва. Разум – предатель. Логика – клетка, которую они отпирают снаружи, когда им заблагорассудится. Осталось только одно. Первооснова. Чистое, не замутненное мыслью намерение. Воля, о которой писал Шопенгауэр, – слепая, неумолимая, предшествующая всякому познанию. Та самая сила, что заставила мужчину в кафе пророчествовать, а старика – платить.
Я перестал думать. Я изгнал из головы все силлогизмы, все антиномии, все категорические императивы. Они были бесполезным хламом, интеллектуальной шелухой, за которой они так любили наблюдать. Мой разум превратился в гладкую, пустую сферу. А затем я сконцентрировался. Я собрал в один тугой узел весь свой голод, весь свой страх, всю свою ненависть к этим насмешливым, нечеловеческим сущностям за стеной. Я не желал им смерти – это было бы слишком абстрактно, слишком сложно. Смерть можно осмыслить, а я отказался от осмысления. Я желал им простого. Примитивного. Того, что понятно любому живому существу, от амебы до человека.
Боль.
Я направил этот сгусток на стену. Не на обои с выцветшими ромбами, не на бетонную плиту. Я целился в то, что обитало *за* ней. В Семёна, в Валентину, в то, что носило их лица, как маски. Я вложил в этот безмолвный импульс всю свою оставшуюся жизнь. Пусть их сосуды, их тела, которые они так мастерски использовали для своего маскарада, корчатся. Пусть их нервные окончания кричат. Пусть их фальшивая водка превратится в кислоту у них в желудках. Пусть их прокуренные легкие горят огнем. Я не думал об этом в словах. Это было чистое, концентрированное ощущение, которое я транслировал сквозь серый бетон.
Я стоял, вцепившись взглядом в стену, напряженный до звона в ушах. Мое тело стало антенной, передающей одну-единственную частоту – частоту страдания. Секунда. Две. Десять.
Тишина.
Ни крика. Ни стона. Ни даже ответного стука. Абсолютная, мертвая тишина, еще более оглушительная, чем их издевательское постукивание. Неужели не сработало? Неужели моя воля, лишенная интеллектуальной опоры, оказалась бессильным пшиком? Холодная волна отчаяния начала подтачивать мою ярость. Я – безумец, стоящий посреди своей захламленной комнаты и корчащий рожи стене. А они там, за ней, сейчас, наверное, давятся тихим, беззвучным смехом.
И тут я услышал.
Это был не крик. Не стон. Это был тихий, едва различимый щелчок. Словно повернули ручку старого радиоприемника. А потом из-за стены полился звук. Тонкий, дребезжащий, с помехами, будто из далекого прошлого. Заиграла музыка. Нелепая, бравурная мелодия из какой-то советской радиопередачи для детей. «Пионерская зорька» или что-то в этом роде. Бодрые трубы, жизнерадостные барабаны. Эта музыка была настолько неуместна, настолько абсурдна в контексте моей ментальной атаки, что я на миг оцепенел.
Что это? Ответ? Насмешка? Они ответили на мой концентрат ненависти… детской песенкой?
Музыка оборвалась так же внезапно, как и началась. И в наступившей тишине раздался голос. Женский. Ласковый, приторно-сладкий, как у диктора из передачи «В гостях у сказки». Голос Валентины, но очищенный от хрипоты и пропитой гнусавости. Он был чистым, студийным.
– …и тогда серый волк постучал в дверь, – нараспев произнес голос. – Тук-тук-тук. «Кто там?» – спросила Красная Шапочка. «Это я, твоя бабушка, – ответил волк тоненьким голоском. – Я принесла тебе пирожки».
Мороз пробежал по моей спине. Это не была запись. Интонации были живыми. Они разыгрывали спектакль. Они превратили мою атаку в повод для своего театра абсурда. Моя попытка причинить им боль стала для них лишь сигналом к началу представления.
Затем раздался другой звук. Скрежет. Словно кто-то двигал по полу тяжелую мебель. Потом – звон посуды. Громкий, небрежный, будто кто-то вывалил на стол гору тарелок. Затем – звук льющейся воды. Они открыли кран на полную мощность. Шум воды, женский голос, продолжающий рассказывать сказку, и периодический лязг металла о фаянс сливались в какофонию безумия.
Я прижался ухом к холодной стене. Я пытался разобрать, что происходит. Они не просто шумели. В их действиях была лихорадочная, целенаправленная деятельность. Словно они внезапно начали… готовить. Я слышал, как что-то с силой шлепают на разделочную доску. Слышал резкий, визжащий звук ножа, скользящего по точильному камню.
И тут появился запах.
Сначала тонкий, едва уловимый, он просачивался сквозь щели в стене, сквозь вентиляционную решетку на кухне. Запах жареного лука. Затем к нему примешался густой, тяжелый, мясной дух. Очень специфический. Запах жарящейся печени. Кровавый, с нотками железа. Я знал этот запах, он въелся в стены всех коммуналок и общежитий моего прошлого. Но здесь он был иным. Более концентрированным. Более… настойчивым.
Голод, который до этого был лишь фоновым гулом в моем теле, взвыл, как сирена. Пустой желудок скрутило спазмом. Слюна наполнила рот. Я не ел ничего существенного со вчерашнего борща в «Химере». Мое тело, этот предательский механизм, реагировало на запах еды, игнорируя весь ужас ситуации.
Я отшатнулся от стены. Голова кружилась. Что они делают? Зачем? Они не могли не знать о моем голоде. Они знали обо мне все. Этот запах был не случайностью. Это было продолжение их ответа. Новая, куда более изощренная пытка. Они не просто проигнорировали мою атаку – они использовали ее энергию, чтобы приготовить себе ужин. Они буквально питались моей ненавистью.
Сказка за стеной продолжалась, становясь все более гротескной.
– …и тогда волк распахнул свою пасть, а пасть у него была большая-пребольшая, – сладко пел голос Валентины. – И он проглотил бабушку целиком! А потом надел ее чепчик, лег в ее кровать и стал ждать Красную Шапочку…
Звук шипящего на сковороде масла стал громче. Запах печени – невыносимым. К нему примешался еще один оттенок – сладкий, карамельный, почти приторный. И что-то еще. Что-то неуловимо неправильное, чужеродное. Запах увядающих полевых цветов.
Я метался по своей крохотной комнате, зажимая уши, но звуки и запахи проникали отовсюду. Моя квартира перестала быть моей. Она стала пристройкой к их дьявольской кухне, зрительным залом их театра. Моя воля, моя последняя надежда, мой чистый импульс боли был пойман, препарирован и превращен в фарс. Они взяли мою попытку стать Демиургом, пусть и злым, и низвели меня до уровня капризного ребенка, чьи истерики лишь забавляют взрослых.
Внезапно все звуки за стеной оборвались. Кран замолчал. Голос умолк на полуслове. Шипение на сковороде прекратилось. Наступила абсолютная тишина. Такая же, как в первые секунды после моей атаки. Но теперь она была другой. Она была наполнена ожиданием. Это была тишина после поднятия занавеса, когда актеры уже на сцене, но еще не начали говорить.
Я замер посреди комнаты, не дыша. Что теперь? Что будет дальше?
Прошла минута. Две. Ничего. Я начал думать, что все закончилось. Что это была лишь демонстрация, еще один способ показать мне мое место.
И в этот момент я услышал тихий шорох у входной двери. Не за стеной. У *моей* двери. Со стороны лестничной клетки.
Кто-то был там.
Я на цыпочках подошел к двери и прижался к глазку. Мутный, искаженный кружок показывал пустую, тускло освещенную площадку. Никого. Я прислушался. Шорох повторился. Он раздавался внизу, у самого пола. Словно кто-то медленно, аккуратно просовывал что-то в щель под дверью.
Мое сердце заколотилось с бешеной силой. Я отступил от двери на несколько шагов, вглядываясь в темную полоску у порога. Из-под двери медленно, миллиметр за миллиметром, в мою квартиру въезжал край белой фаянсовой тарелки.
Я смотрел, завороженный. Тарелка двигалась плавно, без рывков. Когда она целиком показалась в комнате, неведомая сила снаружи толкнула ее еще на несколько сантиметров вглубь и остановилась.
На тарелке лежал кусок дымящейся, свежеприготовленной еды.
Я не двигался. Я смотрел на этот дар, этот трофей, этот приговор. Это была печень. Идеально прожаренный, лоснящийся темной глазурью кусок, источающий тот самый сводящий с ума аромат. Рядом с ним аккуратной горкой был выложен золотистый, до прозрачности обжаренный лук. А на самом краю тарелки, как издевательская брошь, лежал один-единственный цветок одуванчика, уже начавший увядать от жара.
К ободку тарелки был прислонен крошечный, сложенный вдвое клочок бумаги.
Дрожа, как в лихорадке, я сделал шаг. Потом еще один. Я опустился на колени перед тарелкой. Голод был физической болью. Запах еды был почти материальным, он окутывал меня, проникал в легкие, обещая избавление. Мои руки сами потянулись к тарелке.
Я остановил себя в последнем усилии воли. Сначала – записка.
Пальцы не слушались. Я с трудом развернул маленький квадратик бумаги, вырванный, кажется, из школьной тетради в клетку. На нем аккуратным, почти каллиграфическим почерком, который никак не вязался с образом вечно пьяного Семёна, было выведено всего три слова.
«Ты голоден. Поешь».
Я отшвырнул записку, словно она обожгла мне пальцы. И посмотрел на еду. На эту печень. И понял.
Это была не просто еда. Это была материализация моей ненависти. Они поймали мой ментальный удар, этот сгусток чистой воли, направленной на причинение боли, и, как некие инфернальные повара, приготовили из него блюдо. Они трансформировали мою ярость в белки, жиры и углеводы. Они превратили экзистенциальный бунт в ужин. Этот дымящийся кусок на тарелке был моей же силой, моей же болью, которую мне предлагалось съесть. Поглотить собственное поражение. Стать каннибалом, пожирающим свою душу.
Это было гениально в своей жестокости. Куда тоньше, чем выстукивание узора трещин. Они не просто показали мне свое всеведение. Они показали мне свое всемогущество, свою способность переплавлять саму суть моих намерений. Я хотел быть огнем, что их сожжет, а они использовали меня как дрова для своего очага.
Я сидел на полу в своей темной, холодной квартире. Передо мной стояла тарелка с горячей, ароматной едой. Запах сводил с ума. Желудок требовал. Тело умоляло. Но я смотрел на этот кусок печени и видел не пищу. Я видел свою униженную, растоптанную, зажаренную с луком волю.
Съесть – значило сдаться. Признать их власть не только над моим разумом, но и над самой моей сущностью. Стать их частью, впустив в себя продукт их издевательской алхимии.
Не есть – значило умереть с голоду, глядя на еду. Умереть, отвергнув их «дар».
Они не оставили мне выбора. Они оставили мне только варианты унижения. И за стеной снова воцарилась тишина. Тишина сытых, довольных богов, наблюдающих за последними конвульсиями насекомого в банке.
Глава 6. Ночь сомнений
Тарелка стояла на грязном линолеуме коридора, словно алтарь, воздвигнутый на свалке. Белый фаянсовый круг в пыльной световой полосе из-под двери. На нем – дымящаяся горка жареной печени, склизкой, почти черной, перемешанной с полупрозрачными кольцами лука. От нее исходил пар, который не грел, а морозил. Он нес с собой запах, и этот запах был не просто ароматом еды. Это был запах-хищник, который уже проник в мою квартиру, в мои легкие, в мой желудок, и теперь скручивал его в тугой, болезненный узел голодного спазма.
Рядом с тарелкой, нацарапанная на обрывке газетной полосы, лежала записка: «Ты голоден. Поешь».
Два простых предложения. Констатация факта и приказ. Или совет? Или проклятие? В этом и заключалась их дьявольская точность. Они не угрожали, не насмехались открыто. Они просто констатировали реальность, которую сами же и создали. Мой голод был неоспорим. Их «забота» – неопровержима.
Я стоял в нескольких шагах, прижавшись спиной к стене своей комнаты, и смотрел на эту сцену. Дыхание застряло где-то в горле. Мой желудок вел войну с разумом. Тело, первобытный, глупый зверь, хотело броситься на колени и по-собачьи вылизать эту тарелку. Оно выло, умоляло, оно уже чувствовало вкус этой жирной, сочной плоти на языке, чувствовало, как тепло наполняет ледяные пустоты внутри. Но разум, мой натренированный, измученный разум философа, видел в этом подношении нечто иное.
Это была не еда. Это была моя ненависть. Моя ярость, выплеснутая в сторону стены, мой бессильный волевой удар – они поймали его, как ловят мяч, а потом… приготовили. Поджарили на сковородке с луком. Превратили высшее проявление моего духа, мою волю к уничтожению, в низменную материю, в калории, в белки и жиры, предназначенные для поддержания физического существования моей тюрьмы-тела.
Это была самая изощренная, самая полная форма унижения, какую только можно было вообразить. Они не просто отразили удар. Они его поглотили, переварили и вернули мне в виде подачки. Они говорили: «Твоя воля – всего лишь сырье. Твоя ненависть – просто специя. Ты для нас не противник, ты – ресурс. Ферма по производству эмоций, которые мы можем готовить на ужин».
Съесть это означало признать их полную власть. Признать, что я – всего лишь скот в их загоне. Это означало буквально поглотить собственное поражение, переварить свое бессилие и превратить его в часть себя. Стать ходячим памятником их триумфу.
Не съесть – означало умереть. Голод был уже не просто ощущением. Он стал физической болью, тупой, ноющей, которая расползалась от желудка по всему телу. Мысли путались, конечности слабели. Я знал, что долго так не протяну. Может, день. Может, два. И они знали это. Они просто поставили тарелку и ждали. Как энтомологи ждут, когда голодный паук в банке наконец набросится на подброшенную ему муху.
Я медленно опустился на пол, не сводя глаз с тарелки. Пар становился тоньше, но запах, казалось, лишь густел, заполняя собой все пространство. За стеной царила абсолютная тишина. Ни радио, ни шагов, ни кашля. Они дали мне время. Они наслаждались моей дилеммой. Кантовская антиномия, доведенная до абсурда. Тезис: я должен съесть, чтобы выжить. Антитезис: я должен отказаться, чтобы сохранить себя как личность. И оба пути вели в никуда. Выживание ценой полного подчинения или смерть с сохранением гордости, о которой никто никогда не узнает.
Что бы выбрал человек на моем месте? Любой нормальный человек. Он бы проклял их, но съел. Потому что инстинкт жизни сильнее любой гордости. Но я не был нормальным человеком. Не больше. Я был чем-то еще. Существом, способным силой мысли заставить мир прогнуться. Пусть неуклюже, пусть гротескно, но прогнуться. И это знание не позволяло мне мыслить как все.
Моя сила была ответом. Но каким? Я уже пытался атаковать их волей – они превратили ее в жаркое. Я пытался обмануть их разумом – они прочли узор трещин на чашке моими же глазами. Прямое противостояние было бессмысленно. Хитрость – невозможна.
Значит, нужно искать третий путь.
Я закрыл глаза, пытаясь отстраниться от запаха, от урчания в животе. Я – философ. Мое оружие – мысль. Нужно препарировать ситуацию, разложить ее на составные части, найти скрытую уязвимость в их идеальном капкане.
Что они сделали? Они провели акт трансмутации. Превратили энергию (мою ненависть) в материю (еду). Это была их демонстрация силы. Алхимия унижения. Но любой алхимический процесс обратим. Если они могут превратить мою волю в материю, то, возможно, и я смогу?.. Смогу что? Превратить эту материю обратно в волю? Или… изменить ее природу.
Эта мысль пришла как вспышка, как откровение. Они ждут от меня одного из двух действий: животного подчинения или гордого самоубийства. Оба варианта – реакции. Они – акторы, я – реактор. Они задают условия, я выбираю из предложенного. Но что, если я откажусь выбирать? Что, если я предложу свое условие?
Они дали мне пищу, сотворенную из моей ненависти. Яд для души. Но что, если я приму ее не как их дар, а как свою собственную субстанцию, вернувшуюся ко мне в иной форме? Я породил эту энергию. Она – часть меня. Пройдя через их «кухню», она изменилась, но не перестала быть моей.
Что, если я смогу очистить ее?
Эта идея была безумной. Настолько безумной, что могла сработать. Они ждут от меня борьбы или сдачи. Но они точно не ждут… ритуала. Акта преображения.
Я встал. Ноги дрожали, но внутри что-то твердело. Это был не план, основанный на логике, а скорее прыжок веры, основанный на отчаянии. Я подошел к книжной полке. Руки сами потянулись к старому, потрепанному тому Спинозы. «Этика». Я открыл его наугад. Палец уперся в строчку: «Вещь не перестает быть истинной оттого, что ее никто не признает».
Да. Эта еда – моя ненависть. Это истина. Но ее смысл, ее *значение* – это то, что я могу изменить.
Я вернулся к тарелке. Опустился на колени. Не как раб перед хозяином. А как жрец перед алтарем. Я смотрел на остывающую печень. Она больше не вызывала во мне животного голода. Теперь я видел в ней нечто иное. Запертую силу. Мою силу.
Я протянул руки и держал их над тарелкой, не касаясь ее. Я закрыл глаза.
И начал работать.
Я не пытался создать «ментальный шум», как с чашкой. Я не пытался атаковать, как в прошлый раз. Я делал нечто совершенно иное. Я концентрировался на самой субстанции на тарелке.
Я представил ее не как пищу, а как сгусток информации. Черный, вязкий, пропитанный их насмешкой и моим собственным бессилием. Я не стал бороться с этой информацией. Я начал ее… переписывать.
Всю свою волю, все остатки сил я направил на одну-единственную мысль, одну формулу, которую повторял снова и снова, вкладывая в нее все свое существо.
«Ты – не унижение. Ты – сила. Ты – не яд. Ты – знание. Ты не рабство. Ты – ключ».
Я не знал, работает ли это. Я ничего не чувствовал. За стеной по-прежнему было тихо. Но я продолжал. Я вливал в этот остывающий кусок плоти все, что у меня было: воспоминания о лекциях, которые я читал, о книгах, о моментах, когда я чувствовал себя не жертвой, а мыслителем, способным объять разумом вселенную. Я наполнял эту еду светом чистого познания. Я представлял, как каждая молекула этой печени, каждый атом этого лука перестает быть символом моего позора и становится носителем моей воли к освобождению.
Я превращал их издевательский жест в акт причастия. Моего собственного, одинокого причастия. Если они боги, то я совершаю акт теофагии – пожирания бога, чтобы обрести его силу. Если они демоны, я принимаю их яд, чтобы выработать иммунитет.
Я не знал, сколько времени прошло. Может, минуты, может, час. Когда я открыл глаза, пар от еды уже совсем не шел. Тарелка стояла холодной и неподвижной. Но мне показалось, что что-то изменилось. Воздух вокруг нее стал… чище. Запах больше не был хищным и удушающим. Он стал просто запахом жареной печени. Обычной еды.
Момент настал.
Руки тряслись так, что я едва мог удержать тарелку. Я поднял ее с пола. Сел за свой шаткий кухонный стол, на котором до сих пор лежал мертвый жук и отсыревшая спичка – памятники моим прошлым поражениям. Я посмотрел на них, потом на тарелку. Это все было звеньями одной цепи.
Я взял вилку. Наколол первый кусок. Он был уже холодным, резиновым на вид. Я поднес его ко рту. В последнюю секунду меня охватил ледяной ужас. А что, если это настоящий яд? Что, если все мои ментальные построения – лишь бред умирающего от голода мозга, и сейчас я просто совершу самоубийство?
А что, если нет?
Я положил кусок в рот и начал жевать. Медленно, осмысленно.
Вкуса не было. Сначала. Просто безвкусная, вязкая масса. Мой разум кричал: «Выплюни!», но я заставил себя продолжать. Я жевал, превращая материю в кашицу, готовя ее к тому, чтобы она стала частью меня.
И тут вкус появился.
Но это был не вкус печени. И не вкус лука. Это был вкус… озона после грозы. Вкус мокрого асфальта. Вкус пыли на старых книгах. Это был нечеловеческий, чуждый, минеральный вкус. Я чувствовал, как он расползается по языку, небу, как проникает в кровь. И вместе с ним приходило… понимание.
Это не было знанием в виде слов или образов. Это было прямое, невербальное ощущение. Я ощутил их. Не их мысли, нет. Я ощутил *природу* их сознания. Холодное, огромное, безразличное, как космос между галактиками. Сознание, для которого человеческие эмоции – ненависть, страх, любовь – были лишь интересными химическими реакциями, флуктуациями в упорядоченной системе. Они не были злыми в человеческом понимании. Они были… исследователями. А я – объектом исследования. Моя квартира – их предметное стекло. Моя воля – реагент, который они добавляют, чтобы посмотреть на реакцию.