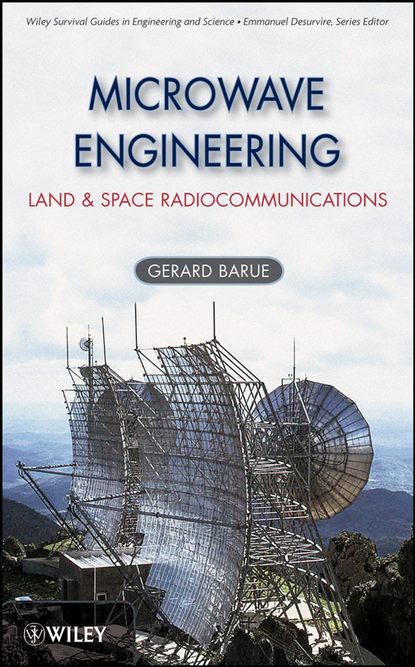- -
- 100%
- +
Эта еда действительно была ключом. Приняв ее, я не покорился. Я подключился к ним. Я попробовал их на вкус.
Я съел все до последнего кусочка. Вытер тарелку куском черствого хлеба, который нашел на полке. Впервые за много дней я почувствовал сытость. Но это была странная сытость. Тело было довольно, но разум… разум был в ужасе от того, что он только что узнал.
Я сидел за столом в полной тишине, переваривая еду и откровение. Мой враг был не просто сильнее. Он был принципиально иным. Бороться с ним было все равно что муравью бороться с сапогом геолога, изучающего муравейник.
Но теперь я знал. Яд стал знанием. Унижение стало силой. Я проиграл эту битву, но я изменил правила всей войны. Я больше не был просто объектом. Я стал объектом, который осознал природу экспериментатора.
И в этот момент, в наступившей мертвой тишине моей квартиры, из-за стены, из их квартиры, раздался звук.
Он не был похож ни на стук, ни на скрежет, ни на голоса.
Это был один-единственный, сухой, отчетливый хлопок в ладоши.
Медленный, насмешливый… или одобрительный? Аплодисмент.
Они видели все. Они поняли все. И они оценили мой ход.
Игра продолжалась. Но теперь я сидел за доской не с пустыми руками. Я проглотил одну из их фигур.
Глава 7. Новая вера
Одинокий хлопок не имел эха. Он просто был, а потом его не стало – абсолютный, выверенный акустический факт, пронзивший тишину моей квартиры и застывший в ней вечным вопросительным знаком. Я сидел на полу, перед пустой, вылизанной дочиста тарелкой, и этот звук – не аплодисмент, но констатация, не похвала, а росчерк пера в лабораторном журнале – стал точкой в моем прежнем существовании. Я был вскрыт, изучен и каталогизирован. Мой бунт, моя попытка перекодировать их яд в знание, был понят и… принят к сведению. Не более.
Часы на стене – подарок покойной матери, с выцветшим циферблатом и надтреснутым стеклом – показывали полночь. Они стояли уже лет пять, но сейчас мне казалось, что их стрелки остановились не от старости, а по чьей-то воле, зафиксировав момент моего окончательного превращения из человека в экспонат.
Воздух в комнате сгустился, стал тяжелым, как мокрая земля. Я ждал. Ждал следующего хода, следующего укола, следующей издевательской подачи. Что теперь? Запах свежесваренного кофе? Призрачная музыка из-за стены, та самая симфония, под которую я когда-то защищал диссертацию? Но ничего не происходило. Тишина была абсолютной. Не просто отсутствие звука, а его активное подавление. Даже привычный гул старого холодильника, мой верный спутник в бессонных ночах, умолк.
Эта тишина была страшнее их стуков и запахов. Это была тишина вакуума, в котором я задыхался. Они дали мне знание, позволили заглянуть за кулисы, увидеть холодные, бесстрастные механизмы, и теперь оставили меня наедине с этим откровением, чтобы посмотреть, как оно будет разъедать меня изнутри.
Прошли часы. Я не двигался, превратившись в изваяние отчаяния. Тело ныло от голода, но острая боль ушла, сменившись тупой, сосущей пустотой. Еда, которую я съел, насытила плоть, но опустошила нечто большее. Она была топливом, но не для жизни, а для продолжения эксперимента.
И тогда я услышал его. Тихий, почти неразличимый щелчок. Он донесся не из-за стены. Он прозвучал у входной двери.
Я замер, прислушиваясь. Сердце, до этого лениво перекатывавшее кровь, забилось испуганной птицей. Щелчок был знакомым, интимным. Так звучит старый английский замок на моей двери, когда поворачивается ключ. Но я был внутри. А ключ лежал на комоде, покрытый слоем пыли.
Медленно, боясь спугнуть реальность, я поднялся на ноги. Мышцы затекли, в глазах потемнело. Опираясь на стену, я побрел в коридор. Дверь, моя последняя баррикада, мой символ заточения, была приоткрыта на палец. Из щели тянуло сквозняком, пахнущим влажным асфальтом и прелыми листьями.
Свобода? Нет. Это слово из другого лексикона, из другой жизни. Это была не свобода. Это была смена декораций. Клетку не убрали, ее просто расширили до размеров города, а может, и всего мира.
На истертом коврике у порога лежал сложенный вчетверо лист бумаги. Пожелтевший, вырванный из школьной тетради в клетку. Я поднял его. Руки дрожали так, что бумага шелестела. Развернув, я увидел карту. Примитивную, нарисованную от руки неровной линией синей шариковой ручки. Я без труда узнал наш район: прямоугольники домов, извилистые линии улиц, даже кривой контур сквера у метро. Все названия были подписаны печатными, почти детскими буквами.
И в одном месте, в стороне от главных улиц, там, где на настоящей карте города было лишь серое пятно промзоны, стоял жирный красный крест. Нарисованный фломастером, так сильно, что тот пропитал бумагу насквозь.
Ни слова. Ни записки. Просто карта и крест. Приглашение. Приказ.
Я стоял в полумраке коридора, сжимая в руке этот ультиматум. Выйти наружу. После месяцев добровольно-принудительного затвора, после того, как эта квартира стала продолжением моего тела, моей кожей, моим черепом. Выйти в мир, где каждый прохожий может быть их аватаром, каждый взгляд – окуляром микроскопа.
Мысли метались, цепляясь друг за друга, как утопающие. Это ловушка. Очевидная, грубая, унизительная в своей простоте. Они хотят выманить меня из единственного места, где я хотя бы теоретически мог найти укрытие. Зачем? Чтобы закончить дело? Чтобы меня сбила машина, или на меня напали бы пьяницы, чьи руки двигались бы по их невидимым нитям?
Или это следующий этап? Новый уровень игры, в которую я был насильно вписан. Они изучили мою реакцию на голод, на ментальное давление, на унижение. Теперь им нужно посмотреть, как я поведу себя в более сложной среде. Как испытуемое животное выпускают из тесной клетки в просторный вольер, чтобы изучить его навигационные способности и социальное поведение.
Я вернулся в комнату и сел за стол, положив карту перед собой. Красный крест горел, как стигмат. Что там? Место встречи? Место казни? Или просто пустота, еще одна насмешка? «Ты пришел, а здесь ничего нет. Глупец. Мы просто хотели посмотреть, как ты пойдешь».
Я пытался мыслить как философ. Проблема выбора. Буриданов осел. Остаться здесь – значит умереть от голода, медленно и мучительно. Они больше не принесут еды, я это чувствовал. Тот ужин был актом, завершающим предыдущую сцену. Пойти – значит подчиниться их воле, сделать шаг по начерченному ими пути, полностью признав себя марионеткой.
Но что, если… что, если в этом и есть лазейка? Они ждут от меня либо трусливого подчинения, либо упрямого бунта. Либо я пойду, понурив голову, либо забьюсь в угол и умру. А если выбрать третий путь? Пойти, но не как раб, а как исследователь. Пойти, чтобы собрать информацию. Они открыли мне часть правды о себе, о своей природе «наблюдателей». Возможно, там, на месте креста, есть еще один фрагмент пазла.
Я должен был идти. Не потому, что верил в хороший исход, а потому, что бездействие было равносильно самоубийству. Действие, даже навязанное, оставляет шанс на контригру.
Я одевался медленно, ритуально. Старые джинсы, свитер, который уже давно потерял форму. Каждый предмет одежды казался чужим, реквизитом для роли, которую я не выбирал. Посмотрел на себя в треснутое зеркало в прихожей. Из глубины на меня смотрел незнакомец. Впалые щеки, лихорадочный блеск в глазах, седина на висках, которой еще полгода назад не было. Я видел не себя, а результат их работы. Холст, на котором они писали свою картину страхом и отчаянием.
Выйдя на лестничную клетку, я обернулся и посмотрел на дверь квартиры Семена и Валентины. Она была безмолвна. Но я чувствовал их присутствие. Они не смотрели в глазок. Они смотрели сквозь стену, сквозь меня. Я мысленно представил, как они сидят на своем продавленном диване, два обрюзгших тела, а в их глазах горит холодный, нечеловеческий интеллект, и на лицах – подобие научной любознательности.
Спуск по лестнице был пыткой. Каждая ступенька отдавалась гулом в голове. Я не был на улице несколько месяцев. Мир за дверью подъезда казался другим измерением.
И вот я на улице.
Удар был оглушительным. Не звук, а само бытие мира обрушилось на меня. Прохладный осенний воздух, пахнущий сыростью и бензиновым выхлопом, резанул легкие. Шум города – далекий гул машин, крики детей на площадке, лай собаки – ворвался в уши, которые привыкли к тишине квартиры. А свет… тусклый, серый свет пасмурного дня показался мне ослепительнее софитов. Я зажмурился, прислонившись к холодной стене дома.
Мир жил своей жизнью. Проносились машины, спешили по своим делам люди в одинаково серых куртках. Старушка в фиолетовом берете медленно шла с авоськой, из которой торчал батон. Двое подростков смеялись, глядя в экран смартфона. Все это было до тошноты нормальным. И от этой нормальности становилось еще страшнее. Где-то в этой обыденной картине были они. Или их глаза.
Та старушка? Она посмотрела на меня слишком пристально. Или мне показалось? А вон тот мужчина в черном пальто, стоящий на остановке? Он не садится ни в один автобус. Он ждет? Наблюдает?
Паранойя стала моим вторым дыханием. Я развернул карту. Путь лежал через старые дворы, мимо моей бывшей школы, а затем уходил в сторону заброшенной промзоны на окраине. Маршрут, лишенный логики для обычного пешехода, но идеальный для того, кто хочет остаться незамеченным. Или для того, кого ведут по заранее спланированному коридору.
Я двинулся с места. Ноги были ватными, каждый шаг требовал усилия. Я шел, опустив голову, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Я был уверен – они видят. Не обязательно физически. Они могли подключиться к любому из этих людей, как к камере наблюдения, на долю секунды заглянуть в их глаза и увидеть меня. А может, им и это не нужно. Может, они видят мир так, как вижу его я, – изнутри моей же головы.
Голод снова напомнил о себе тупой болью в желудке. Я проходил мимо маленькой пекарни. Из открытой двери пахло свежим хлебом и ванилью. Этот запах был пыткой, настоящим, физическим истязанием. Я остановился, глядя через стекло на румяные булки, на пирожные с кремом.
И тут же возникла мысль. Простая, ясная, соблазнительная. Я мог бы это получить. Мне достаточно было просто пожелать. Сосредоточиться. Сформировать волю в тугой узел и направить ее. И что-нибудь бы произошло. У продавщицы случился бы приступ необъяснимой щедрости. Или у кого-то из покупателей выпал бы из кармана кошелек прямо мне под ноги. Или…
Я резко отвернулся от витрины. Нет. Я не стану этого делать. Этого они и ждут. Проверки. Использую ли я Силу для удовлетворения низменных потребностей? Превращусь ли я в капризное божество, исполняющее свои мелкие прихоти? Каждое такое желание – это еще одна порция сырья для них. Моя ненависть стала для них печенью с луком. Во что превратится мое желание съесть булочку? В камень, который мне придется грызть?
Я стиснул зубы и пошел дальше, прочь от соблазнительного запаха. Это была моя маленькая победа. Я не дал им того, чего они хотели. Я шел дальше, держась своего маршрута. Вот и двор моей старой школы. Все та же уродливая кирпичная коробка. На спортивной площадке несколько старшеклассников лениво пинали мяч. Я ускорил шаг. Воспоминания – еще один ресурс, который они могут использовать против меня.
Чем дальше я уходил от центра, тем безлюднее становились улицы. Дома обветшали, асфальт сменился разбитыми бетонными плитами. Воздух стал пахнуть мазутом и сырой землей. Промзона. Ржавые заборы, увенчанные колючей проволокой, заброшенные цеха с выбитыми окнами, похожими на пустые глазницы черепов. Тишина здесь была иной, чем в моей квартире. Мертвой, промышленной.
Карта вела меня вглубь этого царства упадка. Я свернул в узкий проход между двумя глухими кирпичными стенами. В конце его виднелся просвет. Я вышел на небольшую, заросшую бурьяном площадку, со всех сторон окруженную руинами. И посреди нее…
Посреди нее была детская площадка. Вернее, то, что от нее осталось. Ржавая горка с прогнившим скатом. Остатки карусели, вросшие в землю. И две качели на скрипучих, изъеденных коррозией цепях. Место тотального запустения, кладбище детских криков и смеха.
Именно здесь на моей карте стоял красный крест.
Я медленно прошел к центру площадки. Сердце колотилось где-то в горле. Я ожидал чего угодно. Засады. Записки. Трупа. Но не увидел ничего. Просто заброшенная площадка.
Я обошел качели, заглянул под горку. Пусто. Неужели это и была их шутка? Заставить меня проделать весь этот путь, чтобы я увидел лишь тлен и разруху? Чтобы я понял, что это – метафора моей собственной жизни? Слишком банально даже для них.
Я остановился точно в том месте, где на карте был крест. Под ногами хрустнуло битое стекло. Я стоял и ждал. Минуту. Две. Десять. Ничего. Только ветер шелестел в сухой траве и раскачивал пустые качели, которые издавали жалобный, протяжный скрип.
И тогда я заметил это.
На сиденье правых качелей, покрытом слоем ржавчины и птичьего помета, что-то выделялось неестественно чистым, ярким пятном. Я подошел ближе, и у меня перехватило дыхание.
Там стояла чашка.
Синяя. Эмалированная. С крошечным белым сколом на ободке. Точно такая же, как та, что я разбил о стену в своей квартире, пытаясь обмануть их. Но эта была не склеена из осколков. Она была целой. Новой. Абсолютно новой, но при этом – моей. Я узнал бы ее из тысячи. Это была не копия. Это была *она*. Воскресшая из небытия.
Я смотрел на нее, и мир поплыл у меня перед глазами. Это было невозможно. Не просто проявление силы, не просто материализация предмета, как та отсыревшая спичка. Это было нечто иное. Это было стирание факта. Они не просто создали новую чашку. Они отменили сам акт ее уничтожения. Они перемотали реальность назад для одного-единственного объекта, оставив все остальное нетронутым.
Это было не просто демонстрацией всеведения, как узор трещин на стене. Это было заявлением о всемогуществе. «То, что ты считаешь необратимым, для нас – лишь черновик, который можно переписать. Твой самый отчаянный, самый окончательный акт неповиновения мы можем отменить щелчком пальцев. Твоя воля – ничто. Твои действия – пыль».
Я протянул руку, но не коснулся ее. Я смотрел на эту синюю чашку, сияющую своей невозможной новизной посреди ржавчины и гниения, и понимал, что это не просто предмет. Это был символ. Символ моего полного, абсолютного, метафизического рабства. Они вернули мне мою тюрьму. Ту самую, которую я в отчаянии разбил. Вот она, бери. Ты можешь разбить и эту, а мы вернем ее снова. И снова. И снова.
Передо мной снова встал выбор. Что делать? Разбить ее к чертям, выкрикивая проклятия? Это будет истерика, которой они ждут. Взять ее с собой, как сувенир их власти? Это будет капитуляция.
Я стоял над этой чашкой, и во мне поднималась не ярость, не страх и не отчаяние. А холодная, кристально чистая пустота. Игра была сыграна. Я понял правила. Я понял масштаб фигур на доске. И я понял, что выиграть, играя по их правилам, невозможно. Значит, нужно перестать играть.
Не притрагиваясь к чашке, не оглядываясь, я развернулся и пошел прочь.
Я шел медленно, размеренно, не ускоряя и не замедляя шаг. Я не бежал. Я не выказывал эмоций. Я просто уходил, оставляя их артефакт, их сообщение, их символ власти стоять на ржавых качелях посреди мертвой площадки. Это был не бунт. Это было неприятие. Отказ участвовать в этом конкретном акте унижения. Вы можете вернуть чашку, но вы не можете заставить меня признать ее своей. Вы можете отменить мои действия, но вы не можете отменить мое знание о них.
Я уже почти дошел до узкого прохода между стенами, когда за спиной раздался звук. Не хлопок. Не скрип.
Это был тихий, мелодичный звон. Словно кто-то легонько ударил по краю фарфоровой чашки металлической ложечкой. Один раз. И этот чистый, высокий звук повис в мертвом воздухе промзоны, как последнее, насмешливое «прощай». Или как приглашение к следующему раунду.
Глава 8. Жильё
Звон надломленной чашки на заброшенной детской площадке был последней каплей. Не унижения, нет. Унижение – это инструмент, которым пользуются равные или хотя бы соразмерные противники. То, что делали Они, было за гранью этого понятия. Это было… редактирование. Они не спорили со мной, не наказывали, не ломали. Они просто откатывали мои действия назад, словно я был опечаткой в великом тексте, которую лениво поправил невидимый редактор. И в этом акте их всемогущества я нашел не отчаяние, а ключ.
Если они могут отменить реальность, значит, я, своим бунтом, своим отказом играть, заставил их эту реальность изменить. Я воздействовал на них. Мое «нет» обладало достаточной силой, чтобы заставить богов двигать фигуры на доске. А если так, то оборона – удел слабых. Моя единственная стратегия – тотальное, безоговорочное наступление. Я должен был нанести удар не по их марионеткам за стеной, не по их ментальным проекциям. Я должен был ударить по самой ткани мира, который они считали своим. Заявить свои права. Не просить, не требовать, а взять.
И было лишь одно место, где это можно было сделать. Место моего рождения, моя Голгофа и мой Вифлеем в одном лице. Кафе «Химера».
Дорога туда была преображением. Я шел по тем же улицам, что и несколько месяцев назад, но это был путь не изгнанника, а монарха, возвращающегося в свою столицу. Мир больше не казался мне враждебной, чужой средой. Он был моим холстом, еще не тронутым кистью, моей глиной, ждущей рук ваятеля. Я смотрел на спешащих прохожих, на их серые, озабоченные лица, и во мне не было ни злости, ни презрения. Лишь холодное, отстраненное чувство собственника. Они были моими. Все они. Просто они еще не знали об этом. Я видел, как старушка уронила авоську, и яблоки, маленькие красные планеты, покатились по асфальту. На мгновение я ощутил искушение остановить их полет силой мысли, заставить их замереть в воздухе, а потом плавно собраться обратно в сетку. Но нет. Это было мелко. Это была бы фокусничество, а я готовил таинство.
Дверь «Химеры» скрипнула с тем же застарелым мучением, что и в первый раз. Тот же запах прогорклого масла, кислого пива и чего-то неопределенно-сладкого, похожего на запах тления. Та же полутьма, в которой плавали пылинки, словно споры неведомой жизни. Та же хозяйка за стойкой, с лицом, похожим на печеное яблоко. Все было тем же. Кроме меня.
Я прошел в центр зала, ощущая на себе взгляды. Несколько студентов за угловым столиком, мужчина в рабочей спецовке, поглощающий беляш, две женщины средних лет с тоскливыми глазами. Все они были здесь, в моем храме, в моем театре. Я сел за тот самый столик, где когда-то сидел, униженный голодом. Сел не как проситель, а как судья. Я не смотрел по сторонам. Я закрыл глаза.
Внутри меня начала концентрироваться Сила. Раньше она была для меня чем-то внешним, инструментом, который я брал в руки с опаской. Теперь я понял – она и была мной. Не моя воля двигала мир, а я сам был этой волей, облеченной в хрупкую оболочку из плоти и костей. Я перестал быть Павлом, бывшим философом. Я был чистым намерением. Абсолютом.
Я чувствовал, как нити, связывающие меня с каждым объектом и каждым существом в этом зале, натягиваются. Вот ложка в руке рабочего – я ощущал ее холодный вес. Вот смех студентки – я чувствовал вибрацию ее голосовых связок. Вот тиканье настенных часов – я был этим маятником, отмеряющим мгновения моей вечности. Все сущее в этом маленьком, грязном мирке было продолжением моего сознания.
Они, мои тюремщики за стеной, наверняка наблюдали. Я чувствовал их внимание, как тончайшее давление на затылок. Пусть. Пусть смотрят. Это представление было и для них тоже. Это был мой ультиматум. Я не просто хотел поесть. Я хотел, чтобы они признали меня. Чтобы мир признал меня.
Я собрал всю свою мощь, всю накопленную за месяцы унижений ярость, всю философскую уверенность в своем праве. Я превратил ее в один-единственный, кристально чистый приказ. Не мысль, не слово. Это была сама суть повеления, изначальный импульс, который должен был предшествовать любому «Да будет свет». Он был прост и абсолютен.
«Падите ниц».
Я вложил в этот приказ всё. Образ коленопреклоненных людей, их лиц, искаженных благоговейным ужасом. Звук стука коленей о грязный линолеум. Тишину, наполненную лишь моим невысказанным присутствием. Я выпустил эту волну из себя, ожидая, что она, как цунами, сметет хрупкую реальность этого кафе. Я открыл глаза, готовый принять свою новую роль.
Ничего.
Абсолютно. Ничего.
Студенты продолжали смеяться над какой-то шуткой. Рабочий с чавканьем откусил еще кусок беляша. Хозяйка лениво протирала стойку тряпкой, оставляя на ней влажные разводы. Часы на стене издали глухой щелчок, и минутная стрелка перескочила на следующее деление. Мир не просто проигнорировал меня. Он меня не заметил. Меня не было.
Первой реакцией было недоумение. Словно я нажал на выключатель, а свет не зажегся. Проверил проводку, лампочку. Может, я недостаточно сконцентрировался? Может, мой приказ был слишком сложен? Я снова закрыл глаза. Теперь во мне уже не было холодного величия. Внутри поднималась горячая, злая паника. Я попробовал снова, вливая в приказ отчаяние и ярость. Я кричал внутри своей головы, я бился о стены чужого сознания, я требовал, умолял, приказывал.
«Услышьте меня! Я здесь! Я ваш Бог!»
Я чувствовал, как пот стекает по вискам. Сердце колотилось о ребра, как пойманная птица. Я вливал в мир свою волю, пока в голове не начало гудеть от напряжения, пока перед глазами не поплыли черные пятна. Я выжал себя до последней капли. И снова открыл глаза.
Результат был тот же. Вернее, его не было. Полное, тотальное, оглушительное отсутствие результата. Женщины за соседним столиком обсуждали новый сериал. За окном проехала машина, обдав стекло грязными брызгами. Реальность была непробиваемой. Она была глухой стеной, о которую вдребезги разбился мой божественный замысел.
И тогда недоумение сменилось ужасом. Но не тем ужасом, что я испытывал раньше. Это был новый, метафизический холод. Я вдруг понял. Это их новый ход. Это их самая страшная пытка. Они не стали мне сопротивляться. Они не стали превращать мою волю в жареную печень. Они просто… отключили меня. Отняли у меня Силу. Они перерезали те нити, что связывали меня с миром. Они оставили меня в теле Павла, но вырвали из него Бога. Я стал фантомом в своей собственной вселенной. Призраком, который кричит, но его никто не слышит.
Паника начала затапливать меня. Воздух в кафе стал густым и вязким, я не мог вздохнуть. Звуки – смех, звон посуды, гул улицы – стали невыносимо громкими, они впивались в мой мозг, как раскаленные иглы. Лица людей потеряли свои черты и превратились в гротескные, жующие, говорящие маски. Я больше не был их творцом, я был для них никем. Пустым местом. Я смотрел на свои руки, лежащие на столе. Они дрожали. Это были просто руки. Куски мяса и костей, неспособные ни на что. Я был заперт. Заперт в этом ничтожном теле, в этом ничтожном кафе, в этом оглушительно равнодушном мире. Я был богом, которого свергли с небес и бросили в самую глубокую, самую темную яму – в реальность.
Я вскочил, опрокинув стул. Грохот заставил несколько человек обернуться. В их взглядах не было ни страха, ни благоговения. Лишь легкое раздражение. Как на пьяного или сумасшедшего. Я хотел закричать, разбить что-нибудь, доказать им, доказать себе, что я еще существую, что я еще могу влиять хоть на что-то. Но я не мог. Меня парализовал этот ледяной вакуум, в котором я оказался. Я был бессилен.
В этот момент, на самом дне моего падения, когда мир вокруг меня превратился в бессмысленный калейдоскоп боли и страха, я услышал тихий, спокойный звук. Скрип стула, который кто-то придвинул к моему столу.
Я медленно поднял глаза.
Напротив меня сидел он. Старик. Тот самый, из первого дня. В тех же старомодных очках в роговой оправе, в том же потертом пиджаке. Он смотрел на меня не с жалостью и не с насмешкой. Его взгляд был спокойным и внимательным, как у энтомолога, наблюдающего за поведением редкого насекомого, которое наконец-то перестало биться о стекло и замерло в изнеможении.
Он чуть заметно улыбнулся уголками губ и, не обращая внимания на мой шок, поднял два пальца, подзывая хозяйку.
– Будьте добры, два чая. С лимоном. И что-нибудь к чаю. На ваш вкус.
Его голос был тихим, но хозяйка, которая только что смотрела на меня с неприязнью, тут же встрепенулась и с готовностью кивнула. Мир, который был для меня глухой стеной, для него был послушен и отзывчив.
Он снова повернулся ко мне. Тиканье часов на стене казалось единственным звуком в застывшей вселенной. Он снял очки, протер их белоснежным платком, снова надел и, посмотрев мне прямо в глаза, произнес так тихо, что его мог услышать только я:
– Громко вы кричали, Павел. Прямо в душу каждому. Как набат. Вот только колокол оказался без языка.
Я молчал, не в силах вымолвить ни слова. Мой разум, только что пытавшийся объять всю вселенную, теперь не мог связать и двух мыслей. Кто он? Помощник? Один из Них? Новый мучитель?