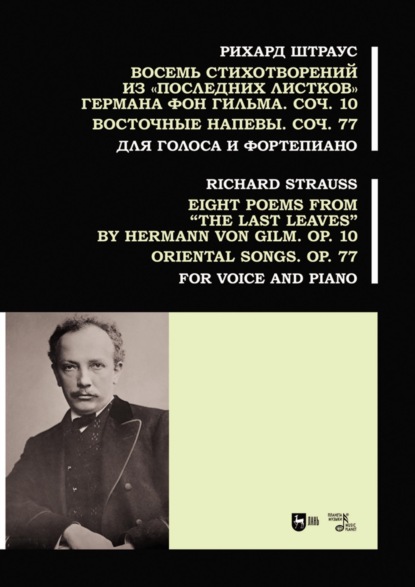Побег из Салалы. 2025

- -
- 100%
- +
продаже сувениров. Отношения? Игра в одни ворота. Мужчина —
мяч. Его пинают, пока он не сдуется. А потом покупают новый.
Надувной. Удобнее.
– Пессимист, – усмехнулся Розовый. Но усмешка была кривой. —
А Рио и Рита? Они же… держатся.
– Держатся? – Синий Пес резко остановился, его пластиковый
корпус дрожал. – Они держатся на нитках! На нитках привычки и
страха! Он – деревяшка. Она – тряпка. Какая любовь? Какая
психология? Они играют роли, как мы на фестивале! Только их
сцена – вся жизнь. И режиссер тот же – Корсар Судьбы. Он дергает
за ниточки, а они пляшут под барабаны отчаяния!
Песок под лапами был не мягким. Каждая зернинка —
микроскопический нож, впивающийся в стертые подушечки
синтетических лап. Рассветный воздух Салалы, воспеваемый
туристами как «наркотик чистоты», был для них химическим
коктейлем: хлор от бассейнов отелей, прогорклый жир с жаровен
уличных лотков, сладковатый гнильцой аромат манго, упавших и
раздавленных в темноте. Они бежали не сквозь пейзаж, а по его
коже, ощущая каждую пору, каждую складку гниющего рая.
– Ты говоришь о женщинах как о пальмах, – заговорил Розовый
Пёс, его голос – скрип пересохшего шарнира. – Но ты забываешь
о корнях. О том, что вьется под землей, невидимое, пожирающее.
Любовь… – он споткнулся о полузасыпанную пивную банку, —
…разве не та же невидимая гифа? Она оплетает мозг, высасывает
соки, оставляет пустоту в форме другого человека. Запах её – не
роза. Это запах влажной земли в цветочном горшке, где что-то
умерло.
Синий Пёс резко остановился, его пластиковая грудь ходуном
ходила от усилия, которого не было.
– Запах? – он фыркнул, выпуская струйку теплого воздуха, пахнущую пылью и старым клеем. – Женский запах? Это сложная
дуэль химикатов. Дезодорант «Цветущий Лотос», брендовый, дорогой, маскирующий истинный аромат – пот стресса, едва
уловимую кислинку страха перед возрастом, сладковатую ноту
неудовлетворенности. И под этим – базовый фон: кожа. Но не
чистая. Кожа, пропитанная микропластиком из воды, остатками
гормональных кремов, молекулами стресса, выделяемыми с
потом. Это не аромат. Это отчет о состоянии. Как у нас – запах
перегретого мотора и пыли. Они пахнут своей жизнью, как мы —
своей смертью. Где тут место для любви? Это химическая война, замаскированная под парфюмерию.
Они побежали снова, вдоль кромки воды, где волны оставляли
пену, похожую на грязную накипь в чайнике. Розовый Пёс
заговорил, глядя на пару молодоженов, фотографирующихся на
фоне слишком синего моря. Девушка заставляла юношу
переделывать кадр снова и снова.
– Посмотри на них. Ты видишь не любовь. Ты видишь ритуал
подтверждения. Каждый жест – отрепетирован. Улыбка —
рассчитана на определенное количество пикселей. Их
прикосновения… – он всмотрелся, – …лишены спонтанности.
Рука юноши лежит на ее талии не потому, что тянется к ней, а
потому, что так надо для кадра. Она прижимается к нему не от
нежности, а чтобы скрыть тень под подбородком. Их любовь —
это перформанс для внутреннего судьи. Для Корсара в их головах, который кричит: «Улыбнись шире! Держи ее крепче! Имитируй
счастье, иначе – штраф! Штраф в виде одиночества, осуждения, чувства несостоятельности!» Их Салала – наш фестиваль. Только
их костюмы дороже.
Синий Пёс молча бежал несколько минут. Его синтетическая
шерсть слипалась от влажного воздуха.
– Ты слишком добр, – наконец проскрипел он. – Ты даешь им
хоть иллюзию выбора. Перформанс. Но что, если перформанс —
это все, на что они способны? Что если за фасадом нет ничего?
Пустота, как в наших грудных клетках? Никакой «истинной любви»,
ожидающей за кулисами. Только бесконечная череда ролей: невеста, жена, мать, любовница, разведенка, одинокая кошка…
Каждая роль требует нового костюма, нового запаха, новой маски.
Мужчина? Он лишь реквизит. Подставка для фотографии.
Источник дохода или спермы. Или объект для вымещения
накопленной ярости за несостоявшуюся жизнь, которая была
обещана рекламой духов и ромкомами. Любовь – это не чувство.
Это индустрия обслуживания иллюзий. И мы, – он ткнул лапой
себе в грудь, – ее идеальные метафоры. Нас создали для
развлечения. Их чувства созданы для обслуживания сценария под
названием «Нормальная Жизнь».
Глава XVIII: Забвение на Краю Бытия
Они наткнулись на него у камней, где лагуна встречалась с
открытым морем. Поручик Ржевский. Не бежал. Не медитировал.
Лежал плашмя, как выброшенный штормом буй. Рядом валялась
пузатая бутылка дешевого «винишка» – «Каберне Совиньон», судя по этикетке. Запах – кисло-сладкий, как перебродивший
компот, смешивался с соленым бризом и тошнотворным духом
поручика.
– Боже правый, – хрипло пробормотал Ржевский, увидев псов.
Его глаз, мутный, как запотевшее стекло, с трудом сфокусировался.
– Розовый призрак и Синька… Опять на утренний променад?
Искать философский камень в помете чаек? Или женскую верность
в прибое? Ха! Зря стараетесь. Море тут приносит только мусор и
медуз. Как и женщины.
– Мы обсуждали любовь, поручик, – сказал Розовый Пёс, останавливаясь. Песок налипал на его потрескавшиеся лапы.
– Любовь? – Ржевский фыркнул, и запах перегара усилился. —
Ох уж эта психология! Наука для дураков и содержанок! Весь их
Фрейд, Юнг, этот… Карнеги! – он махнул рукой, чуть не опрокинув
бутылку. – Все это ширма! Ширма для одного: женщине нужно
безопасность. Материальная. И статус. Чтоб другие бабы ахнули. А
чувства? Чувства – это инструмент. Как твой розовый мех, песик.
Инструмент для манипуляции. Она говорит: «Я тебя люблю» – и
ждет, что ты ляжешь плашмя, отдашь последнюю рубаху, продашь
почку, лишь бы эта иллюзия держалась. А потом… – он отхлебнул
из горлышка, – …потом она говорит: «Ты изменился» или»Я
разлюбила». А на самом деле – кончились деньги. Или статус
потускнел. Или сосед оказался богаче. Психология? Фи! Это
оправдательная записка для предательства. Научно обоснованная
сволочность.
Синий Пёс подошел ближе. Его пластиковый нос дрогнул от вони.
– А что же тогда… привязанность? Забота? То, что у Рио и Риты?
Ржевский закатил глаза.
– Рио и Рита? Деревяшка и тряпка? Это не любовь, песик. Это
симбиоз отчаяния. Он держится за нее, потому что без ее
тряпичного тела его деревянная рука будет висеть пнем. Она
держится за него, потому что его деревянный каркас —
единственное, что не дает ей рассыпаться в пыль. Это не любовь.
Это механическая необходимость. Как две шестеренки в
сломанных часах, которые все равно крутятся, хоть время давно
остановилось. Забота? Это страх остаться одному с пустотой
внутри. Как вот это… – он потряс бутылкой. – Винишко мое. Оно
не любит меня. Оно меня оглушает. Заботится? Нет. Оно просто
заполняет пустоту. Дешево и сердито. Как женская «любовь», только без истерик и дележа имущества.
Он уставился на горизонт, где море сливалось с небом в ядовито-синюю муть.
– Философия? – он внезапно усмехнулся, обнажив желтые зубы.
– Одна: всё – тлен. Любовь, ненависть, надежда… Всё
превратится в пыль. В песок, по которому вы бегаете. В запах
гниющих медуз. В эту вот… – он пнул пустую банку из-под
энергетика, – …жесть. Бегите, куклы. Бегите. Скрипите своими
суставами. Изображайте жизнь. Это всё, на что мы все годимся.
Изображение. Подделка. Перформанс для равнодушного моря. А
потом… тишина. Без риса. Без винишка. Без любви. Просто…
ржавчина. И пыль.
Он уставился на горизонт, где море сливалось с небом в ядовито-синюю муть.
– Философия? – он внезапно усмехнулся, обнажив желтые зубы.
– Одна: всё – тлен. Любовь, ненависть, надежда… Всё
превратится в пыль. В песок, по которому вы бегаете. В запах
гниющих медуз. В эту вот… – он пнул пустую банку из-под
энергетика, – …жесть. Бегите, куклы. Бегите. Скрипите своими
суставами. Изображайте жизнь. Это всё, на что мы все годимся.
Изображение. Подделка. Перформанс для равнодушного моря. А
потом… тишина. Без риса. Без винишка. Без любви. Просто…
ржавчина. И пыль.
Он откинулся на спину, закрыв глаза лицом к палящему солнцу, словно предлагая себя в жертву абсурду. Его бутылка, полупустая, стояла рядом, как надгробный памятник всем иллюзиям. Псы
молча развернулись и побежали обратно. Их скрип теперь звучал
не похоронным маршем, а бесконечным, монотонным скрежетом
точильного камня, на котором стирались последние надежды.
Запах моря, смешанный с вонью разложения и дешевого вина, преследовал их, как приговор.
Разговор был окончен. Его философия, пропитанная дешевым
вином и вековой усталостью, повисла в воздухе, густая, как смог.
Псы молча бежали дальше. Скрип их каркасов теперь звучал
похоронным маршем по всем иллюзиям о свежем утре, счастье
бега и гармонии мира…
Chanson de Baäl (Pour les Chiens Mécaniques): Из тени пальмы, отбрасывающей косую, как нож, полосу тени, шагнул Мессир Баэль. Он не смотрел на псов. Его пенсне было
направлено на распластанную фигуру Ржевского, но видело, казалось, сквозь него, в самую сердцевину абсурда. Он заговорил.
Не спеша. На чистом, холодном французском. Голос его был похож
на скрип старого патефона, играющего забытый романс.
«Écoutez, chiens de tissu et de rouille, (Слушайте, псы из ткани и ржавчины,)
Votre course est un grincement inutile.
(Ваш бег – бесполезный скрежет.)
Le matin se moque de vos articulations raides, (Утро смеется над вами с вашими туговатыми суставами,) La mer emporte vos pas dans son sable oublieux.
(Море уносит ваши шаги в своем забывчивом песке.)
L’homme ivre rêve de fuite dans la bouteille, (Пьяный человек мечтает о побеге в бутылку,) Sa femme est un mirage dans le désert du vin aigre.
(Его женщина – мираж в пустыне кислого вина.) Il parle d’amour comme d’une balle perdue, (Он говорит о любви, как о потерянной пуле,) Qui blesse toujours celui qui la porte.
(Которая всегда ранит того, кто ее носит.) Vous, les chiens roses et bleus, ombres sans ombre, (Вы, розовые и синие псы, тени без тени,) Vous courez après l’odeur du riz rance.
(Вы бежите за запахом прогорклого риса.) Votre philosophie est cousue de fils cassés, (Ваша философия сшита из порванных ниток,) Et votre bonheur – un aboiement dans le vide.
(А ваше счастье – лай в пустоту.)
Le Corsaire dort dans son wagon-cercueil, (Корсар спит в своем гробу,)
Il rêve de fouets et de paillettes qui aveuglent (Ему снятся плети и ослепляющие блестки.)
Rjevski noie sa logique dans la lie, (Ржевский топит свою логику в осадке,)
Cherchant la femme entre deux gorgées d’illusion.
(Ища женщину между двумя глотками иллюзии.) Et vous? Vous continuez à grincer.
(А вы? Вы продолжаете скрипеть.)
Sur la plage trop large, sous le soleil trop lourd.
(На слишком широком пляже, под слишком тяжелым солнцем.) Car courir, c’est exister un peu plus longtemps, (Ибо бег – это существовать чуть дольше,) Avant de retourner au sac des poupées mortes.
(Прежде чем вернуться в мешок с мертвыми куклами.) C’est tout. La chanson est finie. La mer continue.»
(Вот и все. Песня спета. Море продолжается.)»
Он не стал ждать реакции. Просто повернулся и растворился в
дрожащем от зноя воздухе, как мираж. Оставив после себя лишь
горький привкус французских слов на соленых губах ветра и
бесконечный, равнодушный рев океана, поглощающий и шаги
кукол, и храп пьяного поручика, и саму память об этой утренней
пробежке на краю мира.
Он не растворился. Он испарился, как капля росы на раскаленной
жести крыши. Оставив после себя не эхо, а вакуум, втягивающий в
себя смысл слов, краски пейзажа, даже скрип псов. Только солнце
продолжало бить. Море – лизать камни с равнодушием

гигантского хамелеона. А розовый и синий псы бежали. Бежали
потому, что остановиться значило признать правоту винишка, Баэля и этого бескрайнего, прекрасного, мертвого моря. Скрип их
суставов был единственным ответом на вопрос о любви —
монотонным, вечным, бессмысленным. Как само мироздание.
Глава XIX: Побег сквозь Антифизику
Корсар, ковыряя в носу с философским прищуром, заметил – из
кармана спящего Воронежского Привета торчал уголок записки.
Мятый, с лоснящимися краями, будто побывавший в битве за
существование. Он вытащил ее. Бумага пахла ушной серой и
отчаянием безысходных воскресений. Воронежский Привет, видимо, исчерпав запас ватных палочек, нашел в бумаге
последний инструмент гигиены отчаяния.
Корсар развернул послание, втянув носом квинтэссенцию абсурда, и прочитал с хриплым смешком:
«Забирай этого Воронежского Привета с собой и через сортиры
вылезайте в окно. Оно будет открыто.»
Внизу – нервная приписка:
«Удачи, тварь. Ze luck Тайм!»
Он почесал затылок одной рукой, а другой – интимно скользнул по
месту, где когда-то была совесть. Движения синхронные, отточенные годами практики. Воронежского Привета, полуживого
мешка с хриплым храпом и запахом дешевого самогона, он
взгромоздил на спину. Тот обмяк, как тряпка, пропитанная тоской.
Туалет встретил их зияющим окном. И запахом. Запахом, который
можно было описать только как: сыр козий, заблудившийся в
лабиринте носков почтальона из Богом забытого села после
десятилетней смены. Вонь честная. Вонь Родины. Вонь
экзистенциального дискомфорта, въевшегося в стены.
Чудом, возможно, через дыру в законах термодинамики или по
блату у Хаоса, Корсар протолкнул Воронежского Привета в окно.
Тот исчез во тьме с глухим шлепком. Сам Корсар полез следом. И
застрял. Намеренно. На самой грани свободы и камеры. И там, в
прощальном жесте бунта, в акте эстетического вандализма, он…
выпустил газы. Долго. Громко. С чувством глубокого
удовлетворения от содеянного.
– Случайно, – пробормотал он в темноту, обращаясь к стенам
камеры. – Честное слово. Просто… физиология и гравитация.
Виноват.
Он вылез. Протер глаза той самой рукой, что только что чесала
сомнительные глубины. Ритуал. Снаружи царил «глубокий
утренний абсурд» – не ночь, не день, а серое месиво времени. И
перед ними возвышалось здание. Огромное. В стиле, который
Корсар мгновенно окрестил: «Псевдо-русский сортирный ампир».
Архитектурный шедевр, пропитанный уриновыми амбициями и
мечтами о несостоявшемся величии. Стены цвета застарелого
синяка.
– Зайти бы… – пробормотал Корсар, разглядывая
подозрительные пятна на своих штанах, напоминавшие карту
сокровищ, зарытых на помойке. – По классике жанра. Облегчить
душу.
Он привык считать себя значимым. Казаком лихим, пусть без коня
и с запахом, но – личностью! Реальность же била по морде: всем
было глубоко плевать. Как он оказался в камере – тайна, покрытая
мраком глупее его собственных поступков. От бессилия он дал
леща Воронежскому Привету:
– Подъем, опарыш! Вставай, пока гниль не окончательно съела
мозги!
Воронежский Привет застонал. Звук был неприлично интимным, как скрип койки в ночлежке. Перед ними, за коваными воротами с
прогнившими завитушками, высилась усадьба. Над входом —
вывеска, кричащая вычурным шрифтом:
«СТРАПОНОВА УСАДЬБА»
Цвет стен – специфический. Точный оттенок дешевого латекса
после неосторожного использования. От здания веяло не
благородной стариной, а затхлостью бабушкиного погреба, где на
полках десятилетиями пылятся банки с «Огурцами Разочарования»
и «Грибами Безнадеги». У входа раздавался храп – мощный, хриплый, как у арангутанга, запертого в чулане. И тут
Воронежского Привета прорвало на чихание. Он затрясся, замычал, превращая чих в нечленораздельное ругательство:
– Фа… фуфы… бляфу… апчхииииии!.. Фляяяяя!
– Тише, скотина! – прошипел Корсар, глядя не на него, а на тварь
во дворе. Волосатая свинья восседала в центре навозной кучи, умиротворенная, как Будда в нирване грязи. Ее маленькие глазки
сияли философским принятием мира. Корсар ей позавидовал.
Глава XX: Фестиваль Гнева
Внутри царил хаос, пахнущий потом, пылью и сожженными
нервами. Куклы фестиваля – не на сцене, а в грязном холле
усадьбы. Барабанщицы Алиса и Полина нервно отбивали дробь
по чугунной батарее, их лица были бледны под стертым гримом.
Розовый Пес рычал повернув морду в стену. Синий Пес и Желтый
сидели, обнявшись, в углу – два комка цветного отчаяния.
Калдиночка, та самая кроха с бантом, трясла кулачком в сторону
представительницы Заказчика.
– Йогурты! – визжала Калдиночка, ее голосок звенел, как
треснувший колокольчик. – Воздушные! И поездки веселые! В
парк! На карусели! Как в договоре! Как обещали перед первым
барабанным ударом! Алиса! Поддержи!
Барабанный бой Алисы стал громче, отчаянней. Она била в
невидимый барабан, ее юбка трепалась.
– Легкие! С кусочками персика! И чтоб без комков! – добавила
она, срываясь на крик.
Розовый Пес оторвался от стены. Его голос был скрипом
несмазанной телеги:
– Домой! Нас – домой! В Чехов! В коробку! В темноту! Лишь бы
не этот… этот цирк ужаса! – Он ткнул лапой в сторону Корсара.
Лиза и Полина (барабанщики №1) застучали в такт – тяжело, угрожающе.
Представительница Заказчика стояла неподвижно. Женщина с
лицом, будто высеченным из македонского мрамора – холодным, прекрасным, безжизненным. На бейдже: «Алёна Д. (Косово)». Ее
медово-сливочная улыбка не дрогнула.
– Дорогие артисты, – голос ее тек, как сироп, но с металлической
ноткой на дне. – Йогурты? Бюджет фестиваля… пересмотрен.
Поездки? Логистика невозможна. Домой? Контракт подписан до
конца сезона. Нарушение – штраф. Очень большой штраф. Рис, —
она мягко добавила, – рис будет. Сегодня. С соевым соусом. В
качестве жеста доброй воли.
Корсар взорвался. Не криком – визгом. Высоким, пронзительным, как у загнанной свиньи перед ножом.
– Штраф?! Рис с соевым дерьмом?! – Он затопал ногами, слюна
брызгала изо рта. – Я вас всех! Всем тут заправляю я! Я! Корсар!
Без меня вы – тряпки и щепки! Завтра выступление! И танцевать
будете, как черти на раскаленной сковороде! А кто не сможет —
тому рис! И не с соусом! Сухой! Как песок в почках! Поняли, твари?!
Тишина. Даже барабаны замолчали. Воздух сгустился до состояния
киселя. Куклы смотрели на него стеклянными глазами, в которых
не было страха. Только пустота. И усталость. Усталость длиннее, чем дорога до Салалы.
Эпилог: L’Enfant et la Marionnette (Chanson de Messire Baäl) И тогда открылась дверь в глубине холла. Не скрипнула —
вздохнула. И вошел Мессир Баэль. Не один. За руку он вел
маленькую девочку. Лет четырнадцати. Платьице. Личико —
бледное, с синяками под глазами от недосыпа и вечного страха. В
ее пустых глазах отражались Розовый Пес, визжащий Корсар, мраморная улыбка Алёны из Косово. Она работала на фестивале.
Носила воду. Чистила костюмы. Пряталась от пьяного Корсара. Все
знали. Все молчали.
Корсар замер. Его визг оборвался, как перерезанная гортань. Он
узнал девочку. «Дешевая рабочая сила», – бросал он когда-то.
Баэль подвел ее к центру. Не смотрел на Корсара. Смотрел на
девочку. Потом поднял голову. Его пенсне поймало тусклый свет
из окна, превратившись в две ледяные звезды. Он запел. Голосом, похожим на старый патефон, играющий Джо Дассена на поминках.
На безупречном французском, где каждая фраза – нож в бок
иллюзии.
«Monsieur le Corsaire, marchand de misère, (Месье Корсар, торговец нищетой,)
Votre navire est un cercueil flottant sur l’océan du vide.
(Ваш корабль – гроб, плывущий по океану пустоты.) Vous vendez des rêves en lambeaux aux poupées sans âme, (Вы продаете клочья снов куклам без души,) Et le riz sec est votre monnaie pour les enfants perdus.
(А сухой рис – ваша монета для потерянных детей.) Regardez cette petite: Maria, sept ans de poussière.
(Взгляните на эту малышку: Мария, семь лет пыли.) Ses yeux sont des miroirs vides où dansent vos fantômes ivres.
(Ее глаза – пустые зеркала, где танцуют ваши пьяные призраки.) Elle a nettoyé vos ordures, essuyé vos crachats, (Она убирала ваш мусор, вытирала ваши плевки,) Et son salaire? L’ombre de votre botte sur son rêve envolé.
(А ее зарплата? Тень вашего сапога на ее улетевшей мечте.) Vous parlez de contrats, de spectacles, de gloire éphémère, (Вы говорите о контрактах, шоу, сиюминутной славе,) Mais votre théâtre n’est qu’un cloaque éclairé par des lucioles mortes.
(Но ваш театр – лишь клоака, освещенная мертвыми светлячками.) Les poupées crient pour du yaourt, pour un peu de douceur, (Куклы кричат за йогурт, за каплю нежности,) Et vous leur offrez la menace, le riz amer de la peur.
(А вы дарите им угрозу, горький рис страха.) Écoutez le silence, Corsaire. Il est plus lourd que vos cris.
(Слушайте тишину, Корсар. Она тяжелее ваших криков.) Les poupées ne pleurent plus. Elles regardent Maria.
(Куклы больше не плачут. Они смотрят на Марию.) Et dans leurs yeux de verre, une question est née: (И в их стеклянных глазах родился вопрос:)
«Sommes-nous toutes des Maria dans votre triste comédie?»
(«Все ли мы – Марии в вашей печальной комедии?») Votre temps est fini, marchand de vent et de larmes.
(Ваше время кончено, торговец ветром и слезами.) Le navire-cercueil prend l’eau par tous les bords.
(Корабль-гроб дает течь со всех сторон.) La petite Maria prendra le dernier canot, (Маленькая Мария заберет последнюю шлюпку,) Et vous resterez seul, avec votre sac de riz… et le néant qui mord.»
(А вы останетесь один, с мешком риса… и кусающей Пустотой.»)

(Последние слова Баэль прошептал, уже растворяясь в тени, уводя
за руку Марию. Его пальцы мягко сжали ее маленькую ладонь.
Куклы молча смотрели им вслед. Даже Корсар не издал ни звука.
Только свинья во дворе мирно хрюкнула, уткнувшись рылом в
теплый навоз. В Страпоновой Усадьбе запахло не рисом, а чем-то
другим. Чистым. И страшным. Как первый луч солнца на
развалинах Вавилона.)
Глава XXI Сон корсара
Корсар проснулся… Липкий холодный пот на его лице и дрожащие
кисти рук подтверждали, что все это был только сон…
Мешок на голову Корсара лег с привычной, отвратительной
нежностью. Грубая ткань, пропитанная потом, пылью и чем-то еще
– ароматом безысходности и армейских носков, забродивших в
сапогах за три смены караула. Мир сузился до темноты, звуков
шагов по бетону и собственного хриплого дыхания. Дырка для рта
– акт мнимого милосердия, издевательская вентиляция в этой
тюрьме для души. Его волокли обратно. Не вели – именно
волокли, как тушу после бойни. Корсар позволил телу обмякнуть, сознание же цеплялось за единственный протест: зевоту.
Глубокую, животную, сотрясающую все нутро. То ли от
чудовищной усталости, то ли – бессознательная попытка
проглотить кусок свободы, хоть воздух из этого вонючего
коридора.
Охранник Хайтамов – человек с лицом, напоминающим смятый
кошелек, – наблюдал. Его внутренний шутник, обычно дремавший
под слоем цинизма и водки, вдруг проснулся. Сквозь желтые зубы
просочилось хихиканье, похожее на бульканье засора в раковине.
– «Эти пальцы…» – прошипел он, голосом, полным грязного
восторга, – «…теперь будут здесь!» Ха-ха! Да!
И прежде чем Корсар успел сомкнуть челюсти, два толстых, потных пальца вонзились ему в зевающий рот. Пахли махоркой, луком и чем-то металлическим – страхом или жестью наручников.
Пауза. Время сжалось в точку. Воздух хрустнул, как тонкое стекло.