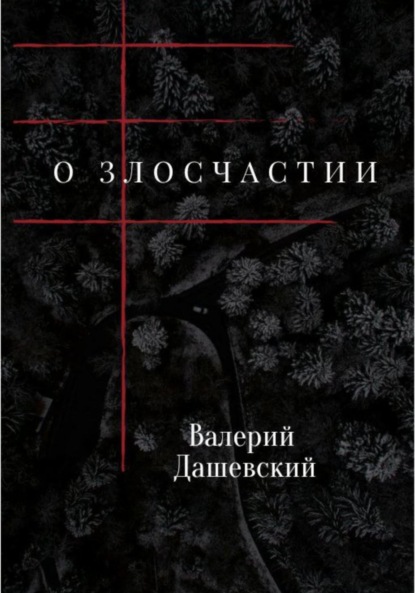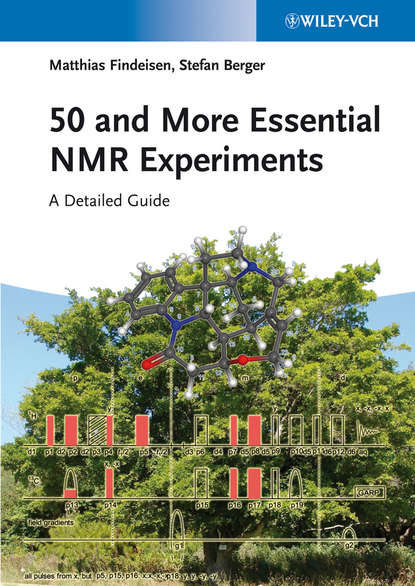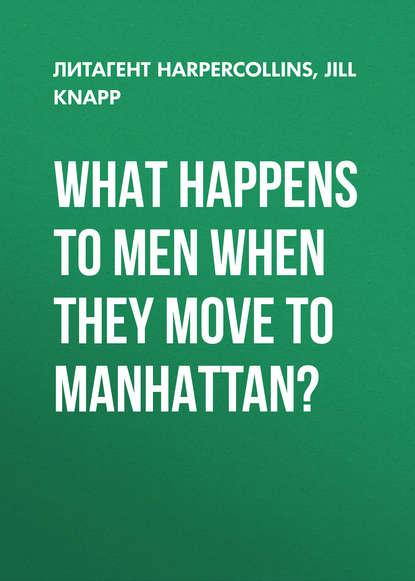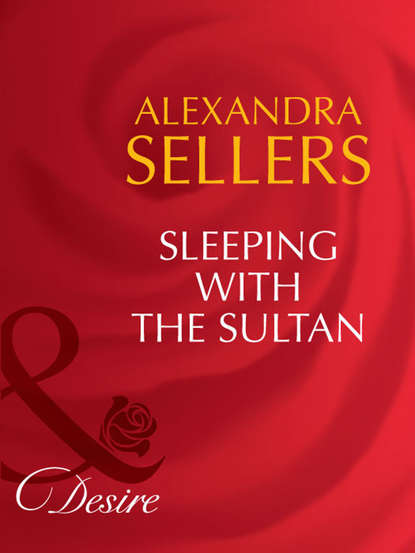- -
- 100%
- +

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ.
Валерий Львович Дашевский – это писатель современный. В 23 года дебютировал в журнале «ЮНОСТЬ» рассказом «Инцидент», затем издал первую книгу в изд-ве «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 100 000 тиражом. В 1980 г. прошел первым номером московское совещание молодых писателей, 7-е Всесоюзное совещание, был рекомендован Секретариатом Правления СП СССР в члены СП СССР. Его рекомендантами были Григорий Бакланов, Владимир Маканин, другие известные писатели, но за отказ сотрудничать с КГБ в Харькове его не приняли.
Тем не менее, окончил Литературный институт (1986 г.), предлагаемые рассказы – как раз того периода, были понемногу опубликованы в разных журналах и проч.
С 1984 г. руководил секцией прозы весьма многочисленного Комитета литераторов при Литфонде СССР, защищая права молодых писателей, работал специальным корреспондентом.
В 1989 году Валерий Дашевский создал первое по сути Всесоюзное общественно-политическое обозрение "ОРИЕНТИР ДиП"(Харьков-Москва), в редколлегию которого вошли Е. Евтушенко, видные депутаты ВС СССР, Вице-президент Украины. Он создал независимое информационное агентство "ХАРЬКОВ-НОВОСТИ" ("УРСИ") при АПН СССР, работавшее на 16 посольств ключевых стран мира, руководил конверсионными проектами, был в США – в Пентагоне, Сенате, Конгрессе, сопровождал выборы Президента Л. Кравчука в Украине, Президента Б. Ельцина в Москве, награжден его персональной благодарностью. В СМИ был загранпредставителем АПН в Украине, Генеральным менеджером РТВ-Пресс РФ, Генеральным менеджером медиа-проектов Союза экспортеров энергии РФ, менеджером журнала «ОГОНЕК». Руководил в Украине проектом национального издания и тремя проектами, поддерживаемыми Всемирным Банком.
Специалист Минфина РФ 1 категории по ценным бумагам и фондовому рынку.
С 1996 г. топ-менеджер в строительно-инвестиционном бизнесе (девелопмент) в Москве.
С 2012 года живет в Израиле. Печатается в США, Канаде и Израиле.
Член Международного Пен-Клуба.
Валерий Дашевский
О ЗЛОСЧАСТИИ
«…Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши».
Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена.
Кто между ними предсказал это?
пусть возвестят, что было от начала;
пусть представят свидетелей от себя и оправдаются…
Книга пророка Исаии, Глава 43, стихи 8-28
«Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок,
один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь
как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена
как некоторый сложный поступок: я поступаю всей своей жизнью,
каждый отдельный акт и переживание есть момент
моей жизни-поступления»
М. М. Бахтин
К философии поступка
Жизнь как лето коротка,
Видишь?
Александр Городницкий.
I.
В «Тропике Рака» Генри Миллера друзья-писатели вдохновенно обсуждают идею Книги – книги-эпохи, Новой Библии или Последней Книги. Все, кому есть, что сказать, выскажутся в ней анонимно; после нее – после них – не будет никаких новых книг по крайней мере целое поколение, а содержания хватит на фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Парижским утром по пути на почту эта Последняя Книга представляется друзьям «живительной влагой», бомбой, которая взорвет мир. В ней, таким образом, реализуется идея Всеединства – органического единства мирового бытия, взаимопроникновений его элементов при сохранении их индивидуальности – историй, драм и судеб и, в конечном счете, категорий бытия1. И, стало быть, снимутся проблемы правды и правдоподобия, авторов и героев, Всеобщность будет достигнута, Книга станет событием Бытия или бытием-событием, незавершающимся диалогом, реальность воплотится в эстетическом Бахтина, мифологическое время обновится и возникнет заново. У Ясперса «Всеобъемлющее» (Umgreifende) – главная категория философии, цель Umgreifende – объединить в неразрывное целое мир и человека, материально-предметное и духовное. Umgreifende – это либо бытие в себе, которым мы охвачены, либо бытие, которое и есть мы, бытие же, охватывающее нас, называется миром и транценденцией, бытие, которое есть мы, – наличным бытием, сознанием вообще, духом, экзистенцией. Объяснение того, что такое Umgreifende и есть ясперовская онтология мира и человека, аналитическое выявление многообразия оттенков бытия и его единства, воплощающихся в Книге.
Говоря о Карлейле в «Предисловиях» Борхес упоминает его идею Книги: «При всем натиске стиля и множестве гипербол и метафор книга «О героях и почитании героев» развивает свое понимание истории. Карлейль не раз возвращался к этой теме. В 1830 году он провозгласил, что история как наука невозможна, поскольку всякий факт – наследник всех предыдущих и частичная, но неустранимая причина всех последующих, а потому «повествование однолинейно, тогда как событие многомерно», в 1833-м – заявил, что всемирная история – это Священное Писание , «которое читает и пишет каждый и в которое каждый вписан сам».
Борхес не раз возвращается к идее Книги, размышляя о mise en abyme или рекурсии2 – рассказ в рассказе, сон во сне, спектакль в спектакле могут множится до бесконечности, становясь синоним Всеобъемлющего, впрочем, в иных случаях ей не достает глубины, как это следует из его замечания о «Тысячи одной ночи» – о том, что в ней первоначальный рассказ неоднократно и до головокружения удваивается в разбегающихся от него рассказах, разные эти реальности не соподчинены друг другу, почему и производимое ими впечатление, задуманное глубоким, остается поверхностным «на манер персидского ковра ».
Хрестоматийный пример рекурсии – Книга о семи мудрецах или Синдбадова книга, она же Синдбаднаме, либо книга Синтипа – общее название для вариантов странствующей обрамлённой повести, известной во многих литературах. Общим для всех вариантов является рамочный сюжет: юный царевич (князь, принц), оклеветанный мачехой или наложницей отца, приговорён к казни, которая откладывается из-за поучительных и эмблематических рассказов семи или десяти мудрых советников царя, подобно «Тысяче и одной ночи». Истории повествуют ο женской хитрости, обрамление – вид композиции при котором одна или несколько новелл, сказок, басен, притч объединяются включением их в самостоятельную фабульную или нефабульную рамку. В цикловом обрамлении налицо более или менее механическое соединение самостоятельных повествований, включение которых в обрамление обычно мотивируется беседой или спором действующих лиц обрамляющей повести или ссылками автора рамки на те или иные случаи. Техника циклового обрамления, как известно, представлена уже в литературах древнего и средневекового Востока (Индии, Персии, Аравии) и античного Запада и, достигая в них высокого совершенства и посредством переводов и подражаний, переходит в литературы новой Европы. Так соединяются две традиции циклового обрамления: идущая с Востока техника обрамляющей повести с более или менее сильной насыщенностью дидактизмом и идущая от античности техника включения повествовательных иллюстраций в форму ораторской речи и беседы – в обрамленных беседами действующих лиц сборниках новелл Возрождения («Декамерон» Бокаччо, «Гептамерон» Маргариты Наваррской, «Кентерберийские рассказы» Чосера); обе техники органически сливаются, преодолевая в значительной мере механический характер связи обрамления с новеллистическими вставками.
От Салье3 мы узнаем, что первые письменные сведения об арабском собрании сказок, обрамлённых повестью о Шахрияре и Шахразаде и называвшемся «Тысяча ночей» или «Тысяча одна ночь», упоминаются в сочинениях багдадских писателей X века – историка аль-Масуди и библиографа ан-Надима. Оба писали о сборнике, как о давно и хорошо известном произведении. Основой текста «Ночей» на арабской почве стал сделанный в VIII веке перевод персидского сборника «Хезар Афсане» (Hezâr Afsân(e) «Тысяча историй», «Тысяча сказок» или «Тысяча легенд», от персидских слов «Хезар» – «тысяча», «Афсане» – «сказка, легенда». Перевод этот под названием «Тысяча ночей» или «Тысяча одна ночь», был, как свидетельствуют арабские писатели того времени, очень популярным в столице восточного халифата, в Багдаде. Судить о характере его невозможно, так как до нас дошёл лишь обрамляющий его рассказ, совпадающий с рамкой «Тысячи и одной ночи». В эту удобную рамку вставлялись в разное время различные рассказы, иногда – целые циклы рассказов, в свою очередь обрамлённые, как например «Сказка о горбуне», «Носильщик и три девушки» и другие. Отдельные сказки сборника, до включения их в писанный текст, существовали часто самостоятельно, иногда в более распространённой форме. Можно с большим основанием предполагать, что первыми редакторами текста сказок были профессиональные рассказчики, заимствовавшие свой материал прямо из устных источников – под диктовку рассказчиков сказки записывались книгопродавцами, стремившимися удовлетворить спрос на рукописи «Тысячи и одной ночи». Сам Салье пишет в предисловии ко второму исправленному восьмитомному изданию 1958—1960 годов собственного перевода: «Первыми поставщиками материала для них были профессиональные народные сказители, рассказы которых первоначально записывались под диктовку с почти стенографической точностью, без всякой литературной обработки».
На разыскания такого рода меня сподвитает некто Армен Авазов и его престранная просьба – прочитать и разобрать рукопись книги, которую он не намерен издавать. Солнечным утром в израильском кафе на взморье нас знакомит общий друг, оба в прошлом спецназовцы Армии обороны Израиля. Книга Армена – истории, якобы случившиеся с ним, их он намерен рассказывать в транспорте и в общественных местах. Он не доверяет ни издательскому процессу, – книги расходятся невесть кому и куда, – ни книге печатной, ни истине в искусстве, ни художественной правде. Не то, чтобы он не верит в литературу, как в воплощенную реальность, но, подобно Бахтину, делит произведение на эстетический объект и чувственную материальную данность. Он полагает, что viva vox alit plenius4 . Мы пускаемся в спор о правде и правдоподобии (помню Хэмингуэевское признание, что по-настоящему трудно создать нечто действительно правдивое, более правдивое, чем сама правда) и, разумеется, остаемся каждый при своем мнении. Что определенно не сулит продолжения знакомства. Ясно, что наша дискуссия бессмысленна, раз я не видел рукописи и, к тому же, не вполне понимаю, чего, собственно, от меня ждут. Армен обещает прислать рукопись по электронной почте., и к вечеру я получаю ее с припиской следующего содержания: «Добрый вечер, хотел еще раз озвучить основные моменты: 1. Текст без конечной редактуры 2. Все истории произошли в действительности. В предисловии будет написано, что я готов пройти проверку на детекторе лжи. 3. Простой язык и упрощенный стиль повествования использованы намеренно, исходя из следующих соображений:– создать ощущение пересказа «байки» из личного опыта- Более широкая аудитория- возможность читать где угодно, включая общественный транспорт 4. Название не окончательное 5. Псевдонима еще нет. Буду рад услышать соображения по поводу текстов и наиболее откровенной форме.».
Все это представляется мне в высшей степени странным – и само знакомство и повод к нему. Черновики не дают для прочтения из этических соображений, предисловий не пишут к книгам, которые не собираются издавать и о готовности к проверке на детекторе лжи не заявляют, дабы не дать повод усомниться в собственной честности и в том, что происшествие имело место. «Бывальщина», как известно, требовала историй, рассказанных участником, подлинности происшествий мест действия, известных рассказчику и слушателям, дабы не оставлять ни малейших сомнений в правдивости, Жанр требовал , чтобы герои сталкивались со сверхъестественным, непостижимым или метафизическим, с вмешательства судьбы в людские дела, словом, того, чему мы не находим объяснений. В Арменовых историях на первый взгляд не было ничего подобного. Не думаю, что Армен ожидал от меня точного определения жанровой разновидности его историй. Так называемые «бывальщины» или устные сказы – разновидности несказочной народной прозы – были широко распространены в Советской России, «охватывали различные стороны жизни и быта не всего народа, а отдельной личности, семьи, рода или другой общности людей», примеры : «Пуговка», «Как я в колхоз вступал», «Мы строили Магнитогорск», «Как тетка Авдотья фашиста поймала» etc . По мнению И. С. Веселовой5 к современному устному рассказу можно было отнести «случаи, смешные истории, семейные предания, байки о знакомых, рассказы о необъяснимых происшествиях, пересказы и толкования снов, чудеса, слухи, толки и даже сплетни». Именно байки о знакомых определяли содержание Арменовой Книги, повествовательные иллюстрации-шаржи с водевильными евреями завершали каждую, из чего можно было заключить, что Книгу все же готовили к изданию. Рабочее ее название было «История одного израильтянина». Место читателя занимал слушатель и, таким образом, в «рамке» или обрамляющей повести не было нужны.
Я берусь за чтение без особой охоты. Меня оставляют равнодушным истории молодоженов – мужа, ревнующего к пауку, парня, спасшегося от расправы арабов тем, что в юности не решился на брит, рассуждения проститутки о квантовой теории, как возможности получать плату с клиентов в параллельных мирах, однако, история под названием «Студенческий Амур» заставляет перечитать ее трижды6. Это история парня, пустившегося на поиски любовных приключений и старика, которому не поверили. Жанр ее трагикомедия, своеобычная в еврейской литературе7, злосчастье – оттенок бытия. По сути, это новелла, главное в ней событие и нравы. Она могла бы быть приукрашена couleur locale8, дабы под сомнение не ставились некоторые детали, коль скоро речь в ней о стране, где мусор и обноски выбрасываются на улицы, окна используют вместо дверей , вставляя в них мебель подъёмниками за неимением грузовых лифтов. а столовое белье не в ходу.
История, представляется обманчиво простой. Место действия в ней – женское общежитие при больнице «Бейлинсон» в Петах-Тикве, ныне огромном медицинском центре, столетие назад основанном еврейским врачом из Одессы. Время действия – израильская ночь. Дело происходит лет пятнадцать-двадцать лет назад: вдоль стены здания проведена труба с пожарной лестницей, чего давно нет в израильских домах, повествование организует хронотоп окна – оконного пространства, обычного в любовной лирике Серебряного века. Вокруг него выстраиваются события и действуют герои. В литературной традиции окна ведут в будуары и в опочивальни, это ведет в женский туалет на четвертом этаже. Парни взбираются в него по трубе, чтобы остаться в общежитии на ночь, иного способа пробраться внутрь после одиннадцати нет. Таково водевильное начало истории. Армена приглашают в общежитие на день рожденья , Миша, приятель, набивается к нему в компанию. Это полный, стеснительный парень, мечтающий познакомиться с девушкой. По снисходительно-покровительственному тону, с каким о нем отзывается Армен, ясно, что Миша растяпа и обуза. Затея изначально выглядит сомнительной. Окна в израильские служебные помещения чуть больше бойниц. Армен влезает первым, чтобы помочь приятелю, но как ни старается втащить его, тому удается протиснуться лишь до половины. Армен порывается пойти за подмогой, но Миша отказывается наотрез из боязни быть окончательно оконфуженным и уверяет, что в конце концов влезет сам. Армен отправляется веселиться. Оба не подумали, как Мише выбраться обратно. Армен вспоминает о приятеле, заслышав женский крик со стороны туалета. Оля, медсестра, застает в туалете мужчину и кричит на весь этаж, примчавшиеся парни застают немую сцену. Девушку успокаивают, доходчиво объясняя, как попадают к ним в комнаты, подробности перемежаются с остротами. И воцаряется атмосфера веселья и естественности. Слух о растяпе, застрявшем в туалетном окне облетает общежитие. Поглазеть и позабавиться поднимаются на этаж все, кто не спят, освоившийся Миша заговаривает с девушками, просит сигарету, словом, ведет себя comme il faut. Все находят ситуацию презабавной. И, когда час или два спустя Армен с приятелями возвращаются еще раз, перед Мишей разложено на табуретах угощение: сигареты, водка в стаканчиках, а к ней соки в пакетиках, чипсы, колбасные нарезки– то, чем медсестры перебиваются по ночам, сам он навеселе, болтает с тремя девицами, явно чувствуя себя на седьмом небе. Туалет превращен в салон наподобие сercle9, а когда Армен предупреждает приятеля, чтоб тот не напивался или его не вытащить, слышит в ответ, что тот вовсе не намерен уходить. Он успел перезнакомиться со столькими девушками, что не запоминает имен, с ним заигрывают, пусть полушутя, он опьянел, голова у него идет кругом, жизнь, о которой он мечтал, только начинается – но крики старика-охранника кладут этому конец. Ноги парня свешиваются наружу и старик-охранник замечает их при обходе.
Стоит беззвездная израильская ночь. Свет уличного фонаря едва освещает верхние этажи, снизу толком ничего не разглядеть, старик-охранник зовет полицию, вопит, что будет стрелять, но у него нет при себе ни пистолета, ни телефона. Оба пускаются бежать: старик-охранник – вокруг здания, к себе за конторку, Армен – в туалет этажом ниже, чтобы вылезти в такое же окно и помочь Мише протиснуться внутрь. Девчонки, которых отрядили следить за стариком, кричат снизу, что он достал из сейфа пистолет и дозвонился в полицию, и Армен не придумывает ничего лучше, чем стащить с Миши кроссовки и щекотать ему ступни. Тот болтает ногами, орет, хохочет – и протискивается в злополучное окно. Взобравшийся следом Армен роняет одну кроссовку, ее-то и подбирает запыхавшийся и взбешенный старик.
С кроссовкой в руках он стоит, освещаемый фарами подъехавшей полицейской машины. Это его 15 Minutes10. Несколько мгновений он стоит так, исполненный торжества, сознания выполненного долга, ожидая, что полицейские начнут облаву и изловят наглеца. Однако полицейские не торопятся. Кроме красного спортивного башмака у старика-охранника нет доказательств опасного проникновения. Бедняга чувствует, что смешон с этим большущим башмаком в руках. Трясясь от ярости, под хохот студенток, высыпавших из общежития, он втолковывает полицейским, что в здании вор или террорист, но полицейские переглядываются. По лицам студенток они поняли, что девчонки прекрасно знают, кто к ним влез. Парень забрался в общежитие к медсестрам, эка невидаль. Старший наряда оценивающе смотрит на окно четвертого этажа, на трубу с пожарной лестницей, потом – на огромную кроссовку, делает вид, что раздумывает, входя в роль и выдерживая драматическую паузу. – Ты прав, – говорит он наконец просиявшему охраннику. – Поздравляю! Ты только что видел Спайдермена, Человека-Паука! Везет же тебе! -И помахав девчонкам, под общий хохот усаживается с остальными в машину.
У это истории на мой взгляд два финала.
Армен описывает дальнейшее в эпилоге так: «Красный кроссовок еще долго стоял возле стойки охранника. Он больше не смотрел людям в лица. Его интересовали только ноги. То ли он ожидал увидеть мужчину в одной красной кроссовке на левую ногу и в кирзовом сапоге на правую, то ли искал свою Золушку. Продолжалось это достаточно долго. К Мише, естественно, прицепилась кличка «Золушка». А вот охранник своей Золушки не дождался. Наверное, потому что его смена заканчивалась в одиннадцать часов вечера, а ждать до двенадцати он был не готов».
Мне же конец этой истории представляется иным.
Полицейская машина отъезжает, на место возвращается ночь. Никто не расходится. Старик-охранник возвращается к себе в конторку, как оплеванный. Сопровождаемый насмешками, он ставит кроссовку на тумбу, где она будет стоять в последующие дни символом его унижения – и тень Акакия Акакиевича Башмачкина вырастает у него за спиной. Отныне он просто старый дуралей, притча во языцех. Местная достопримечательность. Таков ярлык, которым он отмечен. Это бесчестье, символическая смерть. И в таком случае это рассказ об утрате счастья, а унижение, которому подверг старика-охранника полицейский развернутая метафора. По Лотману поступок полицейского – событие рассказа, перемещающее беднягу резким и неожиданным смещением через границу семантического поля. Событие расслаивается на две формы: непредсказуемость (случайность) и предсказуемость (необходимость, ожидание повторения), форма явления событийна, если она выражает себя благодаря непредсказуемости. Событие событийно в случайности проявления. Событием является лишь то, что произошло, хотя могло произойти с ничтожной долей вероятности. Чем меньше вероятность того, что данное происшествие может иметь место, тем большую оно приобретает сюжетную силу и заряд. Старик-охранник должен был быть поощрен за бдительность, но опозорен. На Башмачкина орут и топают ногами, старика-охранника поднимают на смех. Башмачкин стал признаком, охранник посмешищем. Первопричина в обоих случаях служба, долг как провинность, вина , содержание и смысл жизни, выявившийся в ее непонимании. Старика-охранника губит добросовестность. Переживающий бесчестье (неверие, осмеяние), он жертва несправедливости, наказан внезапно, безвинно и публично. Он опозорен, элиминирован. Девицы общежития отныне не принимают его всерьез, он более не воплощение порядка и строгих правил, просто забавный неопрятный старик в несвежей белой рубахе, черных брюках, с пистолетом на боку и связкой ключей на карабине. Он не смотрит людям в глаза, потому что стыдится, обреченный размышлять о своем злосчастье.
Злосчастье таким образом воплотилось в старике-охраннике, оно теперь его судьба. По Сартру образ лишь имя для определенного способа осознания. И в таком случае утверждение, что то, что событийно для текста, необязательно событийно для наблюдателя (читателя), безусловно, заблуждение. Размышляя о «Тысяче и одной ночи», Борхес замечает: «Всем известна обрамляющая история всего цикла: клятва, данная в гневе царем, проводящим каждую ночь с новой девственницей, которую на рассвете он велит обезглавить, и замысел Шахразады, развлекающей его сказками, пока не пройдет тысяча и одна ночь, – и тогда она показывает царю его сына. Необходимость заполнить тысячу один раздел заставила переписчиков делать всевозможные интерполяции. Однако ни одна из них так не задевает за живое, как сказка ночи DCII, самой магической среди всех ночей. В эту ночь царь слышит из уст царицы свою собственную историю. Он слышит начало истории, включающей в себя все остальные, а также – и это уже просто невероятно – про самого себя». Борхес наделяет сакральным смыслом сюжет, чего явно не имел в виду составитель , и смысл Книги становится иным, обнаруживается глубина, многомерность.
Со мной происходит то же самое.
По М. М. Бахтину произведение есть отрезок бытия: «Только изнутри моей участности может быть понято бытие, как событие. Утвердить факт своей единственной незаменимой причастности бытию – значит войти в бытие именно там, где оно не равно самому себе – в событие бытия», искусство слова возникает как своеобразный аналог этого события бытия, ведь «содержание произведения – это как бы отрезок единого открытого события бытия, изолированный и освобожденный формою от ответственности перед будущим события и потому в своем целом самодовлеюще-спокойный, завершенный…», завершение, стало быть, представляет собой такое извлечение некоего фрагмента из события бытия, его оформление как целого, а затем переведение его в бытие вновь создаваемое, в бытие эстетического объекта, подлинное же бытие – это событие, превосходящее себя бытие сущего11, ибо реальность не есть сама по себе, но происходит со мной, деятельно становящимся собой.
Есть лишь то, что происходит, сбывается благодаря поступающему участию, в данном случае, моему. Мое поступающее участие делает книгу Армена Книгой. Событие конституировано12 поступком, единственной формой подлинного участия человека в бытии сущего. Участный поступок – мое вживание в предметность мира. Бытие умножается моим поступающим участием, поступком-мыслью, и поступком-чувством, поступком-делом, со-бытием: «осуществляется нечто, чего не было ни в предмете вживания, ни во мне до акта вживания, и этим осуществленным нечто обогащается бытие-событие, не остается равным себе». Только таким образом сущее не отвлеченно есть, а происходит: незаконченность – не-конечность мирового целого – происхождение небывшего благодаря активной участности поступающего субъекта, в данном случае моей. Через атрибуты искусства («маска, рампа») бытие представляет себя в жизненной реальности. Личность является точкой пересечения бытия и жизни, превращения бытия в событие бытия13: «Только изнутри моей участности может быть понято бытие, как событие14».