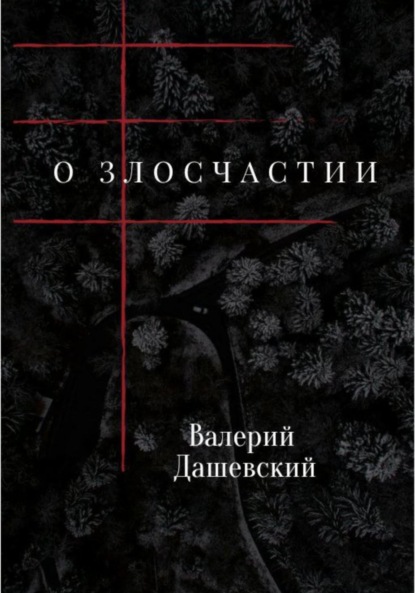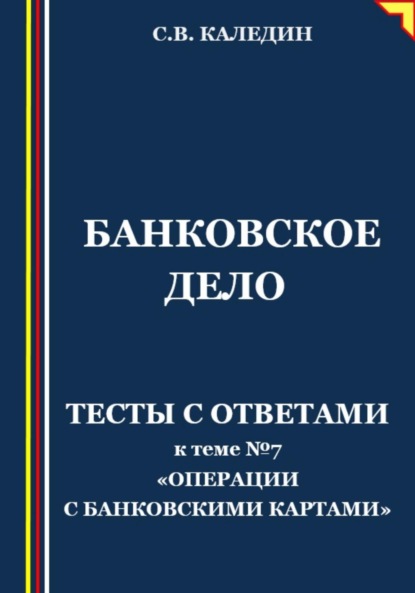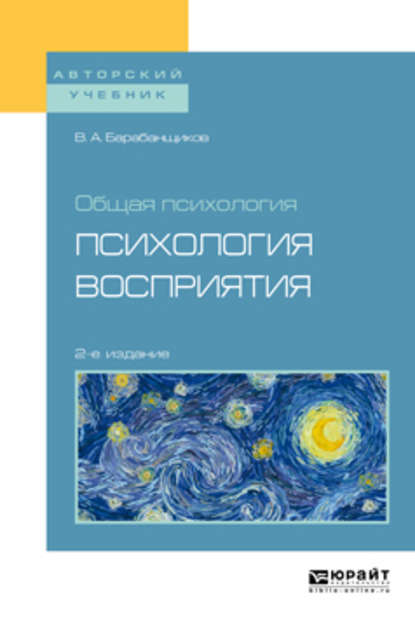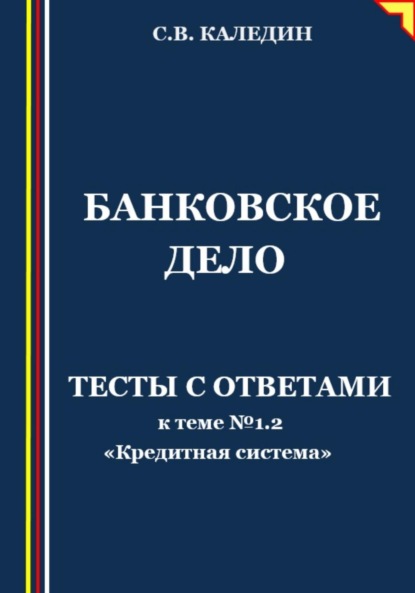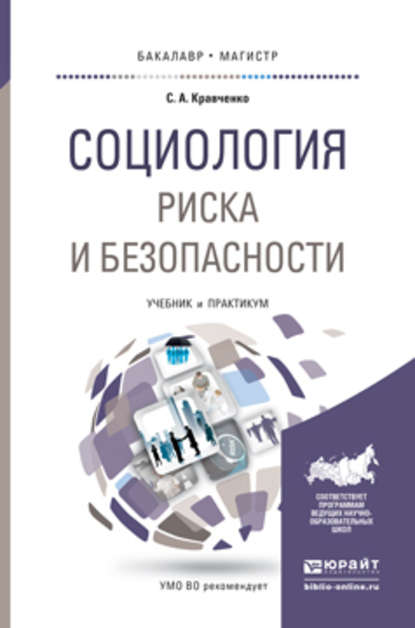- -
- 100%
- +
II.
Вчитываясь в рассказ Арменовой Книги, я размышляю о нем, делюсь размышлениями на собственных страницах и таким образом дополняю Книгу вновь создаваемым бытием.
Д. Лукач15различает следующие миры бытия или универсума: мир физических объектов или физических состояний, мир состояний сознания, мыслительных ментальных состояний, и, возможно, диспозиций к действию и мир объективного содержания мышления, прежде всего, содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства, мы же исходим из наличия четырех основных форм бытия – первая охватывает собой естественную природу и вторую очеловеченную природу. вторая – бытие человека, третья – бытие духовного, индивидуализированное духовное (то, что в субъекте) и объективированное духовное (вне-индивидуальное) и бытие социальное, бытие отдельного человека в природе и истории и бытие общества. Судьба объединяет формы бытия. В рассуждениях о судьбе Хайдеггер16 разделяет области истории на истории как историографии (Historie) и истории бытия, истории отношения человека к бытию, которую собственно он и отождествляет с судьбой (Geschick): «То сосредотачивающее посылание, которое впервые ставит человека на тот или иной путь раскрытия потаенности, мы называем миссией и судьбой, – пишет Хайдеггер. – Исходя отсюда определяется существо всех исторических событий… Поступки только тогда и становятся событиями, когда отвечают миссии и судьбе. Под Судьбой (Geschick) Хайдеггер также понимает «предназначение, исходящее от явленности бытия сущего», по сути говоря о предопределении, но уточняя: «Судьба – никогда не принудительный рок. Ибо человек впервые только и делается свободным, когда прислушивается к миссии, посылающей его в историческое бытие, приходя так к послушанию – но не к безвольной послушности». Эта миссия состоит в соответствии своему предназначению, сущности, бытийному устройству17. По сути Хайдеггер говорит о счастье, возможности счастья, коль скоро судьба в раскрытии потаенности и свободе выбора, для нас же это не более, чем обоснование очевидного в мире общих мест и прописных истин.
Счастье, как известно, категория бытия, несчастье таковой не является. И, таким образом, утверждение , что наши представления о счастье и несчастье – специфические особенности мировоззрения, исследуемые научными дисциплинами в рамках антропоцентрической парадигмы – философии, психологии, социологии едва ли соответствует действительности. Несчастье бесконечно многообразно, изучено по большей части русскими лингвистами, воспринимается как антитеза счастью, «доброй судьбе», эвдемонии18; длящееся событие, оно становится судьбой, оно же примиряет человека с судьбой и историей. Счастливая жизнь понимается сбывшейся возможностью противостояния неизбежным несчастьям, ab ovo удачная судьба под защитой добрых богов, благоприятная судьба, везение – одно из первых понятий, близкий счастью, однако примат везения подразумевает исключительность счастья, наивысшего блага и цели, достижимой, следуя духу и букве «Никомаховой этики». Более уместными нам представляются рассуждения Демокрита, в которых счастливая жизнь зависит не столько от удачной судьбы, но от внутреннего состояния человека: счастливая жизнь в довольстве жизнью, не в обладании, а в восприятии ее таковой. В. Татаркевич19 рассуждает также: главное не то, что человек имеет, а что при этом чувствует. Внутренние условия значат для счастья больше, чем внешнее везение, получение удовольствия: «Не совершенство тела и не богатство дают счастье, а ровный характер и богатство воображения»20.
Эвдемони́зм (др.-греч. εὐδαιμονία – процветание, блаженство, счастье) или Эвдемόния —слово это может означать состояние человека, и переводиться как «пребывание в хорошем состоянии духа», или «счастье», «благополучие». С. Воркачев 21в монографии «Счастье как лингвокультурный концепт» замечает: «Обыденное сознание, зеркалом которого является естественный язык, в общих чертах принимает именно психологические теории счастья, восходящие к «эвтюмии22» («хорошее настроение» Демокрита») – «Как представляется, особый интерес вызывает исследование таких культурно значимых «антисмыслов», как несчастье, несправедливость и неблагодарность, тем более что положительные смыслы, которым они противостоят, были автором уже достаточно подробно описаны»23 Обыденное сознание, пишет он далее, ссылаясь на словари и Степанова,24 зеркалом которого является естественный язык, в общих чертах принимает именно психологические теории счастья, восходящие к «эвтюмии» Демокрита. Слово «несчастье» в значении интенсивного отрицательного переживания в языке употребляется относительно редко, и факт этот зафиксирован лексикографически: в толковых словарях русского языка на первом месте в статье «несчастье» стоит «тяжелое, (трагическое) событие, несчастный случай» или «беда», т. е. подчеркивается внешняя, объективная сторона каких-либо неблагоприятных обстоятельств, а уж затем идет «горе» как глубокое душевное страдание – «внутреннее ощущение несчастья». Событие предшествует переживанию. В семантике несчастья-беды, как ни странно, отсутствует момент случайности (невезения), присутствующие в значении счастья-удачи, а в семантике несчастья-горя нет вероятностных экспектаций25, присущих радости, что имеет место далеко не всегда. Впрочем, в лексической системе русского языка симметрия счастья и несчастья носит исключительно формальный, морфологический характер: на содержательном уровне несчастье антонимом счастья по большому счету не является. В первом же приближении несчастье, как, впрочем, и счастье, распадается на две семантические разновидности: несчастье «внешнее» – неблагоприятные и вредоносные для человека события и обстоятельства и несчастье «внутреннее» – эмоциональное переживание этих событий и обстоятельств26. Оба этих несчастья входят в разные синонимические ряды: несчастье «внешнее», которое можно назвать двандвой «несчастье-беда», входит в ряд беда, бедствие, напасть, лихо, поруха, злоключение, злосчастье, невзгоды, неудача, невезенье, а несчастье «внутреннее», которое можно назвать двандвой «несчастье-горе», – в ряд горе, горесть. В то же самое время в речи лексема «несчастье» достаточно часто передает эти два значения нерасчлененно, что дает основания изучать несчастье как «эмотивно27-событийный концепт»28.
Нам, разумеется, надлежит мыслить категориями искусства и наличного бытия, поскольку искусство – способ познания и отражения действительности посредством художественных образов, наличное же бытие одного всегда одновременно есть определённое бытие другого. Этот ряд можно продлить в обе стороны, а также перевернуть29. Термин «Dasein» приобрёл новое значение в современной экзистенцфилософии. Наличное бытие человека, поскольку оно наиболее доступно нашему познанию, посредством аналитики наличного бытия используется для того, чтобы раскрыть сущность и смысл (имеющегося в человеческом наличном бытии) бытия (экзистенцфилософия – фундаментальная онтология)30. (Dasein) – (эмпирическое) наличие (Vorhandensein [DaB-Sein]) вещи или лица, в противоположность определённости бытия (свойству, Was-Sein) и (метафизическому) бытию. Но с онтологической точки зрения свойство столь же налично, как и вещь. Нет определённого бытия (Sosein) без наличного бытия (Dasein) и нет наличного бытия без определённого бытия. Всякое определённое бытие чего-либо «есть» также наличное бытие чего-либо, и всякое наличное бытие чего-либо «есть» также определённое бытие чего-либо. Лишь «нечто» при этом не является одним и тем же. Например: наличное бытие дерева на его месте само по себе есть также определённое бытие леса, ибо без него лес был бы иным, следовательно, обладал бы другими свойствами; наличное бытие сука на дереве есть определённое бытие дерева; наличное бытие ветви на суку есть определённое бытие сука etc31.
Злосчастье не имеет множественного числа, по постоянству и интенсивности превосходит несчастье. Злосчастье это несчастливая доля, судьба,, точнее участь32(тяжелая судьба). Таковой его воспринимает и описывает Давид Бергельсон в своем шедевре «Хися-строптивая» 1917 года, изданном вместе с романом «На Днепре» без малого семьдесят лет спустя однотомником с аннотацией: «Давид Бергельсон (1884−1952 гг.) – известный еврейский советский писатель, автор многих книг повестей и рассказов. Роман «На Днепре» – повествование о социальном расслоении и революционной борьбе масс в годы, предшествовавшие революции 1905 года. Рассказы писателя отличаются лаконичностыо языка, эмоциональностью и мягким лирическим юмором».
Жанр «Хиси-строптивой» трагикомедия, бытовая драма, имеет место жанровое смешение, сюжет – недолгое счастье, неудача или злосчастье – синонимы ad hoc, место действия – местечки33 среди болотистых лесостепей в черте оседлости в Украине (судя по реплике возницы «Це я ему, Довид-Лейзеру, жинку привез!»). Время действия – от поздней осени, октября, праздника Симхат Тора – до сентября следующего года. Над местечком нависает серое зимнее небо, от вида этих мест веет унынием и безнадёжностью. Хися у Бергельсона дурна, как смертный грех: у ней раскосые глаза, крохотное личико с длинным подбородком изрыто оспой. Она рябая, маленькая, сухая как тощая курица, но не чувствует себя несчастной, не расстается с зеркальцем, «жалким осколком со стертой наполовину амальгамой», без конца смотрится в него, прихорашивается, с юности внушила себе, что выйдет замуж только за «ученного». Выдали ее за кузнеца Мойше-«татарина», жить с которым она не желает и нежелания не скрывает. Кузнец здоровенный, недалёкий, богатырского сложения « рукава у него засучены, как в будние дни, когда он стоит в своей кузне и оковывает железом мужицкие телеги», негодует, ярится и колотит жену нещадно, не столько из-за нелюбви, а возмущенный ее мечтаниями, самомнением, претензией к жизни. Ибо в местечке, среди лачуг под хмурым небом мыкают нужду, рожают и довольствуются тем, что есть. В праздник он избивает Хисю в последний раз. Живущие злословием и пересудами в нищете и бескультурье, обыватели местечка толпятся у дверей, выбегают на улицу поглядеть, как кузнец гоняется за женой по базарной площади. Спасаясь от побоев, женщина вбегает в дом богача, в котором служила до замужества, и за ней тотчас запирают дверь.
Дом богача, отстроенный им для себя и умершего сына, белостенный, с окнами «в восемь квадратов» и акациями вдоль фасада, – оплот спасения, твердыня Света и Закона среди нищенских лачуг, грязи ,болот и голых, давно не сжатых полей. Вдова живет в нем, чураясь местечка. Она русская, предпочитает синагоге общество местного врача, акцизного чиновника и самого станового. Мойше-«татарин» томится в самости, одиноко бродит зимними вечерами среди лотков и лавчонок, сапоги чавкают в грязи, шаги сопровождаются бормотанием. Он кроет по-тихому богатую вдову, которую боится из-за ее дружбы со становым. Жена сбежала, оставив бобылем, вдова унизила и выставила на посмешище. С праздника Симхат Тора она держит жену у себя и не раз приказывала передать ему, что даст пятьдесят рублей отступного за его согласие на развод.
Он , было, пробовал вытребовать жену назад – завидев мужа на пороге, та стремглав умчалась прятаться в хозяйскую спальню, – и долго стоял в прихожей, угрюмо дожидаясь ответа. Нянька с младенцем на руках выходила из внутренних покоев поглазеть на него. В конце концов сама хозяйка дома вышла бранить его и распекать. Кузнец, слушал насупившись, глядя на вдову исподлобья. Работа в кузне не ладилась, дом опустел. Было ясно, что жену не вернуть, что надо взять деньги и дать ей развод. Вдова явилась к раввину с Хисей и внимательно слушала, как кузнец повторяет слова обряда, точно желала удостовериться, что его усердие стоит денег. Тем временем на улице гадалка – сестра кузнеца собрала толпу и кляла Хисю и вдову, сыпля проклятиями и поджидая брата. Когда участники и свидетели церемонии высыпали на улицу кузнец нагнал Хисю и закатил ей несколько затрещин: «На прощанье!» – передавалось в толпе. Позже он плюнул на местечко, подал кузню и больше его не видели.
Хися свободна. В канун субботнего вечера ребятишки, приникшие к забору, могут видеть, как она сидит во дворе дома вдовы и работает до седьмого пота: чистит огромные самовары, горы медной посуды. Ее дразнят: – Рябая, «татарин» идет! – Ее уродство нарицательно. В ссорах до драк женщины местечка обзывают друга: – Ты Хися – рябая крыса! – Гости вдовы, которым она прислуживает, потешаются над ней– Когда ты, наконец, выйдешь за раввина? – Кроме нее в доме живет прислуга: кухарка, горничная, судомойка, няня, засидевшиеся в девках. Они живы мечтами о замужестве, местечковой свадьбе под звуки скрипки и кларнета, бегают поглазеть на новобрачных в ярко освещенные окна, вернувшись, возбужденные, судачат о женихах и невестах до зари, болтовня кончается сварой, все вопят, достается и Хисе: могут плюнуть в лицо: – Нет, послушайте только! Душа болит! Этой паскуде непременно надо ученного! – или накинуться на хозяйку, пытающуюся их утихомирить и заступиться за ее. Хися терпит молча, снося все бессловесно и безропотно, как животное. И день ее счастья настает.
Жарким полднем в разгар лета на ярмарку в местечко прибывают громыхающие на ухабах телеги и возы, на одном рядом с мужиком-возницей трясется Довид-Лайзер, тощий, старенький меламед34 из соседнего местечка. Он хитрован, посасывает трубочку, ухмыляется в седые, прокуренные усы, ему всего-то и надо купить лохань и доску для приготовления лапши, за которыми послала соседка. Она печет ему хлеб с тех пор, как умерла его старуха. А потом здесь, в местечке много приверженцев контикозовского раввина-«чудотворца35», которому верен и он, многие годы терпевший в своем местечке от сторонников рахмистерского «чудотворца», с ними он не пел в молельнях и сделался молчальником. В старой контикозовской молельне он кряхтит, немо и радостно внемля заунывным молитвенным напевам. Он объявился, когда молва давно похоронила его. За попойкой после молитвы контикозовцам открылось, что он давно вдовствует и ему тут же взялись спроворить женитьбу. Иойниха-сваха бежит к богатой вдове и весь следующий день раскрасневшаяся от смущения Хися щеголяет в новом ситцевом платье, ожидая его «ответ», сама не своя от радости. В доме раввина, где обыкновенно венчаются, она впервые разглядела жениха. Он ей нравится. Его окружают почтенные евреи. Он посасывает свою коротенькую трубочку, усмехаясь одними бровями. Он похож на добродушного деда, которого тормошат внучата. На другое утро он возвращается в свое местечко, а через неделю-другую вдова провожает Хисю к мужу.
Хися прибывает к вечеру в это соседнее местечко, раскинувшееся над речушкой у подножья холма, где в летних сумерках женщины стоят у ворот, встречая стадо с пастбища, где мужчины направляются в молельню, с любопытством глядя вслед мужицкой телеге с восседающей в ней Хисей, а возница весело сообщает любопытным: – Це я ему, Довид-Лейзеру, жинку привез! – где сам Довид-Лейзер дома за столом, окруженный детворой, водит указкой в замусоленных молитвенниках, зарабатывая гроши обучением. Когда входит Хися, он теряется: распускает учеников, раскуривает трубочку, не глядя на жену, кряхтит, смущается окончательно, встает и проворачивается к ней спиной. В урочный час он отправляется в молельню, вернувшись, застает невиданный доселе порядок в доме: постель застлана, под столом подметено, затоплена печь, на которой кипит закопченный старый чайник. Он доволен. Он пьет чай за столом, освещенным керосиновой лампой, улыбается, не прочь сказать что-нибудь «ей», но не знает, как ее зовут36. Хися сидит на кухне, робка и безмолвна. Скрестив руки на груди, она сосредоточенно смотрит на тлеющие в печи угли еще долго будет смотреть после того, как старик задует лампаду37.
И настают благословенные дни ее замужества. Отныне Довид-Лейзер не прячет заработанные медяки в карман засаленного жилета, а кладет на щербленный подоконник, Хися хаживает на базар , где ей, рябой, выказывают уважение, зная, что ее муж из «ученных», ее спрашивают: – Как вы находите, рыба свежая? – Она скупа на ответы, ни с кем не заговаривает первой, на удивление искусно стряпает, сидит с мужем за одним столом, ест из одной миски, не обмениваясь ни словом, они живут вместе и врозь, когда все украдкой, все молчком и не глядя друг на друга. Как-то раз Хися покупает большую желтую тыкву, варит ее, не жалея масла, заправляет специями и пшеном, как готовила у вдовы. Пораженный – «Подумайте! Откуда «она» знает, что я люблю тыкву?» – он в один присест опорожняет поданную Хисей первую миску. Он не ест, а глотает, обжигаясь, облизывая жирную ложку. За первой миской следует вторая, он знай уписывает кашу, нахваливая: «Объедение! Ай, какая тыква!». Рябое лицо Хиси заливается краской. Она спешит на кухню, чтобы на минуту остаться одной, у ней кружится голова. Впервые в жизни она познала счастье. Вскоре Довид-Лейзера охватывает странная сонливость. Он дремлет, его сильно знобит под двумя одеялами, которыми его накрыла Хися, он кряхтит от боли в животе, и вскоре на его крики сбегаются соседи. Греют чугунные крышки от горшков и прикладывают к животу бедняги, к ногам – горячие бутылки. Зовут фельдшера, тот тупо осматривает больного, щупает вздутый живот. К полуночи старик окончательно впадает в дрему, а на рассвете вновь поднимается галдеж, и вскоре в комнате уже горят свечи и
набожные евреи, совершившие обрядное омовение, приходят один за другим читать молитвы. Громче всех голосит свояченица Довид-Лейзера, Кейле-Малке. Когда тело на коротких узких носилках выносят из дома, она рвется, чтобы последовать за мужчинами, женщины с трудом удерживают ее. Хися сидит на кухне, не смея взглянуть в лица людям.
С тех пор в доме живут свояченица Довид-Лейзера с мужем и Хися – приживалкой, ютящейся на кухне в углу возле печи. Когда муж с женой шепчутся, она обращается в слух, замерев с бегающими глазами, боясь, как бы ее не прогнали. На что она живет никто не знает, догадываются, что скопила что-то за годы службы у вдовы. Она все та же, маленькая, сухая, молчит и прячет в косынку рябое лицо. Когда в день поминовения усопших в молельнях заканчиваются молитвы она вместе со всеми отправляется на кладбище, раскинувшееся на склоне горы, добираясь задворками, и долго сидит под оградой, вслушиваясь в стоны и рыдания женщин по другую сторону и перелезает через ограду лишь дождавшись тишины. Одна среди надгробий, она стоит над могилой Довид-Лейзера с сухими глазами и ей нечего сказать ему. Она была его женой три месяца и не перемолвилась с ним ни словом. Пытаясь вспомнить его лицо, она видит его поглощающего миска за миской тыквенную кашу, которую едва успевает подавать. Он обжигается, облизывает жирные пальцы, и снова ей слышится «Объедение! Ай, какая тыква!». Теперь он в могиле, упокоился среди благочестивых евреев, ее меламед. И, глядя на надгробную плиту, она начинает причитать – тягуче, жалобно, как все, оплакивающие в этот день своих умерших: – И любил ты тыкву!.. И варила я тебе тыкву!..
Закрытый повествовательный эпилог возвращает о нас в наличное бытие: «Тихо шелестит вокруг молодой кладбищенский лес. Кузнечики прыгают в высокой траве, никогда не видавшей косы. И чудятся еще вздохи рыдающих женщин, как далекие отголоски человеческого горя. Рядами стоят надгробные плиты, всеми забытые. Всмотришься в них – и начинаешь думать: они многое могли бы рассказать, они все слышат. И среди них еще долго раздается тихое причитание Хиси: – …И любил ты тыкву… И я сварила тебе тыкву…»
В этих причитаниях все уродство жизни, горькая ирония случившегося38 – трагикомедия, в которой мечтавшая заиметь «ученного» мужа, Хися убивает его своей стряпней. Счастье иллюзорно, мимолетно да и было ли оно? Оба ненадолго нашли друг друга. Он стар, она уродлива. Он нуждается в уходе, она – в признании. Ее внутреннее состояние, ее повседневность – в неуслышанности и непонятости. Его первые слова, обращённые к ней, знаменуют начало диалога, диалогической встречи сознаний, однако, ее страстное стремление угодить, сблизиться берет дальше цели и переносит в страшный сон. Раз в жизни Довид-Лейзер ест, как у богатой вдовы, и это сводит его в могилу. Он гибнет, когда возникает надежда, что они заживут как люди, возможность эвдемонии, совместной жизни, на минуту пообещавшей стать чем-то большим, чем сожительство. Оба не созданы для счастья в бытии, в котором не рождающихся быть счастливыми. Голоса могильных плит – ненаписанные главы Книги – зазвучи они, стали бы рассказами в рассказе о злосчастье, о предопределении, обреченности и обездоленности, общей судьбе изгнанников.
Как известно, Черта́ оседлости (полное название: Черта́ постоянной еврейской осёдлости) – в Российской империи с 1791 по 1917 год , фактически по 1915 год. Это граница территории39, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (иудеям), за исключением нескольких категорий, в которые в разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы. Черта оседлости охватывала специально оговорённые населённые пункты городского типа – местечки (в сельской местности проживание не дозволялось) значительной части Царства Польского, Литвы, Белоруссии, до 1887 года – Области Войска Донского, Латгалии, которая была частью Витебской губернии, ныне – Латвии, а также части территории современных Украины и Молдавии (Бессарабии), соответствующей южным губерниям Российской империи. Кроме того, в черте оседлости значатся все десять губерний Царства Польского. В разное время из черты оседлости исключаются Киев (евреям дозволяется жить лишь в некоторых частях города), Николаев, Ялта и Севастополь40
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«После нас не будет новых книг по крайней мере целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и двигались инстинктивно. Теперь у нас будет сосуд, в который мы вольем живительную влагу, бомба, которая взорвет мир, когда мы ее бросим. Мы запихаем в нее столько начинки, чтоб хватило на все фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Они будут питаться ею тысячу лет. В этой идее – колоссальный потенциал. Одна мысль о ней сотрясает нас». Г. Миллер «Тропик Рака»
2
Реку́рсия – определение, описание, изображение какого-либо объекта или процесса внутри самого этого объекта или процесса, то есть ситуация, когда объект является частью самого себя.
3
Михаи́л Алекса́ндрович Салье́ (21 августа 1899, Санкт-Петербург – 17 августа 1961, Ташкент) – член Союза писателей СССР, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения АН Узбекской ССР; советский востоковед и филолог, владел тремя европейскими и тремя восточными языками. М. А. Салье являлся учеником советского арабиста, академика И. Ю. Крачковского. Наибольшей известностью пользуется его полный перевод (в 8 томах) арабских сказок «Тысяча и одна ночь», начавший выходить при активной поддержке А. М. Горького (1928—1938; второе издание – 1957—1960). Это был, по словам академика И. Ю. Крачковского, труд жизни М. А. Салье, «составивший крупную заслугу его не только перед арабистикой, но и русской культурой вообще».
4
Живая речь питает обильнее. Т. е. устно изложенное более успешно усваивается, чем написанное. Лат.
5
Справка.
6
как Борхеса – сказка ночи DCII в «Тысяче и одной ночи», по его собственному признанию, самая магическая среди всех ночей.
7
Вынести в текст о злосчастье.
8
Местный колорит. Мусор на улицах, обноски и т. д.
9
Салон как место аристократического и литературного досуга. Одна из проблем исторического осмысления бытования салонов и их функционирования в том, что, хотя салонная культура, как считается, возникает во Франции в XVII в., переживает свой рассвет позже. То, что мы ныне именуем салонами, до конца XVIII в. имело разные обо-значения: «кружок» (сercle), «общество» (société), «высший свет» (le monde), «ассамблея» (assemblée), «содружество» (compagnie), «общество интеллектуалов – бюро д’эспри» (bureau d’esprit). Так что в строгом смысле слова говорить о салонах XVII и XVIII вв. есть некий анахронизм. Первое же употребление слова в качестве синонима «общества», «кружка» появилось лишь, кажется, в «Максимах и мыслях» (Maximes et Pensées) Шамфора в 1794 г. и с тех пор вошло в обиход.