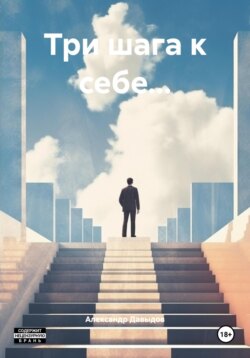Самая объемная и интересная публикация [в сборнике «Весть»] – «Сто дней» Александра Давыдова… Постепенно формируется космология призрачного мира безумного повествователя, структурированная некими ключевыми словами: небо, земля, луч, колос, зерно, снег, сокровище, безвременье и т.д. Многие сцены романа и образы очень красивы, а язык полон игры слов и юмора.
Д. Бартон Джонсон,
профессор Калифорнийского университета
Явно ничего не стоит за этими словами, просто они нравятся автору и он перебирает их, любуясь. Есть претензия на философию, но никакой философии у автора нет, есть видения, но за ними не стоит мысли.
Татьяна Толстая
В повести [«Ноль»] представлена последовательная система воззрений, она выражена сильно и ясно, она актуальна, и спор с нею или по поводу нее был бы плодотворен: дело касается современного «массового общества», в той или иной форме вовлекающего индивида и в той или иной форме предлагающего ему взаимодействие с абсолютными нравственными истинами. Ответы надо искать, так или иначе.
Лев Аннинский
На меня пахнуло состоянием, которое я не совсем понимал. Хотя знал, что оно есть. Читал – в первой прозе Давыдова, под названием «Ноль». Читал у Битова в «Пушкинском доме» про нулевого Одоевцева. Читал и отмахивался: не мое, не любят они ничего.
Григорий Померанц
Сознаю, что бессилен понять многое, пожалуй, все в целом. Непостижимо для меня это многоцветное, многоОбразное, «спокойно апокалиптическое» повествование — беседа автора с самим собой, вернее, разговаривающего Я со слушающим, воображаемым Я-Ты. Однако явственна для меня и ощутима неподдельная сила таланта – сила слова, творящего образы, возбуждающего мысль. Могу только предполагать, что это и есть язык новых поколений, нового века и нового тысячелетия.
Лев Копелев
Трилогия написана очень давно, в смутную, тяжкую, истинно «нулевую» эпоху, когда, однако, исподволь вызревало новое сознание. Кстати, писалась она при четырех российских правителях. По прошествии стольких лет я уже не воспринимаю этот прямой репортаж из безвременья как собственное творчество. Автор поставил цель – отыскать в окружающем вакууме какие-либо нравственные ориентиры и хотя бы подобье структуры. Каждый из трех текстов – поток мысли в самом минимальном беллетристическом оформлении. Первый из них – как бы монолог революционного провокатора начала прошлого века. Второй – монолог уже на два голоса: чистого и объективированного субъектов, авторского Я и его alter ego. Третий монолог, где субъект письма и мышления почти неразделен с личностью автора, обращен к уснувшему ребенку. Повесть «Сто дней» была напечатана в сборнике «Весть», первом из отечественных изданий, опубликовавшем полностью знаменитую поэму Ерофеева «Москва-Петушки». Трилогию целиком я собрался опубликовать только теперь, когда попытка описать и тем самым изжить безвременье представляется вновь актуальной. Я не стыжусь своей ранней прозы, скорее, горжусь ею, – сейчас я, возможно б, и не отважился на столь полное игнорирование литературных правил, привычек и догм своего времени. Потому я и одолел соблазн переписать трилогию уже нынешней рукой.
Александр Давыдов
Посвящается моему сыну Сергею и внуку Филиппу,
их младенчеству
… На деле же каждый шаг мысли служит
лишь усилию содействовать тому, чтобы человек,
мысля, вступил на путь своего существа.
Хайдеггер
НОЛЬ
…тут-то меня и заключили в тюрьму. Не уверен даже, что это наказание. Может быть, и забота, если я правильно понял подмигивание здешнего стража. Перед этими я уж точно безгрешен. Разве что перед глубинным их нутром, которое, казалось бы, юриспруденции непричастно. Но стали бы они как раз во время сверх определенности отстаивать принцип неуловимо абстрактный? А может, как раз и стали.
Вот для других «этих» я безусловно предатель, равно, как и для других «тех». И кто-нибудь из них меня, наверняка, прикончит, и стены не спасут. Пускай бы лучше «эти» – на площади, под барабанный бой. Тогда, возможно, «те» меня не ошельмуют. А ведь даже при всей своей глупости – и именно при глупости – могли бы понять, что здесь возможно «или – или». Для всех оно у них существует, а для меня почему-то нет. Это тем более странно, что времена сейчас и надолго – определенные, даже куда еще определенней – двухцветные. Но дело в том, что для определенности я погиб. Разве что временная даль размажет, сотрет границы между белым и черным. Но, скорее, оправдание наступит в будущем ноле, несмотря на то, что нулевые эпохи не то, что отталкиваются друг от друга, – нет, даже взаимно перетекают, – но как бы друг друга не сознают, не желают знать.
И «те», и «эти», именно, как порожденные нолем, тем упорнее держатся за «черное – белое», собственно, за «до» и «после». И только я один остался верен нолю, который – аннигиляция белого и черного. Для них, соответственно, предатель. А предатели-то они, – я их так не называю хотя бы из нулевой добросовестности. Сейчас я снова угодил в ноль, пусть и не всеобщий, а индивидуальный. И это хорошо, даже справедливо. Ноль – для меня, единственно ему верного. Там я начался, там и тихо закончусь. И так всех обману – ни барабанного боя не будет, ни вешалки.
Здесь-то почти полный ноль – одни голые стены. Даже топчан приносят только на ночь, и стола нет. Зато мне дали перо и бумагу, хотя я об этом совсем не просил. Тогда надо бы потребовать и стол. Если только он не обеденный, то, вкупе с пером и бумагой, это не предмет обстановки, а, скорее, идея, не нарушающая общей нулевости. Наверное, решили – вдруг да я что-нибудь припомню. Хотя им-то что делать с моей откровенностью, даже если расшифруют чернильные закорючки? Но дело в том, что я в принципе ничего не могу вспомнить. Их интересует лишь телесное, а вся телесность канула в прорубь ноля, оставив, разве что, легчайшую эманацию, которую можно уловить только нюхом, но не пальцами. Этот экстракт реальности никак не вытянешь в строчки, как я никогда не умел вытянуть в прямую время. У меня оно всегда пыталось растечься в плоскость и даже приобрести объем, – и отсюда, Бог знает, какие замысловатые петли и перехлесты. А как вспоминать во времени, затянувшемся в мертвые узлы?
Единственная достойная тема в ноле – это ноль. Его можно ухватить, если обмусоливать его со всех боков, – изнутри тоже. Валять его так и сяк, не боясь разнонаправленности, которая не есть противоречие. Катать его по страницам возможно почти до бесконечности, хотя полностью ему равен только чистый лист бумаги. От перекатывания он приобретет исключительную многозначительность, усложнится до крайности, но стоит найти крошечный штришок, как он тут же обратится в полный и гладкий ноль. Еще глаже и невесомей чистого листа. Он бы и вовсе был неуловим, но у него ведь есть оболочка, пусть тончайшая из всех возможных – овальчик. Вот и дело, вот и цель, если даже все написанное канет в глубинах тюремного архива. Чем не зануляющий штришок? Итак —
0
Я был убит и ошельмован каким-то ничтожеством. Откуда он, собственно, взялся? Я потерял даже не честь, а плоть. Прошлое и будущее, став ножницами в его хилых лапках, располосовало меня на две части, – это лишь в одном измерении, а в других неведомо на сколько, – и я понял, что настоящее стало исчезать с тех пор, как у ножниц появился раствор. В общем-то, настоящее только и осталось в растворе этих ножниц, но настоящее опасное, накрепко проросшее в будущее. Когда же ножницы с лязгом замкнулись, примерно так, как лязгнул здешний засов, будущее сомкнулось с прошлым, и пропал ноль. И лязганье засова потом отозвалось, как эхо. Многие хотели бы видеть расчленение тела – кровь и выпущенные кишки, однако ноль расчленяется без видимого ущерба. Он только лишь растворился в истории, размолотый жерновами прошлого и будущего. Да и вообще, был ли он? В периоды значимости ноля не только нет, но и не было.
Конечности (дурацки и двусмысленно звучит, но лучшего слова не подберу) истории перемежаются бесконечностями нолей, провалами, вулканами, застывшая магма которых и есть значимость. Конечная значимость не желает знать нулевой бесконечности. Ей, кажется, противится сама ось времени. На ней ноли не находимы, ибо неотграничены. Из всех эпох только нулевые не имеют границ. Они не заключены в оболочку, разве что в овальчик, оболочку своеобразную – выделяющую, но не отделяющую. Так и катятся они в своих овальчиках, как горошины по временному желобу.
А потом началась полная мешанина определенности. В нулевой неопределенности я прекрасно себя чувствовал, ясность же для меня оказалась полным сумбуром. Мне бы куда-нибудь скрыться, укрыться, раствориться, но слишком прочен и нетекуч был окружающий материал. В ноле я творил – и часто с громовым грохотом, – но был как бы невидим, будто стекло в воде. Я не скрывался, но все смотрели мимо меня, словно на мне была шапка-невидимка. Сейчас меня и нет вовсе, но я именно виден. Хотел бы я стать мошкой и забиться в стенную трещину, но чувствовал, как вытягиваются все мои суставы, и я превращаюсь в великана, видного со всех концов света. Но, обретя видимость, кажется, я все же не утратил неуязвимости. В ноле я был чем-то, точнее, всем – именно нолем. Теперь я ничто, фантом, однако зримый, так как выделен всеобщей значимостью, и движение мое – мнимое, только лишь негатив всеобщего. Но я, незначимый, неуязвим, как призрак.
Я существую как противоположность значимости – затем, видимо, и нужен ей, хотя во мне гаснут и дела, и даже звуки. Раздавшийся было голос: «Крови, крови», — и он смолк. Но вновь народившейся, еще неуверенной в себе значимости пока необходим антагонист для самосознания. Я для нее – узелок, памятка, что она «это», а не «то». Но я и память о ноле, которая будет вытеснена из мира в подпол со мною вместе, – неторопливо, как пузырек из наполняемой водой бутыли. И еще, они понимают, что я, ноль зримый – отражение их внутренних, глубоко скрытых нолей. Вот их-то не вытеснишь, они в них пребудут, и даже разбухнут, так как устремленное вовне движение значимости отбрасывает внутрь нулевой рефлекс. Так те и будут копиться в глубинах, пока не сольются в единый земной ноль.
Теперь я даже не ноль как таковой, а отражение их собственных. Зеркало, которое они пытаются представить картиной. Так даже и лучше, – зеркало можно невзначай разбить, картину никто не снимет со стенки. Пока их ноли хоть чуть-чуть просвечивают сквозь плеву, я буду жить, так как нужен им живым, – когда же смеркнется это зияние, я превращусь в зеркало, ничего не отражающее. И что тогда со мной делать? На свалку только. И все же остается надежда на эстетический взрыв. Вдруг да меня примут за полотно какого-нибудь дадаиста – просто пустое, и даже одна рамка – без холста. Таких, кажется, еще не бывало, но появятся наверняка, – ведь все стены мирового исторического музея заполонены пустыми рамами. А моя-то как роскошна, – не пожалели сусального золота, весь так и сияю позолотой. Не то, что иные нулевики, которые в том самом музее просто трещины на стенах. Правда, неискоренимые, – из-за усадки здания, должно быть. Но и у них есть надежда – примелькаются Рафаэли, обратят внимание и на трещины.
Вышел я, безусловно, из какого-то, теперь почти не определяемого, ноля. А, может быть, даже из множества охватывающих друг друга все разбегающимися овалами. Но к тому времени, когда я начал сознавать себя, уже вовсю шла значимая эпоха, и еще какая. Эпоха, можно сказать, королевской охоты, охоты на Автократора. Все вокруг было так и пропитано значимостью и значением, все феномены были суть намеки, отсылающие к Идее. Об Идее я умолчу, хотя бы потому, что сама она была скоплением умолчаний. Подчас было трудно понять, что для чего существует – Идея ли для намеков или намеки для Идеи. Иногда даже казалось, что намеки, скопившись, ее и образовали – векторная-то их направленность была примерно одинаковая. Впоследствии, не исключено, будет решаться: гонялись ли за Автократором во имя Идеи, или Идея существовала во имя охоты на Автократора. Но то будут суждения извне, нас же она со всех сторон обымала, так что мы обитали как бы внутри Идеи. Но, хочу уточнить – пока не в пространстве Идеи, хотя, может быть, она и расчищала это пространство, приучала к нему. Тогда же она охватывала значимость, с грохотом перебирала ее камни, дробила глыбы в порошок. Это была Идея значимости, тесно с ней связанная единством законов, вне зависимости – предписывала ей она их, или значимость ей их диктовала.
Над значимостью царили рыцари Идеи, – и куда более полновластно, чем сам Автократор над страной. Непонятно, чего он им тогда дался. Ведь и сам он был не чужд Идеи, – пусть обратной, изнаночной ее стороны. Но коль существует лицо, должен быть и затылок. Посланцы Идеи были, как им и положено, чисты и на удивление безгрешны. За всем многообразием моральных кодексов значимости кроется разменная этика. Они аннулировали значимость, и не только чужую, но, с не меньшим рвением, и свою собственную. Шел постоянный размен, как в поддавках, который закончился разменом дамок, после чего доска стала невыносимо просторной. Автократор был разнесен в клочки парой килограммов гремучей ртути. Но сруби голову – уж нет ни лица, ни затылка. С ним вместе пропала и надобность в Комиссии по его уничтожению. И она все равно, так или иначе, изошла бы, даже если бы их всех не казнили под барабанный бой.
И наступило время, которое могло показаться целиком запустевшим – эпоха всеобщего разрежения, имеющая, однако, исключительную и уникальную ценность. Она представляла всем и каждому великий опыт безвременья. Почти любую значимую ситуацию можно для себя создать. Вакуум же духовный – как и полный физический, – искусственно не создается, он всегда принудителен. Но при исключительной принудительности внешней эпоха ноля предоставляет широчайший простор духу. И, почти исключая творчество социальное, она требует творчества в духе, – причем непосредственного, минуя любые искусства. И требует настойчиво, как только она умеет. В эпоху ноля искусства побоку: сколь ни мало в них материального, тут материала вообще нет, полный ноль, короче говоря.
Ошибка ноли считать развязками. Это разве что псевдоразвязки, завязки же – истинные. История вообще не знает развязок – только вот такие: внезапные прорывы, когда все в равновесии, потому и недейственно. Ноли – парники, где вызревают зерна разнообразных и редчайших растений. Они могут быть невиданно хороши, но попадаются и монстры. Ведь в эту внутренне непринужденную и непринудительную эпоху каждый сам себе творит и смысл, и цель. И по-разному может обернуться такая самостоятельность. По крайней мере, ананасы там скорее отыщешь, чем пареную репу. Впрочем, монстры видятся монстрами из временной дали, как и обычный динозавр стал драконом. Только время отделило прогрессивное от тупикового. В ноле же, где вызревал эволюционный скачок, все это существовало равноправно. Даже и странные метисы прогрессивного и тупикового были тогда нерасчленимым монолитом. Только взгляд аналитика, направленный как из прошлого, так и из будущего, рассекал их на две половинки. В настоящем же ноле аналитиков попросту и не было, ибо нечего было разъять.
Ох, как же не нравятся значимым эпохам эти синкретические монолиты. Они их растерзать готовы – и терзают, рвут на части. Не желают они знать их настоящего – только лишь их будущую или прошлую двойственность. А ведь в собственном своем настоящем – я свидетель – они не более двойственны, чем лист бумаги. И стоит ли удивляться, что все их кости трещат, когда их стараются перекрутить по принципу Мебиуса.
Я из ноля, конечно, вышел, но прошлого своего не знаю, – ведь я проснулся для жизни, когда прошлое уже иссякло и медленно-медленно завязывалось будущее. Так медленно, что казалось – время и вовсе остановилось. Но, однако же, то проистекало, точнее, утекало и, как ему и положено, оставалось однонаправленным и необратимым, как песочная струйка. Но истекало оно как-то подспудно и вяловато. Притом оставалось столь же назойливым, как и прежде, если не больше, ибо мы разучились волить. Ноль – это эпоха чистого, пустынного времени, ничем, по крайней мере, существенным не заполненного, – соответственно, в большей мере эпохой, чем какая-либо другая, так как повисла на кончике минутной стрелки.
У всех живущих в ноле отношения со временем трудные и увлекательные. Не знаю уж почему, но я, видно, страдал от него больше других. Постоянно оно у меня свивалось в петли. Мое время то скакало без удержу, то вдруг замирало, а иногда вдруг пятилось назад. И все мое прошлое – как переплетенная веревка, которую и не распутаешь, не натянешь телеграфным проводом. Да оно и неплохо, – на этом вервии не повесишься, как пробовал наипервейший из нас – нолей.
Напрасно они надеются – не растяну я его в строчки, не переплету в значащие крючочки. Пусть изыскивают зерна среди плевел прошлых и будущих слов, разнонаправленных и чуждых друг другу. Будет им вместо зеркала – зеркальная пыль, вопль ужаса, который слов не выбирает. Нулевой человек недоступен страху – в нем страх вырождается, ужас его перехлестывает. Страх замыкается в оболочки, ищет формы, ужас – их рушит. Вопль ужаса беззащитен, он не внутрь себя, а, наоборот, призывает. Не боюсь и я в своем каменном бункере быть ни смешным, ни наивным.
А вот часы, несмотря на ненависть к времени, я очень даже любил. Все тянулся в детстве к бронзовым «Пастуху и пастушке», пока те не свалились мне на ногу, – до сих пор хромаю. А сколько я потом накупал луковиц – и золотых, и серебряных. Если б у меня хоть когда-нибудь был свой футлярчик, я увешал бы стены тикающими ящиками.
На «Пастухе и пастушке» я впервые ощутил весомость и опасность времени и, видно, с тех пор оно для меня стало не мыслью, а «штукой», – причем опасной. Перед ней все штуки мира легки и невесомы, почти идеи, эманации. А разбирать я их стал зря. Конечно, запутался в колесиках, пружинах и шестеренках, а времени там не нашел. Потом я их собрал, но они не затикали. И тут уже подступил ноль, в котором угасли все тиканья мира, хоть стрелки и продолжали свой ход. Как сейчас гулко каждый тик отдается в здешней пустоте. Пустоте, но уже не нулевой. В пустоте-одиночестве, а не единстве.
Когда я потерял свои последние часы, меня стали одолевать оцепенения, хотя в ту пору телесность еще не окончательно изошла. Меня как бы не было ни снаружи, ни внутри. Я зависал на тончайшей грани внешней и внутренней пустот. Меня почти принимали за мыслителя, но мыслей как раз и не было. Не считать же мыслями переливы пустот снаружи внутрь и обратно. Так я тихо свихивался, пока кто-то не шепнул мне на ухо: «Видно, у тебя Идея». И я понял, что это на самом деле так.
Та же самая, старая Идея, уже стертая до невидимости, оглушающая до неслышимости, и в ноле оставалась такой же полновластной, как и в предшествующую эпоху, таким же ее узлом, пускай мнимым. Но из всех мнимостей ноля эта была все-таки самой полнокровной. При полной, казалось, непринудительности ноля – а он, если тогда и не наступил, то уже подступил, – трудно сказать, он ведь неограничен и наступает бесшумно – Идея приобрела едва ль ни общеобязательность. Хотя уже стала фантомной, погубив Автократора. Однако ноль – рачительный хозяин, к наследству относится бережно, ведь иначе он полный банкрот. Прошлое в нем существует подобьем настоящего, хотя бы потому, что между ними не проведено внятной границы. Былое может протянуться через весь ноль и утечь в будущее уже другой эпохи, однако, неожиданно видоизменившись, – Бог знает, что может произойти с прошлым в ноле, замаскированном своей неукрытостью.
Эпоха, лишенная форм, цеплялась за формы прошлого и потому кишела фантомами. Прошлое разбивалось вдребезги, – и каждый дребезг, минуя ноль, терял свою суть. Оболочка же уплотнялась и, без ограниченья извне, разбухала до последних пределов, стремясь захватить все пространство. Следующей значимой эпохе бывшая реальность, ставшая фантомом, передавалась уже не свежей, а приобретшей давность, унаследованной – причем бесконечную давность, как бесконечна эпоха ноля, – и потому бессмертной. Ноль – место излившегося нутра и опустошенных оболочек.
Идея фикс предыдущей эпохи, конечно же, стала навязчивейшим из нулевых фантомов. И, разумеется, этот уплотненный призрак не затерялся среди прочих. Именно в его опустошенном нутре вызревали самые упорные семена будущего.
Моя мысль долго блуждала в пустыни, и сама была пуста. Ноль не порождает форм, только лишь – структуры, устанавливаются взаимосвязи между пустотами. И мышление в ноле – взаимное перемещение пустот, почти одинаково пустых, но все же не совсем однородных. Нутра в них нет, пусть нет даже и формы, но все же какая-то предформа есть, конфигурация, тяготение к будущей форме, вполне конкретной. От такого перебирания пустот как не ополоуметь, если оно уже не есть безумие. Потому единственный путь сохранить в ноле остатки разума – уже ненужного, но все же привычного, – это облечь брызги разбитой там мысли одной из прежних лишенных нутра форм, пусть и выродившейся в конфигурацию.
Бог знает, что было бы, если б мне не нашептали Идею. Если б тот шепот не грянул эхом в моих пустотах. Ведь даже бесконечно длящееся безвременье не может отучить ум от изысканья форм. А запустение мысли больше всех свойственно остро переживающим время. Об Идее шептало все вокруг, – в ноле все только шепчут, как в храме, – но еще попробуй расслышать шепот своими нечуткими ушами-пустотами. Я услышал.
Однако, блуждание в пустоте, хоть и тягостно, но не трудно. Отношения же нынешней мысли с прежними формами трудны – чаще это борьба, чем согласие. Если мысль слаба, то прежние формы ею вовсе овладеют, навязав ей прежние взаимосвязи. Если же она сильна, то с хрустом и скрежетом пересоздаст старое по-новому. Моя и не сильна, и не слаба, оттуда вечный пат, ноль. Те формы не так сильны, как упрямы, – то, что они прошлые, не делает их более хрупкими, наоборот, придает неуязвимость. Прошлым, кажется, верти, как захочешь, – но не знаю уж, как другой, а я не мог.
Фрагменты прошлого заполняют наиболее подходящие для них пустоты, лишь самую малость уточнив границы, от чего не больно, а разве что щекотно. Таким образом, структура будущего оказывается заполненной реальностями прошлого, живущими не своей жизнью. Так часто и возникают нулевые монстры.
Из временной дали до-ноль так тесно смыкается с после-нолем, что его самого можно бы легко проглядеть. Но вправду ль предшествующее и последующее его добросовестно не углядывают? Ведь предполагаемый стык эпох кишит монстрами. А могут ли они в таком своем множестве уместиться в точке, мгновенье? Неужели вся мыслительная мощь двух значимых эпох – эти взаимонаправленные лучи как раз в ноле и сходятся, – не способна пронзить хлипкий овальчик ноля? Или оба этих потока растекаются необъятной лужей в его бесконечных пространствах? Может, будущее потому непроницаемо для прошлого, а прошлое для будущего, что они разделены прозрачной, но непобедимой нулевой преградой?
И все же пустоватый ноль для взгляда извне – все равно откуда глядишь, спереди или сзади – должен быть сверхзначительным. Пусть идей он не способен родить, а только совершает бесцельные потуги, но мыслящих и действующих в нем обитает предостаточно. Он так и бурлит бескорыстным действием, и пузырьки на поверхности лопаются как бомбочки. Разве что последующую значимость сбивает похожесть его форм, изоморфных предыдущим.
Нулевой шепоток дал названия пустотам, где блуждала моя мысль. Хотя, конечно, название зародилось бы во мне, пусть чуть позже, не так уж это важно для безвременного ноля. Наверняка им со мной поделился какой-нибудь нулевой примитив. Они более чутки к формам, как подобные мне более чутки к нутру. И совсем не грех ее у них позаимствовать, притом, что они лишь возвращают одолженное. Их формы слеплены из нашего материала, они – ороговение изливающегося из нас нутра. А напрасно думать, что в ноле не водится примитивов. Еще как – не меньше, чем в значимости. Полны улицы их – разгуливающих в своих фиктивных оболочках, как короли в новых платьях. По сходной цене они всегда готовы их уступить, вернее, догадываясь, что им грош цена.
Пускай фиктивные формы – это уже ничто, – их условность, неподлинность, несейчасность я и прежде чувствовал, даже преувеличивал. Все же это не совсем игрушки, или я был не лучших из игроков. Вот и теперь, когда каждое пятно на стенке оживает, как на люмьеровых живых картинах, все же и они стремятся жить своевольно, а не по моему хотению.
Когда все вокруг было нулевым, я не жил, а мыслил. При недостатке форм, эпоха ноля всегда эпоха мысли. Мысль становится реальнее и полновеснее пустоватой незаполненной жизни и вытесняет ее отовсюду. Я оказался в пространстве мысли, переиначивающей соответственно своим законам легковесные формы. Мысль, причем, тоже не слишком подлинная – не устоявшаяся, скорее, предшествующая или будущая. Она с обеих сторон устремилась в разреженность ноля, где даже и ей самой стало тесно, – не говоря уж о жизни. Она, может, и совсем вытеснила бы жизнь из ноля, но жизнь-то живуча, – пускай и выродившаяся в существование. Даже еще более живуча и неотвязна.
В эпоху ноля, где смешалось прошлое и будущее, настоящее почти совсем отсутствует. Точнее, там оно лишено собственного материала, оно не первично, а смесь в различных пропорциях того, что будет и того, что было. Материал настоящего ничуть не менее фиктивен, чем прошлый или будущий, тогда как в значимости он жестче и весомей. Настоящее в ноле сжимается в точку, но разрастается вверх и вглубь до бесконечности. Оттого ноль бесконечен, хоть и невидим.
Настоящее в ноле маслянисто, как я представлял себе мировой эфир, – вроде подсолнечного масла. Вот эта, пусть почти прозрачная, преграда пролегала между мной и всем. И в той призрачной, фантомной среде я, как тонущий в маслянистом эфире, ухватился за нечто не слишком прочное, но прочнее остального – за Идею. В ноле и она стала текуча, не хранилась в сокровищнице, пускай и общедоступной, а растеклась по всему нолю, все, все вокруг пропитала собой. Может, именно она придавала эфиру маслянистость и ненавязчиво искажала все в нее погруженное. Она была стержнем предыдущей эпохи, но уже не ноля, – скорей, уж фиктивным его наполнителем. Стержень ноля ей прямо противоположен: антиидея, принципиально не мыслимое, а существующее. То, для низвержения чего и была рождена Идея. Так, однако, было в значимости, а в ноле, где все становится идеей, идеей стало и это – такое с виду на идею похожее, – не совсем, слишком уж грубо зримое, до полной невидимости. Навязчивость Идеи тоже была груба, но все же не так.
В ноле между Идеей и Антиидеей обнаружилась какая-то спайка и взаимообратимость – уж не поймешь, что здесь «анти». Идея огрубела и вышла наружу, Антиидея, наоборот, стала мягче и залегла в глубине. Где плюс, где минус, стало зависеть от направления взгляда. А в ноле страшно, страшно было, даже и мне – его отродью. И я боялся выпустить из рук стержень, крепчайше вросший в почву. И не до того было, чтобы разбираться, плюс он или минус. Да и как разобраться, если, чего уж я, помещенный как раз посередке, совсем лишен, так это неравноправности взгляда. Куда ни взглянешь, повсюду бесконечность, в которую вбит плюс-минусовый столп.
Века простояло то, что все принимали за мировое древо. И все-то в нем казалось исполненным смысла. И смыслом же, казалось, его питают корни, запущенные в глубочайшие недра. Потом и корни ему обрубили, и сучья. Ждали, что оно засохнет. Так, вроде бы, и случилось, – только, не пало и вдруг стало даже давать побеги. В ноле не слишком много смысла, потому почти и нет бессмысленного. И существующего в ноле совсем мало, так что все существующее осмысливается. Сам факт существования уже полемичен, хотя бы в силу его необязательности, даже никчемности.
Идея, пусть и бывшая, не вовсе бездвижна. Вот как-то раз она меня и привела к домику с парой сфинксов, примостившихся у фасада. И там из сгустившегося эфира вылепился некто лысый, поигрывающий яблоком как бомбочкой, – но все же пока осторожно, опасаясь до времени сам на ней подорваться и взорвать все вокруг. А бомбу я так себе тогда и представлял – кругляшкой с фитильком, который можно прижечь сигаретой. И еще две траурные дамы, траур которых был, безусловно, связан с Идеей, трудноопределимо, но однозначно. Другие же пока были неразличимы и только сильно позже вылепились в тех, кого я предал и погубил. Вообще, в ноле лицо – непозволительная роскошь, это эпоха людей без лиц, все они взаимозаменяемы, даже тем, кто запомнился грядущим векам, обозначив очередной изгиб полновластной Идеи.
В ноле хоть и стремятся к отделенности, но какой-то безындивидуальной. К отделенности коллективной, – обручем цели, лучше, идеи. В ноле ведь нет другого материала, кроме этого, псевдопрочного. Не выносят людишки собственной незащищенности, – открытости для вторжения жизни и для утекания своего сокровенного в жизнь.
Впрочем, так ли уж плох нулевой материал идеи? Ведь стоит выветриться ее нутру, смыслу, как идея может стать сверхпрочной, словно орех-дичок. Ею можно шибать по головам не хуже, чем кувалдой. Но все же какую-то проницаемость она сохраняет, так как взамен бывшего под оболочкой вдруг заводится новое ядрышко. Но не ошметок ли это ее прежней сути? Кто скажет – процесс ведь скрыт от глаз. В том домике со сфинксами на пороге, сгущенье Идеи было еще многократно плотнее, чем где бы то ни было. Здесь все было Идеей, вплоть до мусора на полу, все было значительно, а наименее значительны мы, перелагавшие Идею с боку на бок. Боков у нее оказалось, что граней алмаза, – какой мы избрали уже не припомню. Важнее то, что мы все мучительно пытались преодолеть ее застылость, отыскать в ней хоть что-нибудь мягко-незавершенное, – но та оказалась жестка. Тогда мы принялись дробить ее на куски, рушить ее скорлупу, чтобы добраться до внутренней мякоти, но каждый кусок вновь замыкался в оболочку, – его поверхность на глазах роговела, и окаменевшие глыбы Идеи высекали друг об друга искры. А я-то знал, что значит искра в этом пороховом погребе.
Так добросовестно мы раздробили Идею, что кусков на всех бы хватило. Каждый из нас мог бы в кармане унести по собственной частице. Может, кто-то из нас, отчаявшихся, так и поступил, но не я. Они ведь, эти ублюдки значимости, признавали деление. А для меня, ноля, оно всегда бессмысленно. Они-то считали, что деление можно исправить умножением, разбитое – аккуратно сложить. А для меня ведь и умножение лишено смысла. Я-то уж лучше всех знал, что составленное, и даже крепчайше склеенное, только подобно бывшему, а не оно само, – облик, но не порыв. Разрубленное способно разве что к движению обрывочному и неосмысленному, ничем не связанному с потребностью целого, как бьется в конвульсиях, разрубленный лопатой червяк. Но попробуй его склеить, как и этот намек на жизнь пропадет.