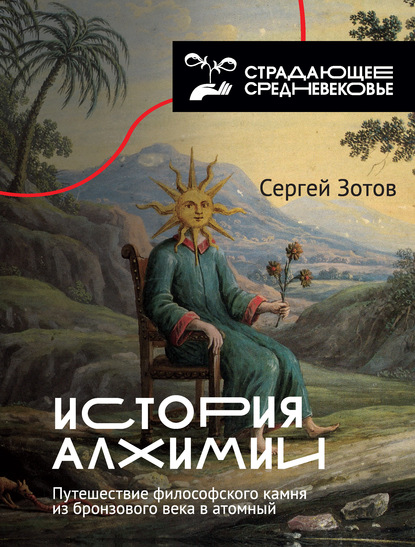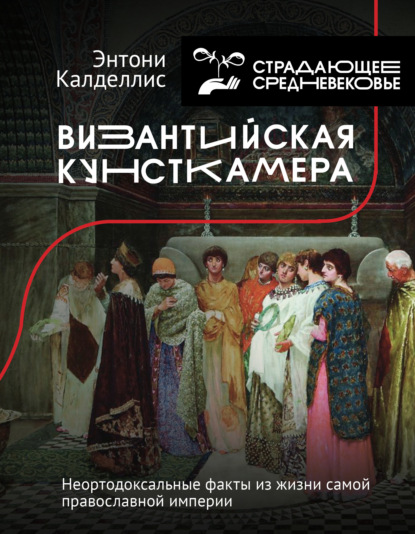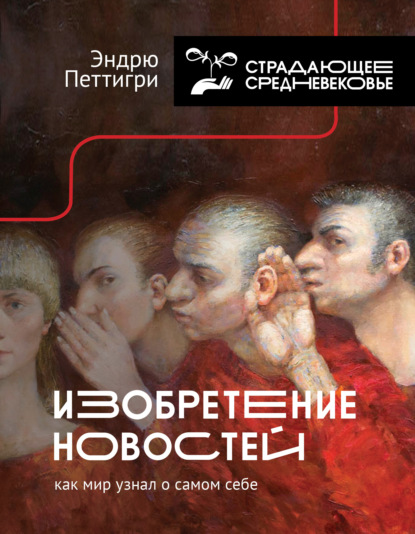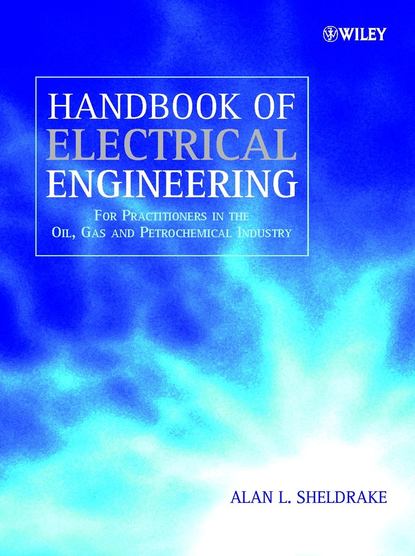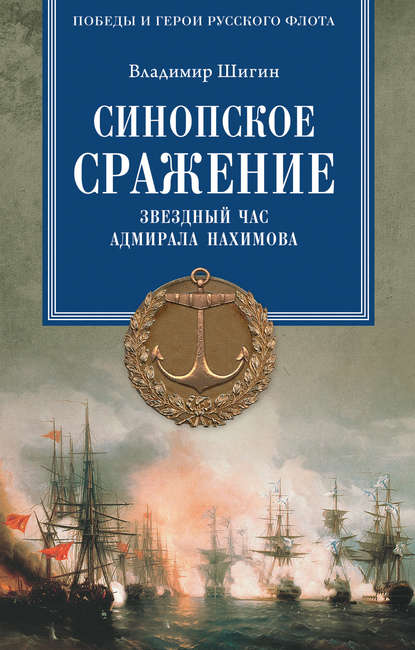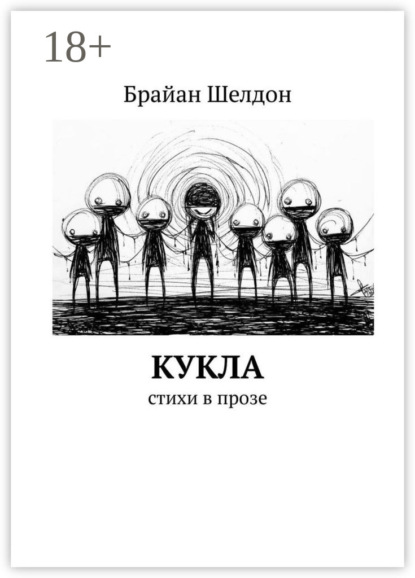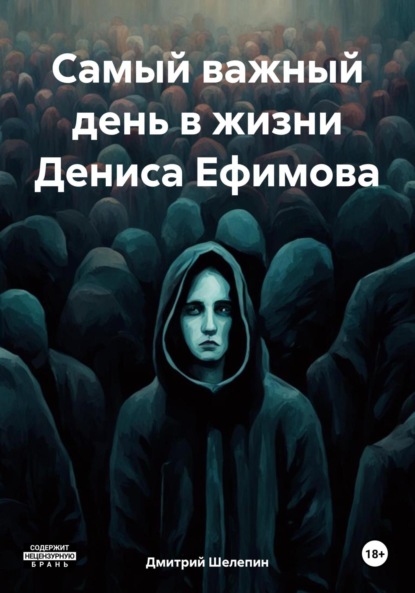Магический мир. Введение в историю магического мышления
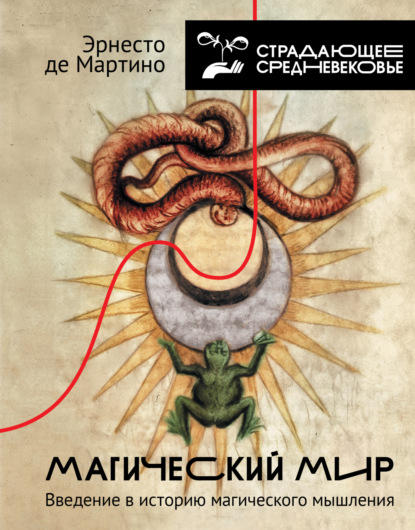
- -
- 100%
- +

© 2022 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
© П. В. Соколов, Ю.Д. Менькова, перевод, 2025
© Издательство АСТ, 2025
Беспокойная мысль
Пролог
Цель этого нового издания «Магического мира» – позволить читателю по достоинству оценить наследие автора, одного из классиков современной мысли, рассмотрев его как на фоне недавнего прошлого (культурного климата и дискуссий того времени), так и в свете дня сегодняшнего. В последнем случае творчество Э. Де Мартино можно рассматривать как точку опоры для любых попыток проникнуть в смысл той фазы исторического процесса, которую проходит сегодня наша цивилизация. Мы зададимся вопросом, к примеру, о том, может ли, – и если да, то в какой мере, – «Магический мир», в фокусе внимания которого находится проблема человеческого присутствия в мире, помочь нам лучше понять тот кризис, который сегодня переживает наше собственное «вот-бытие». За первым вопросом последует и второй: по-прежнему ли это исследование магизма как этнографического феномена, столь богатое историко-философскими отсылками, сохраняет свою притягательную силу, проистекающую из сопоставления Запада с чуждыми его историческому пути человеческими обществами?
Новаторство своей книги автор в полной мере демонстрирует уже в первых строках своего предисловия к первому изданию (1948): пусть и следуя, очевидным образом, в фарватере философии Кроче, он ставит себе целью расширить ее горизонт, включив в нее новые формы исторического опыта. Двигаясь в этом направлении, Де Мартино противопоставляет «ленивому историзму» последователей Кроче, пропитанному формализмом и эпигонством, революционную силу собственного историзма, воодушевленного не знающим устали героизмом разума. В этой перспективе становится понятна функция этнологии: она дает историзму беспрецедентную и драгоценную возможность – испытать свои силы и в борьбе добиться более глубокого понимания собственных возможностей и достоинств.
Эти краткие наблюдения не оставляют сомнений относительно «миссии» «Магического мира», произведения, возникшего на границе старого и нового гуманизма: вызвать живую реакцию, колеблющуюся между недоумением, интересом, приятием и отвержением. Сам Де Мартино, готовя к печати второе издание (1958), решил познакомить читателя с оживленной дискуссией, вызванной его книгой, и привел в приложении рецензии отзывы выдающихся философов (Бенедетто Кроче, Энцо Пачи) и историков религии (Раффаэле Петтаццони, Мирча Элиаде). Эта дискуссия продолжилась и в последующие годы: о ней мы расскажем во введении, пусть и не во всех деталях, фокусируя внимание на некоторых особенно показательных эпизодах, позволяющих глубже понять смысл произведения.
Наше рассуждение – отправная точка в исследовании мысли Де Мартино, которая рассматривается в процессе ее становления и развития; наша же цель заключается в том, чтобы сделать видимой сложную архитектонику его труда, в составе которого pars destruens (развенчание укоренившихся антимагических стереотипов) тесно переплетается с pars construens (возвращение магического мира в лоно культуры и истории). Следует принять, что точная реконструкция текста Де Мартино представляет собой необходимое условие для разговора о многочисленных сюжетах, отсылки к которым во множестве встречаются в этом тексте.
1. Реконструкция текста
1.1. Основные элементы этнологии Де Мартино
Де Мартино ставит перед собой цель сформировать представление о магическом мире, отойдя от клише, распространенных в нашей культуре и питаемых застарелыми предрассудками, и отказ от которых требует тщательного исследования породившего их историко-культурного процесса. Их живучесть, очевидно, свидетельствует о неспособности западной цивилизации преодолеть границы, которые этноцентрический менталитет навязывает автономному развитию познавательного процесса. Мы еще вернемся к этому ключевому пункту. Эти предварительные рассуждения необходимы для первого подступа к исследованиям Де Мартино, которые разворачивались в двух взаимосвязанных направлениях: первое было связано с инаковостью магии или, точнее говоря, с поиском герменевтических инструментов, которые позволили бы понять ее отличительные черты; второе имеет своим предметом западную цивилизацию, индивидуирующие признаки которой диалектически возникают из столкновения с «другими формами общественного существования людей». Двигаясь в двух этих направлениях, Де Мартино воплощает в жизнь программу, набросок которой он представил в предшествующем своем труде, «Натурализм и историзм в этнологии»[1]. «Магический мир» можно рассматривать как основополагающий текст для этнологии, ориентированной на историзм и одушевленной философской мыслью, радикально отличающейся от этнологии традиционной, натуралистически-описательной, которая игнорирует неразрывную связь между познанием другого, отличного от себя (sub specie магического), и обновлением самосознания европейской цивилизации, которое и дало импульс рождению этнологии как дисциплины. В этой перспективе особенно показательны главы первая и третья рассматриваемого произведения, основные сюжетные линии которого мы рассмотрим ниже.
Мы уже указывали на предрассудки, препятствующие пониманию особого типа культуры, сложившегося в магическом мире. Они восходят к той антимагической установке, которая досталась в наследство западной цивилизации от греческой философии и христианства: эллинско-христианская антропология и антимагическая полемика, сопровождающие нашу цивилизацию на всем протяжении ее истории, создали настоящую пропасть, разрыв[2]; этот разрыв затронул, in primis, способ восприятия реальности и человеческого присутствия в мире и имел следствием некритическое и презрительное отвержение магического. «Элементарная», по сути своей пропедевтическая, обязанность, которую Де Мартино возлагает на этнологию, заключается в том, чтобы историзировать и одновременно скорректировать ту деформацию, которая была вызвана «культурным тщеславием», побуждающим абсолютизировать западную цивилизацию и, вследствие этого, принимать в расчет только ее систему категорий, априори исключая все иное из сферы культуры.
Реализация подобной задачи предполагает радикальное изменение сознания, подразумевающее признание множественности культурных миров, каждый из которых обладает собственной историей и системой ценностей. Подобная метанойя создает предпосылки для понимания «культурно чуждого» и одновременного расширения западного исторического сознания, в результате чего оно обретает способность сравнивать и соизмерять себя с другими способами существования людей в обществе[3].
Как было сказано выше, Де Мартино анализирует основания истористской этнологии во введении к «Натурализму и историзму в этнологии», помещая эту дисциплину в широкий политический и культурный контекст, который укоренен в настоящем, в проблемах, которые определяют его облик:
Наша цивилизация в кризисе: один мир рассыпается на части, другой идет ему на смену […]. Одно известно наверняка: каждый должен выбрать свое место в строю, взять на себя долю ответственности. Можно ошибаться в суждениях, но не иметь суждений нельзя. Действовать неправильно иногда можно, но нельзя не действовать. Раз это так, какова задача историка? Этой задачей всегда было – и сегодня более, чем когда-либо, – расширение самосознания, позволяющее решиться на действие. Историческое самосознание расширяется не только за счет того, что проясняется смысл институтов нашей цивилизации, и мы начинаем осознавать подлинную природу нашего культурного наследия, но также и за счет того, что мы научаемся отличать нашу цивилизацию от других, в том числе наиболее от нее далеких. Современная цивилизация принуждена мобилизовать все свои силы, чтобы преодолеть кризис, который она переживает. Историк, в силу роли, которую он играет в совершающейся драме, и лежащих на нем задач, отвечает на вызов времени, внося в дело собственный вклад, а именно бо2льшую способность к определению индивидуальных черт объекта, из которой вырастает затем бо2льшая способность к действию[4].
Де Мартино как этнолог обращает свой взор на далекие миры не для того, чтобы отстраниться от собственного, а для того, чтобы лучше его узнать, взглянув из неожиданной перспективы на исторический процесс его формирования: «далекое» и «близкое» постоянно вступают между собой в диалог, в ученую игру, взаимно отсылая друг к другу – эта игра придает силу и привлекательность всему исследовательскому проекту. Де Мартино видит свою задачу как ученого в том, чтобы поспособствовать преодолению кризиса, угрожающего самым основаниям цивилизации, к которой он принадлежит. Этот кризис предстал перед ним во всей своей остроте, если вспомнить, что «Натурализм и историзм в этнологии» был опубликован в 1941 г., а в печати оказался еще в 1940 г., когда трагедия Второй мировой войны уже разразилась. В восприятии Де Мартино Запад находится на перепутье: или он утратит самого себя, доведя до логического конца переживаемый им процесс саморазрушения, или же вернется к осознанию себя и своей истории.
Де Мартино не был глух к «вызовам времени». Осознавая это, поражаешься той интеллектуальной ясности, с которой он обосновывает выбор собственного «места в строю». Его вовлеченность в актуальные события была не абстрактной, в ней можно видеть «расширение» его деятельности как историка, который, увидев пропасть, грозящую поглотить западный мир, решил сопротивляться этой угрозе. Реакция ученого выразилась в попытке на новых основаниях перестроить историческое самосознание Запада: эта позиция опиралась на понимание того, что у истоков кризиса, постигшего нашу цивилизацию, находится забвение или даже прямое отвержение культурных принципов, исторически определявших ее облик. В этой перспективе решающее значение обретает переопределение этнологии в сторону ее историзации, что делает ее необходимым инструментом для историографии, внимательной к индивидуальным чертам своего объекта; инструментом, который позволяет историографии отличать нашу цивилизацию от других, даже самых от нее далеких.
В свете вышесказанного возникает вопрос: в каких явлениях исторического настоящего Де Мартино находит предзнаменования того мрачного призрака, что бродит по западным странам, угрожая самому существованию цивилизации? Точный ответ на этот вопрос содержится в следующем отрывке:
[…] Некоторые новейшие политико-религиозные практики, причудливые умонастроения, определенные формы апелляции к неизреченному опыту (можно вспомнить понятие Gemüt, сопрягающее в сентиментальном единстве почву и расу, расу и кровь) невозможно объяснить только из истории XIX в. и в целом – из истории нашей цивилизации. Эта история совершенно неспособна объяснить «жажду древнего атавистического опыта» у таких фигур, как Мёзер, Вагнер или Бахофен; для ума, восприимчивого лишь к европейскому опыту, непостижимо то придыхание, с которым многие немецкие ученые мужи произносят префикс ur [пра-][5].
Есть очевидные свидетельства того, что объектом критики для Де Мартино была именно национал-социалистическая идеология, а также та почва, в которой она была укоренена: его выбор «места в строю» был определен желанием возвратить европейской цивилизации, основаниям которой грозила опасность, сознание самой себя, понимание того, что2 соответствует ее культурной истории, а что2 находится в разительном противоречии с ней (например, единство почвы и расы, расы и крови). Программа, намеченная в работе 1941 г. и доведенная до завершения в «Магическом мире», утратила бы свою силу, если оказалась оторвана от того политического проекта, в который сам автор пожелал ее поместить. У нас будет возможность вернуться к этому аргументу, занимающему центральное место в композиции настоящего очерка, чтобы остановиться на нем подробнее, когда в нашем распоряжении будет достаточное количество данных. Аналогичные соображения также актуальны и для проблемы расширения исторического сознания Запада: мы были бы несправедливы к мысли Де Мартино, если бы изолировали ее от контекста, с которым она органически связана.
1.2. «Магический мир появляется на свет в человеческой истории»
«Магический мир» возник не из этнографического исследования, проведенного от первого лица, как было, к примеру, с «Землей угрызений»; эта книга родилась из того, что обычно называют «кабинетной этнологией». Де Мартино опирается на значительное количество монографий по этнологии, чтобы извлечь из собранных в них материалов систему постоянных элементов, на основе которой можно было бы составить историко-культурный портрет магизма. Как мы видим, это вовсе не похоже на коллекцию практик и идеологий, призванных удовлетворить интерес к экзотике. Читатель найдет в приложении превосходный анализ – плод трудов Джино Сатты – этнографических источников «Магического мира» и modus’а operandi его автора.
Следующая цитата переносит нас в самую сердцевину проблематики, рассматриваемой во второй главе, очевидно, наиболее содержательно насыщенной, оригинальной и увлекательной. Чтобы нагляднее представить читателю исследовательский стиль Де Мартино, мы предварили эту цитату двумя вопросами, имеющими фундаментальное значение: как в магизме конфигурируется отношение между человеческим присутствием и миром?[6] Каковы отличительные черты существования в цивилизации магического типа?
В магическом универсуме присутствие еще только стремится обрести единство перед лицом мира, удержаться в собственных границах; равным образом и мир еще не отдалился от него, не предстоит ему как нечто отдельное и независимое. В этой исторической ситуации, в этой культурной драме «присутствие в мире» и «мир, открывающий себя в присутствии» постоянно состязаются между собой за определение границ, и в этой борьбе случаются сражения, поражения и победы, а также перемирия и компромиссы[7].
Этот отрывок дает представление о сложности проблем, с которыми имеет дело автор, а также о высоте его слога, которая делает рассматриваемое произведение уникальным образцом научной литературы, не только итальянской. В магическом универсуме границы между человеческим присутствием и внешним миром неопределенны и подвижны; присутствие еще не стало полностью автономным от мира, а мир, в свою очередь, еще не дистанцировался от присутствия, не «заключен» в прочные границы. В этом текучем состоянии возникает опасность того, что присутствие может просочиться в мир, слиться с ним, расточиться в нем. Но столь же велик риск того, что мир может поглотить присутствие и низвергнуться в хаос, несовместимый с элементарным представлением о культуре, которое основано на различении этих двух категорий, необходимом для их взаимодействия. Вероятность того, что магическое присутствие может исчезнуть, указывает на неустойчивое состояние, в котором оно пребывает, а текучесть, таким образом, становится принципом его существования. Это становится очевидным из сравнения с нашим присутствием, которое предстает как уже «определенное и гарантированное», как четко оформленный культурный продукт, способный упорядочивать реальность, также выступающую в облике наличной данности. В горизонте магического сознания, напротив, утверждение автономии присутствия образует финальный пункт, исход процесса in fieri; те же соображения имеют силу и для магической реальности, не имеющей готового основания, но долженствующей быть учрежденной.
Исследование магизма начинается с анализа особых психических состояний, встречающихся в самых разных культурных контекстах. Состояния эти в разных обществах именовались по-разному: olon, latah, амок. В них присутствие лишалось своей целостности и контроля над собственными действиями под влиянием непривычных и/или пугающих явлений, которые в конце концов завладевали им и подчиняли его себе. Так, человек в состоянии латах, внимание которого захватывало колыхание ветвей под действием ветра, начинал пассивно подражать этим движениям, сам превращаясь в качающееся дерево. Распад присутствия порождает слитность, общность (coinonia) с внешним миром, иначе говоря, подвластность неконтролируемым импульсам.
Магия появляется, чтобы подчинить кризис присутствия культурной дисциплине, облечь его в определенные формы ритуализованного поведения, придать ему социально одобряемый облик, который позволил бы предотвратить дальнейшее его распространение: ее появление полагает начало магической эпохе в истории цивилизации. Магические институты могут способствовать избавлению, если бытийный кризис осознается как проблема, нуждающаяся в решении; напротив, обострение экзистенциальной угрозы априори исключает возможность культурного контроля и, вследствие этого, «ничто наступает».
В мире магии динамика истории определяется переходом от одного полюса – кризиса «вот-бытия» – к другому, реинтеграции его в культуру. Установление отношения между «присутствием в мире» и «миром, который делается присутствующим» составляет кульминацию той драмы, в ходе которой магизм обретает свое место, появляется на свет в человеческой истории[8]. Эту особую форму историчности можно понять только при помощи герменевтических инструментов, отличных от тех, которыми пользуется западная цивилизация, опирающаяся на собственное понятие об историческом развитии и, следовательно, на соответствующие ему оценочные критерии. Осознание относительности этих последних – а равно и любых других вещей, созданных человеком, – является необходимой предпосылкой для того, чтобы открыться навстречу пониманию другого, отличного от самого себя, как субъекта культуры и истории. В противном случае на сцену вновь выходит стереотип примитивного дикаря, опутанного узами темного магизма в самом шаблонном понимании этого слова, своего рода Naturmensch’а [естественного человека].
Этнология, возведенная в ранг историографии так называемых примитивных цивилизаций, ставит перед собой цель способствовать росту исторического самосознания и, следовательно, противостоит как идеализации примитивизма в романтическом духе, за которой скрывается попытка бегства от западной культуры, так и догматическому европоцентризму, который тенденциозно исключает все отличное от самого себя из области культуры и истории.
1.3. Спасительная сила магии
В мире магизма любая связь с миром может поставить под угрозу хрупкое человеческое присутствие. Спасительное действие культуры включает в себя, с одной стороны, определение сфер риска, а с другой – превращение индивидуального кризиса в коллективный и, в историческом контексте самого Де Мартино, подведение конкретного, контингентно возникшего кризиса под вневременную, наделенную абсолютной значимостью модель, предлагаемую традицией. Невозможно понять спасительную функцию магии, те формы, в которых она противостоит стиранию границ между присутствием и миром, если не принимать в расчет ее институционального аспекта.
[Магия] создает ряд институтов, которые позволяют выявить опасность и преодолеть ее. Система компенсаций, компромиссов, гарантий создает возможность, прямую или косвенную, спасти присутствие. Благодаря этому культурному опосредствованию, этому созданию институтов, экзистенциальная драма каждого отдельного человека не остается изолированной, исключенной из отношений: она вписывается в традицию и обогащается тем опытом, который традиция сохраняет и передает в будущее[9].
Включить экзистенциальную драму в лоно традиции означает не принимать ее в ее рискованной объективности, а рассматривать ее как ритуальное воспроизведение драмы, уже прожитой в сфере мифа, а здесь приведенной к развязке: этот процесс изъятия из истории образует средоточие большой темы «мифологически-ритуальной деисторизации негативного», которая представляет собой – нелишним будет это повторить – самый плодотворный и перспективный результат историко-религиозных размышлений Де Мартино[10]. Диалектика, лежащая в основании институционализованной деисторизации, избавляющей от смертельной опасности утраты «вот-бытия» в исторической экзистенции, была продемонстрирована в очерке «Страх перед территорией и спасение через культуру в мифе племени акильпа о начале», который Де Мартино публиковал в приложении к «Магическому миру», начиная с издания 1958 г.[11] Это решение отвечает требованию проанализировать на конкретном материале «культурное опосредствование» и, следовательно, пролить свет на специфические способы, которыми символические практики магизма восстанавливают и поддерживают экзистенциальное основание человеческой жизни, т. е. присутствие.
В магическом универсуме шаман (или колдун, или маг: автор колеблется между различными наименованиями, и мы сохраним здесь эту неопределенность) возводится в «герои присутствия». Этой фигуре Де Мартино посвятил некоторые из самых проникновенных и известных (но зачастую плохо понимаемых) страниц своей книги. Особенность шамана заключается в его способности сознательно провоцировать кризис собственного присутствия и доводить его до крайних проявлений в ходе инициатического опыта, который он должен пережить, чтобы его роль была признана обществом. Его спуск в бездны хаоса облачен в культурные формы, его цель – исследование всей гаммы проявлений «небытия». Знания, полученные таким образом, претворяются в умение преодолевать кризис присутствия как таковой. В этом и заключается спасительная роль шамана, который предоставляет свою власть в распоряжение членов общины; он способен сделать для всех наглядным смысл кризиса и поспособствовать его преодолению, испытав на себе этот кризис во всем его многообразии.
Это означает, что благодаря спасению колдуна спасение становится возможным для всей общины, ей открывается путь к «избавлению». В этом смысле колдун оказывается самым настоящим магическим Христом, посредником бытия-в-мире для всей общины, спасителем от угрозы небытия[12].
Формулировка «магический Христос» пользовалась и пользуется заслуженной славой благодаря своей экспрессивности: подобно Христу, шаман становится для всех источником спасения, однако понимается оно совершенно иначе, чем христианский идеал, принадлежащий к радикально «другому» порядку ценностей. Сверхъестественная власть, которой наделен шаман, принадлежит к многовидному сонму паранормальных способностей – таких, как ясновидение, телепатия, пророчество, телекинез, глотание огня и т. д. – существование которых составляет одну из отличительных черт магического мира, очевидно, наиболее проблематичных в глазах западных наблюдателей. Идет ли речь о реальных способностях? Этот вопрос вызвал больше всего дискуссий (ответы на него чаще даются отрицательные) и, кроме того, подготовил почву для лабораторных экспериментов, не лишенных интереса и призванных принести «научно» убедительные результаты, на которые не оказала влияния предубежденность исследователя.
Де Мартино отдает должное этой дискуссии, но дистанцируется от нее, предлагая иную постановку проблемы, соответствующую теоретическим и методологическим принципам собственной исторической этнологии. Он отмечает, что
…проблема реальности магических способностей заключается не только в их природе, но также и в нашем понятии реальности, так что наше исследование охватывает не только субъект суждения (магические способности), но и сам приписываемый ему предикат (концепт реальности)[13].
Это замечание отсылает к основополагающей для этнологии теме: преодоление европоцентрического менталитета, которое требуется как conditio sine qua non [необходимое условие] для понимания культурно чуждого во всех его проявлениях. В рассматриваемом случае принимать в качестве критерия для суждения наше понятие реальности означает придавать ему универсальную значимость, в то время как в действительности применимость его ограничивается пределами западной цивилизации: такой подход исключает возможность объективной оценки магических способностей в историко-культурных терминах. Для этой цели необходимо принять линию мышления, опирающуюся на принцип культурного релятивизма и предполагающую осознание того, что любая цивилизация придает реальности специфическую форму, сообразную тем культурным предпочтениям, которые для нее характерны. Из этих предпосылок вытекает специфический вопрос: из каких критериев следует исходить, чтобы разрешить запутанный вопрос о реальности магических способностей?
Вопрос о том, реальны ли магические способности, и в какой мере, не может быть решен без принятия в расчет смысла реальности, которая исполняет здесь функцию предиката в суждении. Однако этот смысл может быть постигнут только посредством исследования исторической драмы магического мира[14].