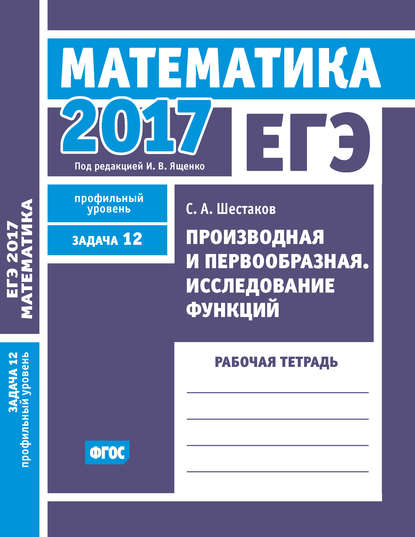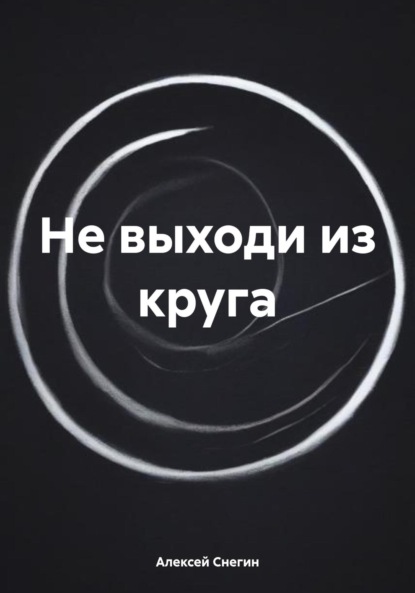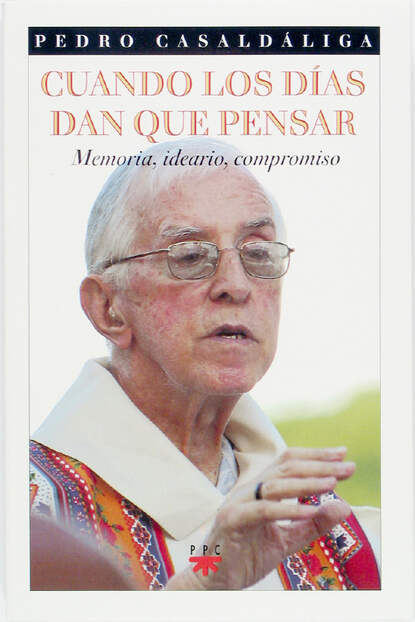Лавка Несбывшихся Желаний

- -
- 100%
- +

Глава 1. Переулок, которого нет
Вечер разлохматил город до нитей: фонари казались тусклыми пуговицами, пришитыми кое-как к влажному сумраку. Кирилл брёл по дворам, цепляясь взглядом за знакомые окна, за выщербленные ступни лестниц, за жёлтые лужи света, которые тонкими овалами ложились на асфальт. Рюкзак висел на одном плечe, оттягивал ремень, и он удерживал его ладонью, как будто этот мешок с тетрадями и пересохшей бутылкой воды мог не дать ему утонуть. В висках мерно постукивало – не боль даже, а память о боли, как эхо от каблуков, которые уже прошли мимо. Зачёт по матану сорвался: преподаватель смотрел поверх очков и вежливо произносил «в следующий раз», а у Кирилла внутри образовалась холодная полость, где в скопившейся тишине слышно, как медленно трескаются уверенности.
Он считал тени. Каждая – не своя: длинная от знака «парковка», рваная от ломаных веток, смешная, как у забытого на лавочке пакета. Считать было легче, чем думать. На перекрёстке ветер подхватил его за полы куртки и – будто ребёнка, которого уговаривают «ну давай ещё немного» – потянул к арке. Известка под ней рыдала белесыми потёками, углы были как стеревшиеся косточки, пахло сырой стеной и старым хлебом. Кирилл бы прошёл мимо, но его шаг вдруг оказался чутким к небольшому провалу между плитками – туда стекала вода, туда падал взгляд. И уже не он выбирал путь, а путь выбирал его.
За аркой пространство сузилось и стало плотным, как горло бутылки. Звуки отрезало; машин не слышно, только чужой, невидимый в этом пятачке ветер переставлял мусорок из угла в угол. Воздух был битком набит пылью, пах железными переплётами и чьими-то забытыми письмами. И из этой серой густоты, как из раствора, вытолкнуло витрину.
Вывеска над ней выцвела настолько, что буквы казались проступившими из прошлого: «Лавка Несбывшихся Желаний». Кирилл машинально прочитал вслух шёпотом и почувствовал, как слово «несбывшихся» легло на язык холодным камешком. За стеклом лежали вещи, которые не должны были лежать вместе: разлинованная записка с подпалённым краем, где торчали ещё темнеющие крошки золы; билет без даты, будто предназначенный «всегда»; связка ключей, у которых у каждого свои, неправильные бороздки; и небольшой стеклянный флакон – не совсем бутылочка и не совсем пробирка, что-то между – внутри которого медленно ворочалось тёплое янтарное облачко, как дыхание в морозном воздухе.
Он ловил себя на том, что не спал почти двое суток – зубрёжка, кофе, странное хихиканье в коридоре общаги, чьи-то шаги ночью – и мозг мог шалить. Но ручка двери – тяжёлая, латунная, с отполированным чужими ладонями спинкой – сама просилась в его руку. Кожа на пальцах в этот момент остыла, будто металл вытянул из него не только тепло, но и лишние слова. Звон колокольчика, когда он толкнул дверь, был коротким и не приветливым – острый, как ложка о край фарфоровой чашки.
Внутри пахло полынью и медью. Запахи не просто были – они строили пространство: полынь мягкими слоями ложилась на полки и книги, медь тонкими нитками тянулась от предметов к потолку. Полумрак не прятал, а наоборот – выделял: виднее становились фактуры – потрескавшийся лак на шкатулке, потертая кожа на уголке карты, тонкие белёсые полоски на чёрной древесине. Где-то шёлкаво шуршала мышь – или так казалось. Слева стоял закрытый граммофон с рогом, похожим на свернувшегося металлического цветка. На прилавке – большая открытая книга, на крепких, шершавых страницах которой были аккуратно переписаны строки – не товар, а будто ведомость с чужой жизни.
– Добрый вечер, – сказал кто-то так, как будто между «добрый» и «вечер» пролегала тоска по другим временам.
Кирилл поднял голову. За прилавком стоял человек – высокий, сухой, тощий как точёная палка, в строгом чёрном костюме, нестаромодном, но как-будто слишком правильном для обычной жизни. Серые глаза были не просто серыми – в них, казалось, отражались не лампы потолка, а чужие комнаты, чужие окна, чужие вечера. Он не улыбался. Но когда кивнул, в этом кивке была узнаваемость: как будто вы встречались глазами в переполненном вагоне и теперь, здесь, уже не надо делать вид, что вы чужие.
– Я… – сказал Кирилл, но звук получился слишком громким для этой тишины, и слово упало на пол, как неловко роняемая мелочь.
– У нас не торгуют вещами, – произнёс Лавочник – так про себя назвал его Кирилл: слишком уж органично сидел он в этой лавке, как птица в гнезде. Голос звучал бархатно-сухо, вроде бы мягко, но оставлял едва заметные царапины где-то внутри. – У нас торгуют шансами. И сожалениями.
Кирилл сглотнул. Горло стало узким, во рту – привкус железа, будто он прикусил язык. Он обвёл взглядом полки. Вещи не смотрели на него – но словно ждали, пока он посмотрит на них. Флакон на витрине, где янтарь дышал, теперь стоял прямо на прилавке. Он не помнил, чтобы хозяин передвигал его. Свет в флаконе выбивался на пол-тона теплее, чем воздух вокруг, и это неправильно согревало ладони.
– А если… – начал он, не будучи уверен ни в вопросе, ни в праве его задавать.
– Если вы решите, – Лавочник слегка наклонил голову, – вы назовёте то, чего вам недостаёт. И то, чем готовы заплатить. Всё честно.
«Честно», – повторил у себя Кирилл, и что-то в этом слове откликнулось, как ржавый болт, сорвавшийся с резьбы. Он услышал шорох страниц – будто там, в книги, по линейке ходило время. Ему хотелось сесть – ноги вдруг стали ватными, колени слегка предательски дрогнули. Он ловил дыхание, как губами ловят крошку на ветру. И вдруг до смешного ясная мысль: «Не делай ничего. Развернись. Выйди. Забудь». Мысль тут же затонула в густом, чуть сладком, чуть аптечном запахе полыни.
– Я только посмотрю, – сказал он, чтобы как-то оправдать своё присутствие самому себе.
– Смотреть – уже начинать, – заметил Лавочник, но не остановил.
Кирилл медленно прошёл вдоль полок, читал надписи на крохотных карточках. «Разговор, который не состоялся». «Письмо, отправленное вовремя». «Шанс уехать». «Шанс остаться». Причудливые предметы лежали рядом, будто составляли нелепую семью: чужая варежка, запаянная в прозрачную упаковку; крохотный компас, всё ещё не показывающий север; жестяная коробочка с пуговицами, где каждая была из разного пальто. Но взгляд возвращался к флакону на прилавке, как язык возвращается к щели в зубе.
– Вы выглядите усталым, – сказал Лавочник безоценочно, констатацией, как говорят «сегодня дождь». – Усталость – первый признак того, что человеку нужен шанс.
– Мне нужен… – Кирилл попробовал на вкус будущее. На языке было пусто. – Мне нужен воздух. И чтобы всё это было не со мной.
– Воздух мы не продаём, – чуть заметно усмехнулся хозяин. – А вот «как будто не со мной» – это богатая категория. Но для начала – простой опыт. Маленький. На пробу. Вас зовут Кирилл?
Он кивнул, хотя не помнил, чтобы назывался. В груди вдруг стало тесно, и сердце, как мышь в коробке, перебежало от одной стенки к другой.
– Я ничего не обещаю, – сказал он. – Я просто… посмотрю.
– Разумеется, – сказал Лавочник. – Мы не навязываем. Мы лишь… открываем двери.
Колокольчик не прозвенел снова. Время шуршало страницами книги. И кирилловы пальцы, холодные, как подтаявший лёд в стакане, сами потянулись к теплу в стекле.
Глава 2. Цена за успех
– Мне… – голос застрял в горле, как косточка от слишком поспешно съеденной вишни. – Мне бы сдать один экзамен. По матану. У меня… – он выдохнул, как будто признание требовало силы, – отчисление на носу.
Лавочник улыбнулся так, будто починил у себя внутри маленькую пружину вежливости. Улыбка не согрела. Он опустился под стойку, где должен был бы стоять банальный ящик с мелочёвкой, и достал оттуда небольшой пузырёк с бежевым ярлыком. На бежевом было выведено аккуратным, старорежимным почерком: «Экзамен, сданный успешно». Внутри клубилось то самое тёплое свечение – как мед, который переливают туда-сюда – густой, терпеливый, без суеты.
– Оплата проста, – сказал он. – Воспоминание. Любое, которое вы назовёте. Уйдёт чисто, без шрама. Вы даже не заметите, что его нет, если не начнёте искать.
Слова легли прямо: «без шрама». Кирилл сглотнул. Во рту было сухо. Он усмехнулся неуверенно, ощупью, как улыбаются, заглядывая в темноту.
– У меня их… немного, – сказал он, и это вдруг прозвучало почти жалобно. – Забирайте то, как я бросил футбол в девятом. Нечего помнить. Мы тогда… – он поискал на дне памяти смешок друзей, запах раздевалки, но всплыла только картинка мятой формы, которую было не жалко.
– Нельзя отдавать чужое, – мягко поправил Лавочник, и у «мягко» была лёгкая жёсткая щепка. – Только то, чем вы дорожите. Иначе не сработает.
Он замолчал. В тишине было слышно, как где-то, далеко, машинально и не к месту капает вода. В груди похолодело: не мороз, а чёткая, стальная прохлада, как от открытого холодильника в тёмной кухне ночью. «Чем я дорожу?» – повторил про себя. Ответ встал сразу: вечер. Дождь, который барабанит по карнизу. Абажур с заусенцем на кромке, который он любил щупать пальцем. Запах новых, толстых книг – хруст бумаги при первом открытии. Ладони отца, которые двигают фигуры на доске и смеются глазами: «Смотри, не бойся проиграть. Проигрыш – самый честный учитель». Он носил этот вечер внутри, как гладкий камень. И именно потому ответ показался ему правильным: «Проживу и без этого. Сейчас важнее остаться на курсе. Потом… потом как-нибудь».
– Тот вечер, – тихо сказал он, не поднимая глаз. Слова вышли, как пар изо рта в холоде. – Когда отец учил меня шахматам. Пускай будет он.
Лавочник кивнул. Колокольчик где-то в глубине тонко звякнул – не сверху двери, а с боку, как если бы по стеклу провели металлическим ногтем. Пузырёк лёг в ладонь. Тепло от него будто бы не входило в кожу – оно обтекало её, как вода камень, и от этого ладонь казалась чужой. Кирилл поднял стекло к свету – тёплая росинка внутри мелко дрогнула – и выпил.
Вначале – ничего, только сладковатый привкус, напоминающий детский сироп от кашля. Потом – как будто у него в груди аккуратно смяли какой-то смятый лист бумаги и вынули. Стало легче дышать, легче держать спину, легче стоять прямо. Тревога, которой он последние дни подпирал мысли, отступила, как вода от берега, оставив влажный след, но уже не покрывая обувь. В висках – ясность. «Поеду и сдам», – подумал он, и эта мысль была тверда, как ступенька, поставленная на место.
Экзамен пошёл как по рельсам. Преподаватель, чьё лицо обычно собиралось в гармошку, разгладил лоб, троекратно задавал уточняющие вопросы, медленно улыбнулся. В аудитории пахло стёртой мелом тряпкой, и Кирилл вдруг поймал себя на том, что слушает, как глухо стучит мел о доску, и это – приятный звук. «Молодец», – сказал преподаватель и поставил рядом с фамилией аккуратную оценку. Друзья обступили, похлопали по плечу, кто-то сказал «ну вот видишь», кто-то предложил ночь «оценить результат». Внутри было тихо и широко, как в пустой библиотеке после закрытия, когда книги живут отдельно от людей.
А вечером дома он остановился у шкафа. На верхней полке, под свёрнутым шарфом, лежала шахматная доска – старая, с тёплой, отполированной доской, на которой в детских руках заполнялись чёрно-белые клетки смыслами. Он смотрел и не понимал. «Зачем она здесь? – спросил он у себя. – Откуда?» Пальцы подняли крышку; слева мягко звякнули фигуры – деревянные, гладкие. В груди – пусто. Пустота не ранила; она просто констатировала себя. Он попытался достать одну память; другая обычно подхватывала её под локоть. Теперь – нет. Он знал слова: «ладья», «ферзь», «рокировка», но не знал их вкуса. Как знать буквы, не уметь читать.
Он снял крышку, подержал и, не разобравшись, поставил всё на место. В шее довольно громко щёлкнул позвонок. «Усталость, – сказал он мысленно. – Ничего. Завтра пройдёт». В окне – тёмная вода неба. Где-то звонко смеялись соседи. Телефон вибрировал поздравлениями. Он прочитал, ответил сердечками и отключил звук.
Ночью ему снилось, что он идёт по длинному коридору, уставленному одинаковыми дверями. На каждой – маленькая табличка с годовщиной, и из всех щелей тянет тёплым медом и пылью. Он выбирает одну, толкает – и внутри пустая комната с шахматной доской, на которой стоят все фигуры, но не хватает одного квадрата. Белого или чёрного – он не мог понять; просто дыра. Сквозь неё видно воду. На дне воды лежит маленькая бежёвая этикетка. Он тянется – и просыпается с сухим языком и стучащими в висках пульсами.
Утром он не вспомнил сон. В голове стояла ровная, удобная тишина.
Глава 3. Пустые клетки
Утро принесло победу, как приносит чужой почтальон чужую открытку: улыбчиво, но немного не туда. На столе осталась открытая тетрадь, в ней глубокая ямка от ручки – он, кажется, что-то выводил, пока не ушёл спать. На подоконнике – серая пыль, которой не уделяют внимания, пока не пишут пальцем «позвони маме». Кирилл постоял у окна, ловя носом холодный, водянистый свет, и успокоился – город жил свою жизнь, равнодушный к его вчерашнему успеху, и от этого становилось легче: будто на него не смотрят.
Шкаф, на верхней полке которого лежала шахматная доска, чинно молчал. Кирилл потянулся, снял коробку, почувствовал привычный вес. «Купил? Подарили? – он перебирал варианты, как перебирают чётки. – Сколько мне было? С кем?» Ниточка уходила в белёсую пустоту – не обрывалась, а исчезала, как если бы её никогда и не было. Он сморщился; в груди – хруст тонкого льда. «Ладно, потом», – произнёс он шёпотом, как ребёнок, убаюкивая собственное беспокойство.
На кухне пахло растворимым кофе, тостами и влажными полотенцами. Маша стояла у плиты в толстых носках, смешных, с оленями, завязав волосы в тугой узел на макушке. У неё был тот утренний вид, который обещает порядок днём: яркий, деловой, немного строгий. Она повернула голову, улыбнулась – улыбка оказалась мягкой, как использованная тканевая салфетка.
– Кофе? – спросила. – Я налила, ты вчера как метеор был – пролетел и исчез.
– Спасибо, – сказал он, и «спасибо» отвесило шапку, как сосед по подъезду. Он сделал глоток и морщась, потому что язык всё ещё был чужой, присел к столу. – Вчера… всё прошло.
– Я видела в чате, – кивнула. – Поздравляю. – Она повернулась, вытащила из тостера корочку, осторожно подула. – Ты сегодня к отцу поедешь?
Он поднял глаза. Внутри что-то – не звук, не мысль – как будто оступилось. Ладони на кружке стали холодные. Горячий ободок, наоборот, обжёг пальцы, и от прикосновения по запястьям разбежались мурашки.
– Зачем к отцу? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, как натянутая скатерть. – Мы… редко общаемся.
Маша помолчала. Маленькая складка на переносице собралась; она смотрела так, как смотрят на сбившийся рецепт – точно понимая, что нужно добавить соли, но не понимая, куда она исчезла.
– Ты же сам рассказывал, – сказала она, чуточку медленнее, будто вспоминая вместе с ним. – Как он тебя шахматам учил. Ты всегда так… – она поискала слово, – светился, когда говорил об этом.
Свет погас. Это было почти буквально: мир, как комната, где уменьшают яркость на диммере. В висках забарабанило – так бьют в стекло кончики пальцев, когда кто-то пытается объяснить через окно кое-что срочное. Он раскрыл рот, но язык не нашёл фразы. В горле – сухо; глоток кофе шелушнулся и застрял.
– Я… – он усмехнулся, но улыбка вышла не туда и не о том, – наверное, ты путаешь. Мы с ним… ну… – пальцы сами нашли на столе крошку и начали катать её кругами, как будто от движения возвращается память. Внутри путаясь, он искал хотя бы деталь: кружка отца, шрам на пальце, звук его голоса, когда он говорит «шах» – и ничего. Пустые клетки. Поле – есть, фигуры – есть, а кое-где – выеденные квадраты, как в сыре, который аккуратно грузут мыши.
Маша осторожно поставила на стол тарелку. Посмотрела. И взгляд этот был как ладонь, приложенная к лбу – проверяющая, не жар ли.
– Может, это я путаю, – сказала она слишком быстро. – Ладно, неважно. Главное, что ты сдал. Что дальше?
– Дальше… – Он попытался зацепиться. «Дальше – спокойно. Дальше – жить. Дальше – ещё один шанс». Уголки губ он заставил подняться, уговаривая их сесть ровно. – Дальше будет хорошо.
Она кивнула, но складка на лбу не исчезла. Они говорили о мелочах – о сломанном смесителе, о соседе, который снова курил на лестнице, о том, как в столовой внезапно стали вкусные сырники. Кирилл слушал, стараясь не пропускать ни слова, как школьник, которому велено конспектировать. Слова стучали о его внимание и, не оставляя вмятин, отскакивали, как горох от кастрюли.
После завтрака он ушёл в комнату, сел на край кровати и долго смотрел на свои ботинки. На носках – старые царапины. «Где я их поставил?» – подумал он и не нашёл кадра. Он поднялся, подошёл к шкафу, снова снял шахматную доску. Ногтем нащупал еле заметный скол на ребре – и вместе с этим, вдруг, как искра от огнива – взгляд со стороны: мальчик с растрёпанной чёлкой, рука мужчины, широкая тень ладони на клетках. «Смотри», – шевельнулось в воздухе. Но звук утащила внутренняя тишина, и образ, не успев ожить, рассыпался. В животе пошевелился холодок, как если бы там плыла мелкая рыба и случайно задевала внутренности хвостом.
Он сел к столу, открыл ноутбук. Пальцы сами набрали «шахматы отец». Поисковик вывалил сотни чужих историй и фотографий – где-то очень похожие руки, где-то похожая лампа. Он читал абзацы – как ленты чужого прошлого – и чувствовал, как внутри у него шевелится не ревность даже, а пустота с острыми краями. «Честно отдал, – сказал он себе неожиданно строгим тоном. – Честно получил. Это была сделка. Сделки – не повод для жалоб».
В дверь негромко постучали. Маша просунула голову.
– Я в универ, – сказала. – Ты вечером зайдёшь ко мне? У нас сегодня кино… – Она запнулась, посмотрела внимательнее. – Ты… всё в порядке?
Он поднял глаза, улыбнулся слишком быстро – улыбка получилась из пружины, но пружина была с ржавчиной.
– Да. Всё нормально. Просто… – он поискал безопасное слово, – думаю.
– О чём?
– О том, что… – он задержал дыхание и вдруг решился на честность, но честность вышла кривой, как письмено левой рукой, – странно знать, что всё – на своих местах, и в то же время чувствовать, будто ты в своей же комнате, но в чужой обуви.
Она не поспорила. Подошла, села рядом, молча положила ладонь ему на затылок – тяжёлая, теплая ладонь, как у тех, кто умеет гладить кошек так, чтобы они мурлыкали. И ему впервые за утро захотелось закрыть глаза.
– Кирилл, – тихо сказала Маша. – Если это из-за вчера… Если ты… – она сжала губы, – просто не делай вид, что всё хорошо, если не хорошо. Я рядом. Я смогу понести с тобой.
«Я рядом», – повторил он. Слова прошли сквозь него, как сквозняк. Он кивнул – чтобы не ранить её отказом в нужности – и почувствовал, как откликается внутри благодарность. Настоящая, не стеклянная. «Держись за это», – сказал себе.
Когда Маша ушла, он снова открыл шкаф и, не трогая доски, задержал руку в воздухе. Кожа на пальцах покрылась гусиной россыпью. Сердце билось нечасто, но громко, как будто стучало в пустом шкафу. Он прошептал: «Папа». Имя отозвалось эхом – не голосом, а сухим стуком, словно где-то в глубине дома захлопнулась дверь.
Тогда он понял: страх – это не когда страшно. Страх – когда пусто. И ему впервые по-настоящему стало холодно – так, что хотелось натянуть на себя не куртку, а урчащее одеяло из прошлого, которого не было под рукой.
Он включил телефон, нашёл контакт «Папа». Прокрутил историю сообщений: поздравления с Новым годом, с днём рождения – короткие, вежливые, острые на краях, как тонкие крекеры. Хотел написать: «Привет. Помнишь…» – но рука замерла. «Помнишь» – слово как ножик, который лезвием назад. Он набрал нейтральное «Как ты?», стер. Набрал «Заеду на выходных?», стер. Закрыл, снова открыл. В итоге оставил пусто и положил телефон лицом вниз, как будто так можно спрятать от себя собственную нерешительность.
День прошёл в мелких делах, в коротких бегах от мысли к мысли. Он ответил на пару писем, переписал аккуратно конспект – где-то поправил формулировки, где-то поставил значащие галочки. Каждое действие – как маленькая заплатка на прорехе: красиво, старательно, но ткань остаётся тонкой.
Вечером, возвращаясь с Машей с кино, он поймал себя на том, что засматривается на витрины. Его интересовали не вещи – ему хотелось поймать взглядом повторение: буква, цвет, наклон вывески, которые вдруг сложатся в «то». Он заметил, что обходит один квартал, другой – как будто бессмысленно, пока шаги сами не приведут. Мысль пришла тихо, как кошка: «Нужно вернуться. Просто спросить. Узнать, что ещё он может». И от мысли – стало теплее, будто кто-то протянул ему плащ. На секунду стало почти легко.
– Замёрз? – спросила Маша, и он понял, что идёт быстрее обычного.
– Немного, – сказал он. – Дома согреюсь.
Он знал уже, что не домой. Знал, что есть переулок без названия, который знает чужие шаги. И что там – ответы. Или хотя бы – новые пустоты, правильной формы.
Он шёл и слышал, как в висках отбивает темп невидимый метроном. В кармане звенели ключи – странно громко. На перекрёстке его снова подхватил ветер, и ладоням стало холодно, но холод этот был как предвкушение: чистый, честный, без запаха.
И где-то в глубине – очень далеко, как в другой комнате – тонко звякнул колокольчик.
Глава 4. Второй пузырёк
Страх – вещь прожорливая, но послушная. Стоит бросить ему кусочек сладкого – и он, урча, отползает под диван, делая вид, что его не существует. После первого пузырька Кирилл понял это почти телесно: как отламывают у лимона сахарный край и прикладывают к губам – кисло-сладко, щиплет, но терпимо. И потому, когда кошелёк стипендии похудел на треть, а письма с откликами из редакций упорно молчали, он не стал долго уговаривать себя «терпеть». Ноги сами нашли ту арку с плачущей известкой, и пальцы сами вспомнили тяжесть латунной ручки. Звон колокольчика прозвучал так – как при встрече старых знакомых, которые давно перестали задавать друг другу лишние вопросы.
Лавка встретила его прежним полумраком, и в нём – островками света от настольных ламп с потертыми плафонами. Пахло, как и прежде, полынью и медью, но к ним добавился тонкий приторный дух – как от карамели, которая перетопилась и осталась на стенках кастрюли тонкой, тянущейся плёнкой. Прилавок блестел, как полированная кость. На нём лежала всё та же книга, в строках которой, казалось, шуршала не бумага, а чужие судьбы.
– Мне нужна ещё одна удача, – сказал Кирилл и сам удивился, как легко рот выпустил это «ещё». Слово оказалось из разряда тех, что пододвигают к краю.
– Конечно, – ответил Лавочник так, будто слушал продолжение начатого утром разговора. Он не спрашивал «какую» – будто заранее знал ассортимент нужд. – Какая именно?
– Чтобы… – Кирилл провёл языком по сухому нёбу, вбирая слова, как крошки. – Чтобы мне позвонили из редакции. Я отправлял резюме. Хочу, чтобы взяли стажёром. Стипендию урезали, а подработки… – Он развёл руками. Жест вышел детским, почти жалким. Ему стало стыдно за этот жест.
Лавочник склонил голову. Под стойкой тихо скрипнула полка – как старик, который поворачивается на скрипучей кровати. На свет поднялся новый пузырёк, этикетка – бежевее прежней, почерк – такой же аккуратный: «Звонок из редакции. Стажировка». Внутри – тёплый медок, который вдыхал и выдыхал, будто жил своей жизнью.
– Цена та же, – сказал Лавочник.
Слова упали легко, как игральные кости. На секунду Кирилл почувствовал на языке горчинку. «Цена та же» означало: снова открыть в себе кладовую, снова пройтись пальцами по коробкам и выбрать одну – не пустую, не сорную, а ту, где лежит настоящее.
– Возьмите… – он запнулся, и запинка была не игрой, а честным спотыканием. Первой – как будто по очереди – подскочила мысль про «первый поцелуй». Она показалась удобной: вроде бы романтическая мелочь, не то чтобы жизненно важная. Он уже собрался выговорить, уже раскрыл рот, но тело опередило слова. Внутри, под ложечкой, медленно, вязко, как всплытие ртути, поднялась тошнота; губы сжались сами собой. В памяти – не картинка даже, запах: сладкий запах жвачки с привкусом землистого металла брекетов, непопадающий в такт смех, лёгкая боль от задранной пряди волос, которую неловко удержали пальцы. Это «несерьёзное» внезапно оказалось каким-то неснимаемым: как снимают кольцо и понимают, что на пальце осталась выемка.
– Возьмите лучше «первую тройку за сочинение», – выдохнул он, пытаясь оттолкнуть от себя собственную тошноту. – Мне не жалко. Я тогда написал глупость, и училка ещё придвинула журнал… – он махнул рукой, словно отгонял комара.
– Неработающее, – мягко, но безапелляционно сказал Лавочник. В его «мягко» был подслеповатый блеск ножа. – Нужно то, без чего вы станете другим.