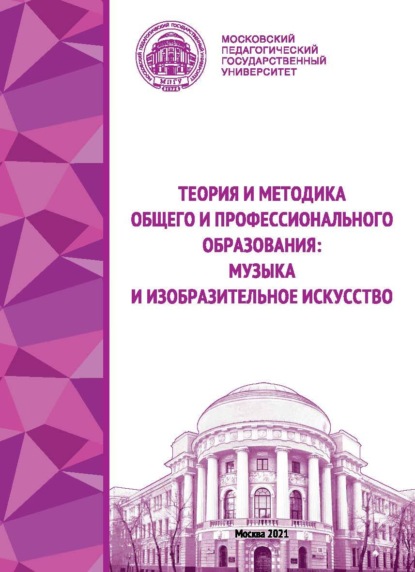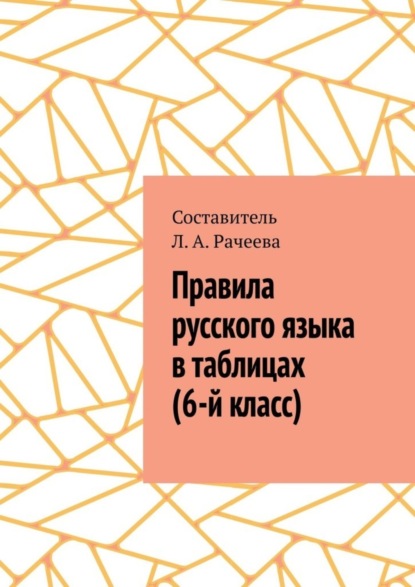- -
- 100%
- +

Предисловие Автора
Иногда кажется, что самые важные книги рождаются не из вдохновения, а из необходимости заговорить, когда все слова уже исчерпаны. Из того безмолвного пространства, где остаются только самые суровые и самые честные истины. Эту книгу я писала не потому, что хотела – потому что не могла не писать. Она стала моим дыханием в те дни, когда воздух казался густым от всего невысказанного между мной и самым главным человеком в моей жизни – моей матерью.
Моя мама – женщина из того поколения, которое не привыкло говорить о чувствах. Для неё любовь всегда была глаголом, а не существительным. Она не произносила нежных слов – она вставала на час раньше всех, чтобы испечь хлеб. Не жалела – но могла ночь просидеть у кровати, когда я болела. Не объясняла жизнь – но показывала её на примере упрямой северной природы, ставшей для нас обоих и тюрьмой, и спасением.
Наши с ней отношения всегда напоминали танцующих глухих – мы двигались в ритме, который слышали только кожей, но не ушами. Я, выбравшая путь слова, и она, избравшая путь дела. Две вселенные, разделённые общим языком молчания. А потом пришла болезнь. Та самая, перед лицом которой все обиды кажутся мелкими, все недопонимания – суетными. И в этой тишине больничных палат, в промежутках между капельницами и процедурами, я начала слышать. Слышать то, что было недоступно мне раньше – не громкие признания, а тихий голос её жизни. Историю, записанную не чернилами, а шрамами на руках, не в дневниках, а в морщинах у глаз, не в письмах, а в том, как она смотрела на море.
Эта книга – попытка расшифровать эту историю. Попытка понять женщину, которая была для меня и загадкой, и опорой, и чужой, и самой родной. Это мой дневник узнавания матери – не той, какой я хотела её видеть, а той, какой она была на самом деле. Сильной там, где я ждала слабости. Нежной там, где я видела только суровость. Мудрой там, где мне казалось – упрямство.
Я не знаю, получилось ли у меня. Но я знаю – каждая строчка здесь написана кровью сердца. Каждая сцена прожита не как литературный сюжет, а как часть моей собственной кожи, своей судьбы.
И если эта книга найдёт отклик в чьем-то сердце – в сердце дочери, которая тоже ищет путь к матери, или матери, которая хочет быть понятой своими детьми – значит, она написана не зря. Значит, наше молчание, наши поиски, наша боль и наша любовь могут стать мостом для кого-то ещё.
Эта книга – моя исповедь и моя благодарность. Исповедь дочери, которая слишком поздно научилась слушать тишину. И благодарность женщине, которая научила меня главному – любовь не в словах, а в умении быть. Просто быть рядом. Даже когда кажется, что между вами – целое море непонимания. Возможно, после прочтения этой книги вы посмотрите на своих близких иначе.
Возможно, найдёте в себе смелость сказать то, что годами откладывали. Или просто – помолчите вместе. По-новому. Так, чтобы тишина стала не пустотой, а самым честным разговором из всех возможных.
Мадина Федосова
Осень 2025 года
Пролог
Ветер гудел в щелях между брёвнами, словно этот старый дом на краю земли дышал полной грудью. Я сидела на полу в прихожей, прислонившись спиной к двери, которую только что закрыла за собой. Пахло мокрой собачьей шерстью, хотя собаки здесь не было уже лет двадцать, и воском от той самой свечи, что мать ставила в красном уголке каждый вечер – «за здравие доченьки в городе». Городской доченьке сейчас было тридцать четыре, она пахла дорогими духами и поездом, мчавшим её из другой жизни, а этот знакомый запах воска и пыли щекотал ноздри, возвращая в семь лет, в четырнадцать, в семнадцать…
Я провела ладонью по половицам. Они были холодные, отполированные временем и босыми ногами поколений. Вот широкая щель у порога – в ней до сих пор торчал осколок синего стеклянного шарика, с которым я когда-то играла в детстве. Помню, как ревела, когда он закатился туда, а мать, вместо того чтобы утешить, буркнула: «По полу швыряться – последнее дело. Сама виновата». Чуть дальше – узкая, почерневшая трещина. Туда провалилась её единственная серьга-гвоздик в ночь моего первого настоящего бунта, когда я в шестнадцать пришла домой под утро. Мы тогда молча смотрели друг на друга, две разъярённые кошки, а потом она резко повернулась, и серьга со звонком отскочила и исчезла в этой чёрной щели. Мы так и не нашли её. Как не нашли и дорогу друг к другу в тот вечер.
А вот свежий зазор, ещё пахнущий сосновой смолой. Рядом валялась полурастворённая белая таблетка. Я подняла её, покатала между пальцев. Это была таблетка от давления. От сердца. От чего-то ещё, о чём она мне не говорила, как не говорила никогда ни о своей усталости, ни о боли, ни о страхах. Её мир был миром действий, а не слов. Разбила коленку – промой, завяжи. Продуло на море – пей чай с малиной. Сердце болит?.. Никогда не слышала, чтобы она жаловалась на сердце.
За окном, в предрассветной мгле, угадывались силуэты шхер – тёмные, исполинские, молчаливые. Они были похожи на спящих китов, вынырнувших из холодных вод и застывших навеки. С детства я слышала их разговоры – это был гул ветра в расщелинах, шёпот волн, скользящих по камням. Теперь мне казалось, что они говорят на её языке. Языке терпения, выносливости и вещей, оставшихся неназванными.
«Молчание – не пустота, – подумала я. – Это комната, где хранится всё, для чего не нашлось слов». Эта мысль легла на душу точным, выверенным грузом.
Я закрыла глаза, откинув голову на скрипучую дверь, и попыталась представить, как мог бы звучать её голос, если бы он был наполнен не бытовыми указаниями, а нежностью. Не «поставь чайник» или «купи хлеба», а… а чем? Я не могла даже вообразить. Её любовь была беззвучной, как давление атмосферы – невидимой, но постоянной, без которой невозможно дышать.
Сколько раз я клялась себе: ноги моей здесь больше не будет. Этот дом, этот горьковатый запах полыни у крыльца, это вечное упрямое молчание… Я строила свою жизнь в шумном городе, где слова летали по воздуху лёгкими, ничего не значащими пузырями. Где можно было говорить «люблю» и «ненавижу», не вкладывая в это всю душу. Где не нужно было читать между строк, потому что строки, по сути, и не было.
Но один звонок от соседки, скрипучий и испуганный – «Приезжай, с твоей мамой плохо, в больницу забрали» – стёр все эти клятвы. Её болезнь, эта новая, страшная реальность, оказалась единственным, что говорило громче наших старых, истёртых до дыр обид.
Я поднялась с пола, отряхнула ладони о джинсы. В кармане зазвонил телефон – наверное, редактор спрашивал о рукописи, сроки которой я сорвала. Я заглушила звонок. Все эти дела, контракты, встречи теперь казались игрушечными, ненастоящими. Единственной реальностью был этот холодный дом, эти щели в полу, хранящие историю нашей семьи, и та тишина, что ждала меня в соседней комнате, где на старой кровати, подложив под спину валик, лежала моя мать. Женщина, которую я не знала. Женщина, которую мне предстояло узнать. Пока не стало слишком поздно.
Часть Первая
Молчание
Глава 1
Возвращение
Автобус, старый «ПАЗ» с потёртыми до дыр сиденьями и дребезжащими стёклами, выбросил меня на обочину как ненужный груз. Он постоял с минуту, выпуская клубы чёрного дыма, затем рыча тронулся дальше, вглубь полуострова, оставив меня одну среди безмолвия и ветра. Я осталась стоять на краю грунтовой дороги, в двух километрах от посёлка, как и договорилась по телефону с водителем. «До Раковой щели пешком доберёшься, машине там не развернуться», – буркнул он тогда. Раковая щель. Это место до сих пор называли так же, как сто лет назад.
Пахло. Пахло так, что у меня перехватило дыхание. Не городской смог и не ароматы кофеен, а нечто первозданное и неумолимое. Свежесрубленной сосной – где-то рядом валили лес. Солью и йодом – с моря тянуло предштормовыми предчувствиями. И ещё чем-то горьким, полынным – это дымили печи в посёлке, топили болотным торфом. Я сделала глубокий вдох, и этот коктейль запахов ударил в голову, как крепкий алкоголь, вызывая одновременно и тошноту, и странное головокружение. Это был запах моего детства. Запах, от которого я бежала.
Я взвалила на плечо дорожную сумку и пошла по разбитой колёсами тракторов дороге. По бокам тянулись бесконечные заросли облепихи и шиповника, голые колючие ветки цеплялись за моё пальто, словно не желая отпускать. Слева, за невысоким холмом, лежало море – свинцовое, тяжёлое, покрытое белыми барашками волн. А справа, на самом горизонте, высились те самые шхеры – тёмно-лиловые, покрытые редким лесом, похожие на спины доисторических животных, пришедших на водопой и окаменевших навеки. «Природа не знает слова "прощай", – пронеслось у меня в голове. – Она только "до свидания", даже если это свидание длиной в десять лет».
Дорога сделала крутой поворот, и посёлок открылся передо мной во всей своей суровой красе. Три десятка деревянных домов, разбросанных по склону холма, как серые грибы после дождя. Деревянный причал, у которого качались несколько рыбацких баркасов. И знакомая каждому жителю вывеска, выцветшая от времени, но всё ещё читаемая: «Раковая щель. Основан в 1897 году». Ниже, мелким шрифтом, кто-то когда-то написал краской: «Край земли. Дальше – только вода и небо».
Я шла по единственной улице, и меня охватывало странное чувство. Ничто не изменилось. Тот же старый колодец-журавль с заиндевевшим ведром. Та же лавка с заколоченными окнами, где когда-то продавали хлеб и консервы. Та же скамейка у дома рыбака Геннадия, на которой он чинил сети и всегда предлагал прохожим кружку чая. Только сейчас скамейка была пуста. Всё было так же, но всё было иначе. Будто я смотрела на старую чёрно-белую фотографию, на которой когда-то были изображены живые люди, а теперь остались лишь их тени.
Наконец я подошла к калитке. Наш дом. Он стоял чуть в стороне от других, ближе к воде, под защитой высокой гранитной скалы. Деревянный, одноэтажный, с резными наличниками, которые когда-то, в моём детстве, были выкрашены в синий цвет, а теперь облупились до серого дерева. Крыльцо покосилось ещё сильнее. В окнах не горел свет, хотя сумерки сгущались быстро.
Я толкнула калитку, и та издала тот самый, навеки врезавшийся в память, скрип. Скрип моего детства, скрип ухода, скрип возвращения. Двор был таким же, каким я его оставила: аккуратные поленницы дров, сложенные под навесом, сарай с лодками, огород, перекопанный на зиму. И скамейка. Та самая скамейка, на которой мы сидели с ней в последний вечер перед моим отъездом. Мы не говорили тогда. Просто сидели и смотрели на залив.
Сердце заколотилось где-то в горле. Я медленно поднялась на крыльцо. Дверь была не заперта. Здесь никто никогда не запирался. Я взялась за холодную железную скобу, на мгновение закрыла глаза, а затем толкнула дверь.
Запах. Он обволок меня, как паутина. Воск от церковных свечей, которые она всегда покупала в монастыре за тридцать вёрст. Кисловатый запах ржаного хлеба, который она пекла сама, по старинному рецепту. Сушёная мята, которой она набивала подушки от бессонницы. И ещё что-то… что-то новое, чужеродное – сладковатый, лекарственный запах, от которого похолодело внутри.
Я стояла в прихожей, не в силах сделать шаг. Из кухни донёсся звук передвигаемого стула, затем медленные, тяжёлые шаги. И вот она появилась в дверном проёме.
Ирена. Моя мать.
Она постарела. Седина в её когда-то тёмных волосах стала почти абсолютной, и они были собраны в тот же тугой, не терпящий возражений узел. Лицо, всегда строгое и замкнутое, покрыла сеть мелких морщинок, особенно вокруг глаз и губ. Но осанка была всё такой же прямой, почти военной, а взгляд – таким же пронзительным, видящим насквозь. На ней было простое тёмно-синее платье и фартук. В руках она держала кухонное полотенце.
Мы молча смотрели друг на друга. Секунды растягивались, наполняясь тяжестью десяти лет разлуки, всех несказанных слов, всех обид, всех упрёков.
– Ливия, – наконец произнесла она. Она не сказала «дочь» или «ты приехала». Просто назвала меня по имени, ровным, лишённым эмоций голосом.
– Мама, – выдохнула я, и это слово показалось мне чужим, вышедшим из употребления.
– Ты опоздала на автобус, – заметила она, её взгляд скользнул по моей сумке. – Последний из города приходит в три.
– Его отменили. Пустили по зимнему расписанию, – ответила я, чувствуя себя виноватой, будто опоздание на автобус было моей очередной ошибкой перед ней.
Она кивнула, как будто это объяснение всё ставило на свои места. – Ты промёрзла в дороге. Иди, разувайся. Поставлю чайник.
Она повернулась и ушла на кухню. Я осталась стоять посреди прихожей, сняв пальто и повесив его на знакомый крючок. На стене висело старое, потускневшее зеркало. Я поймала в нём своё отражение – осунувшееся лицо, тёмные круги под глазами, следы усталости. «Мы возвращаемся не для того, чтобы найти себя, – подумала я, глядя на своё отражение. – Мы возвращаемся, чтобы понять, от чего бежали».
С улицы донёсся крик чайки, резкий и тоскливый. Я вздрогнула. Всё было так, как прежде. Тот же дом, те же запахи, та же женщина на кухне, заваривающая чай. Та же тяжесть в воздухе. Но теперь между нами висело не просто молчание. Висела её болезнь. Та самая, о которой мне сообщила соседка шёпотом, по телефону, словно боясь сглазить. Та, о которой сама Ирена не сказала мне ни слова.
Я сделала глубокий вдох и пошла на кухню, навстречу чаю, навстречу молчанию, навстречу всем призракам прошлого, которые поджидали меня в этом доме, пахнущем воском, хлебом и лекарствами.
Глава 2
Старые стены
Кухня встретила меня тем же полумраком и тем же воздухом, густо замешанным на ароматах, которые складывались в незримую летопись этого дома. Пахло дымком от печи – не городским смогом, а чистым, древесным дымом, вобравшим в себя запах сосновых поленьев. Пахло солёным морским ветром, проникающим сквозь щели в рамах, и чем-то ещё – стойким, горьковатым, аптечным. Этот новый запах витал над привычной палитрой, как надоедливая нота, нарушающая гармонию старой музыки.
Комната была невелика, с низким потолком, закопчённым от времени, и маленьким окошком, выходящим в огород. На подоконнике, где раньше стояли банки с домашними заготовками, теперь выстроились в аккуратный ряд склянки с лекарствами – коричневые и прозрачные, с наклеенными поверх рецептов этикетками, испещрёнными врачебными пометками. Рядом лежала старая, истрёпанная тетрадь, исписанная её твёрдым, угловатым почерком – расписание приёмов, дозировки, какие-то заметки. Эти свидетельства её нынешнего состояния казались криком, нарушающим тишину привычного быта.
Ирена стояла у плиты, спиной ко мне, и разогревала массивный медный чайник, доставшийся ей ещё от бабушки. Её движения были выверенными, экономными, без единого лишнего жеста. Она никогда не суетилась. Даже сейчас, когда болезнь, должно быть, диктовала ей свою волю, она сохраняла эту твёрдую, почти стоическую выдержку. На ней было простое шерстяное платье тёмного цвета и фартук, завязанный на талии. Я заметила, как платье висит на ней чуть свободнее, чем раньше.
– Садись, – сказала она, не оборачиваясь. Её голос прозвучал ровно, без намёка на волнение или удивление. – Вода скоро закипит.
Я опустилась на знакомый стул у стола, застеленного выцветшей клеёнкой в мелкий синий цветочек. Сиденье было протёрто до дыр, и я узнала ту самую вмятину, которую оставила ещё в детстве, когда, качаясь, упала и разбила колено. Мать тогда не стала меня жалеть. «На глупостях себя не жалеют», – сказала она, промывая рану перекисью, от которой щипало так, что я плакала от боли и обиды. Мне было семь лет. Сейчас, проводя ладонью по шершавой поверхности стула, я снова почувствовала ту детскую обиду, острую и беспомощную.
Мой взгляд скользнул по стенам. Они были испещрены следами нашей с ней общей жизни, как кора старого дерева – годовыми кольцами памяти. Вот за стеклом старой деревянной рамки, потускневшей от времени, застыла фотография: она – молодая, с густыми тёмными, ещё не тронутыми сединой волосами, убранными в строгую причёску, и я, маленькая, лет пяти, с двумя торчащими в разные стороны косичками, сижу у неё на коленях. Мы обе смотрим в объектив, и на наших лицах – улыбки. Я не помнила этого момента. Не помнила, чтобы она так легко и открыто улыбалась. Рядом висел отрывной календарь с видами северной природы, застывший на странице двухлетней давности. «Время в этом доме не бежит, – промелькнула мысль. – Оно стоит, как вода в лесном болотце, покрываясь тиной забвения».
Но были и новые, чужие детали. На дверце старого холодильника, гудевшего, как уставший зверь, были прилеплены магнитом в виде маяка несколько рецептов, выписанных аккуратным, но незнакомым почерком. На дверце буфета, где раньше висела моя детская рисунок с кривым домиком, теперь висело то самое расписание приёма таблеток, составленное её рукой. Эти свидетельства её нынешнего состояния выглядели инородными телами, внедрёнными в привычный, отлаженный годами ландшафт моего детства.
Чайник на плите зашипел, затем засвистел тонким, пронзительным звуком, знакомым до слёз. Ирена ловко сняла его с огня и налила кипяток в небольшой керамический заварочный чайник, покрытый мелкими трещинками-паутинками. Затем она поставила на стол две простые жестяные кружки, без каких-либо узоров. Никакого фарфора, никаких изысков. Всё просто, утилитарно, без намёка на декоративность. «Красота в практичности», – часто говорила она.
– Сахар есть? – спросила я, просто чтобы сказать что-нибудь, разорвать тягостное молчание, дать голосу звук, подтверждающий, что я здесь, что мы – две взрослые женщины – сидим за одним столом после десяти лет разлуки.
– В банке, на полке, – она кивнула в сторону буфета, не глядя на меня. – Бери, если хочешь. Я не кладу. Перебивает вкус.
Я встала, подошла к буфету и нашла ту самую жестяную банку из-под леденцов, в которой она всегда хранила сахар. Открыв её, я увидела, что сахар слежался в один твёрдый, почти каменный ком, покрытый сверху тонкой корочкой. Я попыталась раскрошить его ложкой, но безуспешно – комок лишь с глухим стуком отскакивал от металла.
– Давно не открывала, – прокомментировала она, наблюдая за моими бесплодными попытками. Её голос был спокоен. – Чай и без сахара неплох. Научишься чувствовать настоящий вкус.
Я оставила попытки, с чувством лёгкого раздражения вернулась к столу и налила себе чаю из заварочного чайника. Напиток был тёмным, почти чёрным, густым и горьковатым. Таким, каким она всегда его заваривала. «Чай должен быть как жизнь – крепким, без прикрас, чтобы не обманываться», – говорила она мне когда-то. Я сделала глоток. Горечь разлилась по языку.
Мы сидели и пили чай. Молча. Звук наших глотков, мерное тиканье старых настенных часов с маятником и завывание ветра, бьющего в оконные рамы, – вот и вся симфония, сопровождавшая наше воссоединение. За окном уже совсем стемнело, и в тёмных стёклах отражалась наша с ней силуэты – две неподвижные фигуры, разделённые столом и годами невысказанного.
– Соседка Валентина, когда звонила, говорила, тебя в больницу возили, – наконец произнесла я, не в силах больше выносить эту тишину, эту тягостную паузу, длившуюся, казалось, вечность. Мои слова прозвучали громче, чем я предполагала, нарушив привычный уклад кухни.
Ирена отпила небольшой глоток чая, прежде чем ответить, как бы взвешивая слова. – Возили. Месяц назад. Прокапали. Сделали снимки. – Она махнула рукой в сторону подоконника со склянками. – Теперь вот таблетки пью. Курс. Ничего особенного. Возрастное.
– Что именно… что говорят врачи? – настаивала я, чувствуя, как внутри всё сжимается от тревоги. – Что за болезнь?
Она посмотрела на меня поверх края своей кружки. Её взгляд был прямым, ясным, но в глубине глаз таилась усталость, которую она не могла или не хотела скрыть. – Сердце, – сказала она коротко. – Старое, уставшее. Сказали, надо беречься. Меньше работать, больше отдыхать, волнений избегать. – В её голосе прозвучала едва уловимая, сухая ирония. Отдых и отсутствие волнений были для неё понятиями из другой, незнакомой жизни.
– Мама, – начала я, и это слово снова показалось мне чужим. – Может, стоит поехать в город, к специалистам? Я могу договориться, найти хороших врачей, оплатить…
– Не надо, – она резко, почти грубо перебила меня. Её брови слегка сдвинулись. – Здесь у меня свой врач, Фёдор Иванович. Человек хороший, знающий. Всё необходимое есть. Лекарства выписывает, процедуры. – Она отпила ещё чаю и добавила, и её голос вновь стал ровным и бесстрастным: – Я справляюсь.
Эти слова – «я справляюсь» – были её жизненным девизом, её кредо, её щитом и её проклятием одновременно. Она справлялась одна, когда отец ушёл от нас, когда денег не хватало до зарплаты, когда крыша протекала, а зима была лютой. Она справлялась, когда я болела, когда плакала из-за мальчиков, когда уезжала. Она всегда справлялась. Одна. И теперь, когда её собственное тело предавало её, когда сердце, этот неутомимый мотор, давал сбой, она всё ещё пыталась справляться. Одна. Без посторонней помощи. Без моей помощи.
Я хотела сказать что-то, возразить, настаивать, привести доводы, но слова застряли в горле, словно комок того самого окаменевшего сахара. Я видела в её глазах то самое знакомое, несгибаемое упрямство, ту самую стену, которую мне никогда не удавалось пробить ни слезами, ни криками, ни уговорами. «Самые прочные стены строятся не из камня и не из дерева, – с горечью подумала я. – Их возводят из молчания и гордости, и разобрать их можно только своими руками, да и то не всегда».
Мы допили чай в тишине, которая снова опустилась между нами, густая и непробиваемая. Затем она встала, взяла мою кружку и свою, отнесла к раковине и сполоснула их. Вода зашумела, нарушая тишину.
– Комната твоя как была, так и есть, – сказала она, вытирая руки о фартук. – Постельное бельё свежее, наволочки чистые. Можешь идти, располагайся. Завтра с утра дрова нужно будет поколоть, печь протопить.
Я просто кивнула, встала и вышла из кухни, оставив её одну с её болезнью, её упрямством и её молчанием. Я пошла по тёмному коридору в свою старую комнату, чувствуя себя не дочерью, вернувшейся в родной дом, а незваным гостем, случайным путником, нарушившим чей-то давно и твёрдо установленный порядок. Воздух в коридоре пах пылью и старыми книгами. «Мы возвращаемся в места своего детства не для того, чтобы найти там утешение, – пронеслось у меня в голове. – Мы возвращаемся, чтобы встретиться с призраками, которых сами же и создали».
Глава 3
Первая находка
Утро в Раковой щели наступало не постепенно, а властно и неумолимо. Его нельзя было проспать или проигнорировать. Первые чайки начинали свой пронзительный хор ещё затемно, а когда за стенами дома проступал бледный, размытый свет, их крики сливались в сплошную тревожную какофонию, возвещавшую начало нового дня. Я проснулась от того, что знакомый до боли звук буквально вонзался в сознание, выдёргивая из объятий короткого, тревожного сна.
Комната медленно проступала из полумрака, очертания предметов становились все более чёткими. Луч солнца, бледный и холодный, пробивался сквозь слой пыли на оконном стеклу, ложась на пол удлиненным прямоугольником. Он выхватывал из тени знакомые с детства вещи: потертый дубовый комод с отвалившейся ручкой на верхнем ящике, простой деревянный стул, на спинке которого все еще висела моя дорожная сумка, будто я только вчера приехала. За окном качалась голая ветка старой яблони, упрямо стуча по стеклу, словно требуя впустить ее в дом. Эта яблоня всегда была корявой и некрасивой, но каждую весну она покрывалась таким буйным цветом, что весь дом утопал в белой пене, а воздух наполнялся густым, сладковатым ароматом.
Я лежала и не могла заставить себя встать. Воздух в комнате был спёртым, пах старыми книгами, пылью и ещё чем-то неуловимым – может быть, самим временем, застоявшимся здесь за годы моего отсутствия. На прикроватном столике стояла засохшая в вазочке ветка бессмертника – эти жёлтые цветы никогда не увядали, они просто постепенно истончались и блекли, сохраняя свою форму, но теряя цвет и жизнь. «Есть вещи, которые не умирают, а просто медленно превращаются в пыль воспоминаний», – подумала я, глядя на них.
Наконец, с неохотой, я поднялась с кровати и подошла к книжной полке. Корешки книг выцвели от времени и солнечного света. Я узнавала их на ощупь, даже не глядя. Вот потрепанный том «Туманов Авалона» Мэрион Зиммер Брэдли – когда-то эта книга была моим убежищем, миром, в который я сбегала от суровой реальности. Я аккуратно извлекла ее с полки. Переплёт потрескался, страницы пожелтели. Я открыла книгу на случайном месте, и между страниц выпал засушенный цветок ириса – когда-то синий, великолепный, а теперь почерневший и прозрачный, как пергамент. Он рассыпался у меня в пальцах, оставив лишь легкую, горьковатую пыльцу на коже. Я осторожно положила его обратно, словно хоронила часть своего прошлого.