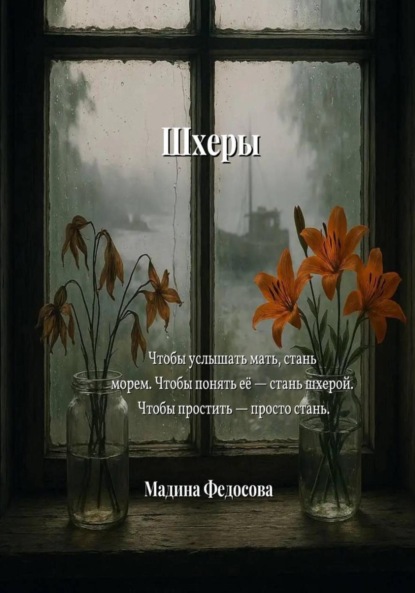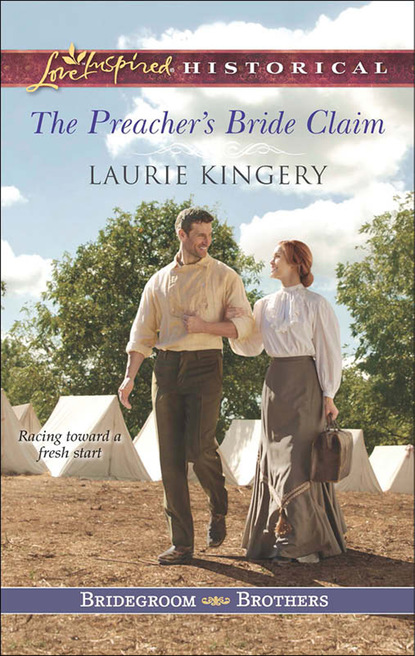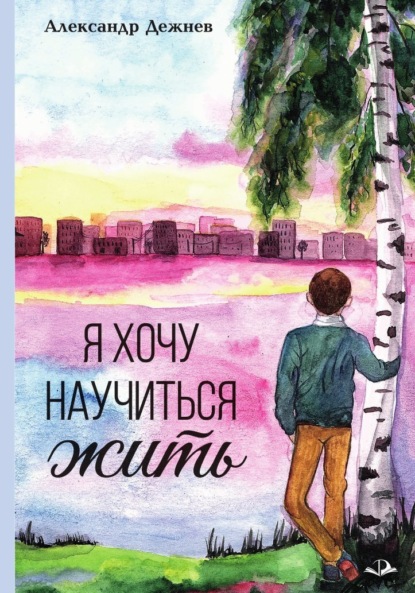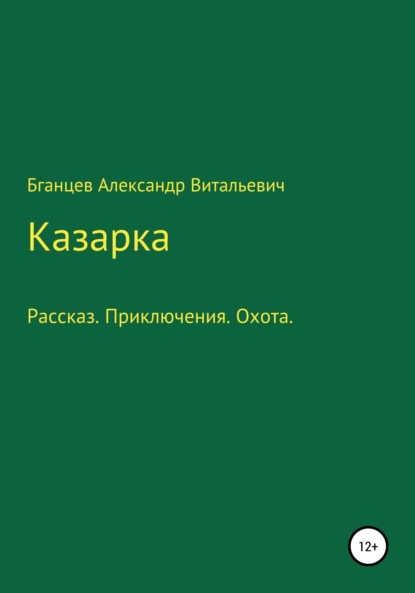- -
- 100%
- +
Из-за двери доносились звуки, составлявшие утреннюю симфонию этого дома: скрип половиц под неторопливыми шагами, глухой стук чугунной сковороды, шипение чего-то на плите. Ирена уже была на ногах, как будто и не ложилась вовсе. Её присутствие ощущалось во всем доме, как стук сердца в живом организме. Я медлила, не решаясь выйти, чувствуя себя незваным гостем, нарушившим своим появлением отлаженный годами ритм.
Наконец, собрав волю в кулак, я вышла в коридор. Воздух здесь был другим – густым, насыщенным ароматами жареной рыбы, свежесваренной овсяной каши и дыма от печи. Я заглянула в гостиную. Ирены там не было, но на круглом столе под кружевной скатертью лежала раскрытая деревянная шкатулка для рукоделия. В ней, аккуратно разложенные по отделениям, лежали катушки ниток, иголки, напёрсток. Рядом лежали ее очки в простой металлической оправе. Я никогда не видела ее в очках. Это маленькое открытие снова напомнило мне – время не стоит на месте, даже здесь, в этом застывшем мире.
Моё внимание привлекла приоткрытая дверь в ее комнату. Та самая комната, куда я в детстве заходила с опаской, как в святилище. Я толкнула дверь, и она бесшумно отворилась.
Комната была такой же аскетичной, как и раньше. Узкая металлическая кровать, застеленная серым шерстяным одеялом. Прикроватный столик, на котором, рядом с графином воды и стаканом, стояли склянки с лекарствами, выстроенные в безупречный ряд. И массивный письменный стол из тёмного дерева, стоявший у единственного окна, из которого открывался вид на залив и шхеры. На столе царил идеальный, почти военный порядок. Стопка белой бумаги, выровненная по краю. Чернильница из тёмного стекла. Две перьевые ручки. И странный, неожиданный предмет, который я тут же узнала, – старинный морской секстант в полированном деревянном футляре. Он принадлежал моему деду, капитану небольшого рыболовного сейнера. Почему он стоял здесь, на самом видном месте? Что могла значить для неё, женщины, никогда не ходившей в море дальше, чем на веслах, эта навигационная вещь?
Любопытство, острое и непреодолимое, заставило меня подойти ближе. Рядом с секстантом лежала папка из плотного, потертого на углах картона. На ее обложке не было никаких надписей. Рука сама потянулась к ней. Я открыла завязки и замерла.
Внутри лежали не документы и не вырезки из газет. Это были карты. Не современные, напечатанные на глянцевой бумаге, а старые, на тонкой, почти прозрачной кальке, с пожелтевшими краями и лёгким запахом плесени. Но это были не обычные навигационные карты. Они были испещрены пометками, сделанными ее твёрдым, угловатым, безошибочно узнаваемым почерком. Чернила в некоторых местах выцвели, в других – сохранили свой насыщенный синий цвет.
С замиранием сердца я разложила одну из карт на столе. Это была подробная карта нашего архипелага, бухт, проливов, отмелей. Но вместо стандартных обозначений глубин, координат и навигационных опасностей, на ней были отмечены совсем другие вещи. Это была карта памяти. Карта нашей жизни.
Вот здесь, в маленькой, защищённой от ветров бухте за мысом Верблюд, было аккуратно выведено: «Здесь Ливия в 6 лет поймала первую камбалу. 12 июля. Солнечно, ветер западный». Я улыбнулась, вспомнив тот день. Помню, как гордилась своим уловом, а она молча чистила рыбу, ее руки были в чешуе.
Чуть дальше, у узкого, коварного пролива, известного среди местных как «Глотка», была другая надпись, более старая, чернила поблекли: «Шторм 8 баллов. Ждала до утра. Не вернулся». И ниже, совсем мелко, будто не желая, чтобы это прочли: «Он не вернулся никогда». Я знала, о ком речь. О моем отце. Он ушёл в море на своём сейнере и не вернулся. Тело так и не нашли. Ей было тогда тридцать лет. Мне – пять.
Возле одного из необитаемых островков, отмеченного на карте как «Камень Одиночества», стояла лаконичная, но от того ещё более страшная запись: «Место, где дочь сказала, что ненавидит меня. 15 августа. Штиль». Я отшатнулась от стола, словно меня ударили током. Я помнила тот день. Страшную ссору перед моим отъездом в город, в университет. Те слова, которые вырвались наружу и которые уже нельзя было взять назад. Я кричала тогда, что ненавижу этот дом, это море, ее молчание. Что я сбегу и никогда не вернусь. Оказывается, она не просто запомнила это. Она нанесла эту рану на карту, зафиксировала ее, как фиксируют координаты кораблекрушения.
Я лихорадочно перебирала другие карты, более ранние, более поздние. Они были летописью. Летописью нашей семьи, нашей общей жизни, но увиденной исключительно ее глазами. Здесь были отмечены не координаты, а координаты чувств. Не глубины моря, а глубина ее переживаний, ее одиночества, ее надежд. «Карта – это не просто линии на бумаге, – прошептала я, и голос мой прозвучал оглушительно громко в тишине комнаты. – Это записанная память земли о тех, кто ходил по ней, любил и страдал на ней».
На одной из самых старых карты, в самом центре архипелага, было отмечено место, просто названное «Тихая гавань». Никаких дат, никаких пояснений. Только эти два слова, обведённые в аккуратный круг. Что это было? Место, где она находила утешение? Та самая бухта, куда она уходила одна? Или это было нечто большее – символ, идеал, недостижимая мечта о покое?
В этот момент скрипнула дверь. Я резко обернулась, чувствуя прилив жгучего стыда, как школьница, пойманная за подглядыванием в чужой дневник. На пороге стояла Ирена. Её лицо, как всегда, было маской невозмутимости, но в глубине ее глаз, тех самых, что видели так много штормов и потерь, я уловила мгновенную вспышку – тревоги? Раздражения? Недоверия? – которая тут же погасла, уступив место привычной сдержанности.
– Завтрак на столе, – произнесла она своим ровным, лишённым эмоций голосом. Её взгляд скользнул по разложенным на столе картам, по моим рукам, все ещё лежавшим на них, но она не сделала ни единого замечания, не задала ни одного вопроса. – Каша остывает. И дрова нужно колоть. День будет ясный, надо успеть до ветра.
Она повернулась и вышла, оставив дверь открытой. Я слышала ее удаляющиеся шаги по коридору. Я стояла, опёршись о стол, и старалась перевести дыхание. Все эти годы я была уверена, что она – человек без глубоких чувств, что ее мир ограничен бытом, работой, простыми и суровыми необходимостями. А оказалось, что она вела эту тихую, тайную, никому не ведомую летопись. Летопись нашей общей жизни, нашей боли, наших потерь и редких радостей. Летопись, в которой я, ее дочь, была всего лишь одной из многих отметок на обширной карте ее одинокой судьбы.
Я осторожно, с каким-то почти благоговением, сложила карты обратно в папку, завязала тесёмки и поставила ее на прежнее место, рядом с секстантом. Мои руки слегка дрожали. Я вышла из комнаты, и мир вокруг, такой привычный и знакомый, вдруг показался мне другим. Эти стены, этот дом – они были не просто свидетелями. Они были обложкой толстой, старой книги, которую я только начала читать, книги под названием «Моя мать». А эти карты… эти карты с их пометками из прошлого были ее дневником, написанным на особом языке – языке широт и долгот, языке ветра и воды, языке молчания. «Иногда самые важные слова в нашей жизни так и остаются ненаписанными и невысказанными, – думала я, медленно идя к кухне, навстречу остывающей каше и ее молчанию. – Они просто отмечаются на карте души невидимыми чернилами, чтобы однажды, когда придёт время, их смог прочитать тот, кому они предназначались».
Глава 4
Язык быта
Утро начиналось не с слов, а с звуков. Ещё до рассвета доносился мерный стук топора – Ирена уже рубила дрова. Каждый удар отзывался эхом в спящем доме, словно сердцебиение этого старого жилища. Я лежала с открытыми глазами, слушая эту простую музыку – скрип половиц под ее тяжёлыми шагами, шипение дров в печи, потом тот самый ритмичный стук. Это был язык, который я начинала понимать – язык дел, а не слов.
Когда я вышла на кухню, воздух был густым и тёплым, пах свежеиспечённым хлебом и дымом. Ирена стояла у печи, переворачивая на сковороде рыбу. Золотистая щука шипела в растопленном масле, распространяя по кухне аппетитный аромат.
– Садись, – сказала она, не оборачиваясь. – Хлеб только из печи.
Я села за стол, на котором уже стояли глиняные миски, жестяные кружки и деревянная солонка. Все простое, утилитарное, без изысков, но от этого кажущееся особенно настоящим.
Ирена принесла на стол свежий каравай. Корочка хрустела под ножом, а мякиш был таким воздушным и пористым, что казалось, вот-вот улетит. Она отрезала толстый ломоть и протянула мне.
– Ешь, пока горячий.
Мы завтракали молча. Я смотрела, как она ест – медленно, тщательно пережёвывая каждый кусок, словно совершая некий ритуал. Её руки, покрытые сетью морщин и старых шрамов, лежали на столе спокойно. Эти руки видели больше, чем могли бы рассказать любые слова.
После завтрака она встала и подошла к окну. За стеклом медленно светало, небо на востоке было цвета сиреневого перламутра.
– Сегодня нужно проверить сети, – сказала она, глядя на залив. – И баню протопить. Вода в бочке за ночь покрылась льдом.
– Я помогу, – предложила я.
Она кивнула, не поворачиваясь. – Надень что-нибудь потеплее. На воде ветер с моря дует.
Мы вышли во двор. Воздух был холодным и свежим, пах снегом, морем и дымом. Иней покрывал крышу сарая и тёмные ветви яблони, превращая их в хрустальные скульптуры. Ирена направилась к сараю, где хранились рыболовные принадлежности. Я последовала за ней, чувствуя, как морозный воздух щиплет щеки.
В сарае царил идеальный порядок, который был отражением ее характера. Сети были аккуратно свёрнуты в тугие кольца, поплавки и грузила разложены по отдельным ящикам. На стене висели просмолённые куртки и брезентовые штаны – ее рабочая униформа. Она сняла одна из курток и протянула мне.
– Надень. Не стесняй движений.
Куртка была грубой и тяжёлой, пропахшей дёгтем, рыбой и потом. Когда я надела ее, меня окутал знакомый запах – запах моего детства, запах ее труда. Он был таким же стойким и неизменным, как и она сама.
Мы спустили на воду старую деревянную лодку. Дубовые доски почернели от времени и воды, но сидели в киле так плотно, что не пропускали ни капли. Ирена провела рукой по борту, словно гладя живого человека.
– Эта лодка еще моего отца, – сказала она неожиданно. – Он ее сам строил.
Она редко говорила о прошлом, и эти слова прозвучали как откровение. Я смотрела, как она готовит снасти: ее руки, покрытые сетью морщин и шрамов, двигались быстро и точно. Каждое движение было выверенным, экономичным, без единого лишнего жеста.
– Почему ты никогда не продала лодку? – спросила я осторожно. – После того как отец…
– Лодка – не память, – резко перебила она меня. – Лодка – это инструмент. Как и сети. Как и руки. Инструменты не продают. Их передают.
Мы отплыли от берега. Ирена села на весла, я устроилась на носу. Её движения были мощными и ритмичными, весла входили в воду почти бесшумно, оставляя за собой лишь расходящиеся круги. На воде ее лицо преображалось – исчезала привычная суровость, появлялась какая-то особая сосредоточенность. Она смотрела на воду внимательно, читая ее как открытую книгу.
– Видишь вон там, где чайки кружатся? – она кивнула в сторону стаи птиц. – Там течение поднимает со дна корм. Рыба стоит.
Я смотрела на ее согнутую спину, на напряжённые руки, и вдруг поняла: для неё эти шхеры были не просто местом работы. Это был ее язык. Каждая бухта, каждое течение, каждый подводный камень – это слова и фразы, которые она понимала без перевода. «Море было ее единственным собеседником, – осенило меня. – И она выучила его язык так хорошо, что разучилась говорить на человеческом».
Мы проверяли сети. Она работала молча, лишь изредка бросая короткие замечания: «Здесь щука стоит – видишь, как поплавок дёргается?» или «На этом месте окунь клюёт – дно каменистое». Её знания были точными и безошибочными, полученными за долгие годы наблюдений.
Когда мы возвращались к берегу, небо начало затягиваться тяжелыми свинцовыми тучами. Ирена посмотрела на горизонт и покачала головой.
– К вечеру будет шторм. Надо успеть дрова убрать под навес. И ставни закрыть.
На берегу мы молча развешивали сети для просушки. Её движения были такими же уверенными и точными, как и на воде. Я пыталась повторять за ней, но мои попытки казались неуклюжими и медлительными.
Вдруг она остановилась и посмотрела на меня. Не сквозь меня, как обычно, а прямо в глаза. Её взгляд был таким же пронзительным, как и всегда, но в нем появилось что-то новое – может быть, тень одобрения?
– Ничего, – сказала она коротко. – Руки помнят. Голова может забыть, а руки – никогда. Они научатся.
Это была первая похвала, которую я услышала от неё за все годы. Не «молодец», не «хорошо», а простое констатация факта, но от этих слов у меня что-то сжалось внутри.
Вечером мы топили баню. Она показала мне, как правильно складывать поленья в печь, как регулировать жар, когда поддавать пар. Все ее действия были частью какого-то древнего ритуала, передававшегося из поколения в поколение.
– Береза дает легкий пар, – объясняла она, укладывая поленья особым способом. – А сосна – жаркий, но смолистый. Надо знать, когда какую использовать.
Сидя в предбаннике, я смотрела на ее лицо, освещённое пламенем печи. Впервые за многие годы я не видела в нем привычной суровости. Было что-то другое – может быть, умиротворение? Или просто усталость от прожитого дня?
– Завтра рано вставать, – сказала она, вытирая пот с лица старым полотенцем. – Прилив в пять утра. Надо успеть до шторма проверить те сети, что за мысом.
Я кивнула, понимая, что это не просто информация о времени подъёма. Это был ее способ сказать, что сегодняшний день прошёл правильно. Что мы сделали все, что должны были сделать. Что в ее мире, состоящем из дел и обязанностей, мне наконец-то нашлось место.
Поднимаясь в свою комнату, я думала о том, как странно устроена жизнь. Я приехала сюда, ожидая слов, объяснений, разговоров. А получила вместо этого уроки другого языка – языка дел, языка быта, языка молчаливого понимания. «Возможно, настоящий разговор между людьми начинается не тогда, когда они находят общие слова, – думала я, засыпая под звуки начинающегося шторма за окном, – а когда начинают понимать молчаливый язык дел друг друга».
Глава 5
Утро быта
Первый луч солнца, бледный и жидкий, словно разбавленное молоко, пробился сквозь слой пыли на оконном стеклу, разрезая полумрак комнаты ровной золотистой полосой, в которой закружились мириады пылинок, похожих на танцующие снежинки. Я проснулась от звука, которого не слышала много лет – мерного, ритмичного, почти медитативного скрежета каменных жерновов. Этот звук был таким же неотъемлемым атрибутом моего детства в Раковой щели, как вечный шум прибоя за окном или пронзительные крики чаек. Ирена молола муку для утреннего хлеба.
Я лежала неподвижно, прислушиваясь к этой древней музыке, пытаясь уловить знакомый с детства ритм. Скрип-скрип, короткая пауза. Скрип-скрип, снова пауза. Движения были неторопливыми, выверенными до автоматизма, как дыхание спящего великана. Воздух в комнате был спёртым и густым, пах старым деревом, воском и пылью, но сквозь эти знакомые ароматы уже явственно проступал новый, чужеродный – сладковатый и терпкий запах лекарственных трав и микстур, который, казалось, уже успел въесться в самые стены этого дома за последние месяцы.
Наконец, с неохотой, я заставила себя подняться. Деревянный пол был холодным, и ледяная поверхность неприятно холодила босые ступни. Я накинула на плечи старый шерстяной халат, оставшийся здесь ещё с прошлых времён, и вышла в коридор. Звук жерновов становился громче, к нему теперь присоединились другие, составлявшие утреннюю симфонию этого дома – потрескивание берёзовых поленьев в печи, шипение раскалённого чугуна на плите, размеренные, твёрдые шаги Ирены по половицам кухни.
Я остановилась в дверном проёме, наблюдая за ней, затаив дыхание. Она стояла спиной ко мне у массивной каменной печи, ее невысокая, но крепкая фигура в простом тёмном платье и белом фартуке казалась неотъемлемой, органичной частью этого утреннего ритуала, существовавшего здесь десятилетиями. Движения ее рук были экономными и точными, без единого лишнего жеста, выверенными годами практики и необходимости. Она аккуратно пересыпала свежесмолотую муку в глубокое деревянное корыто, добавила туда же густую, пузырящуюся закваску из глиняного горшочка, что стоял на подоконнике между банками с лекарствами, и начала замешивать тесто. Мускулы на ее загорелых предплечьях плавно напрягались и расслаблялись, и я видела, как сухожилия резко вырисовываются под кожей, покрытой тонкой, но уже заметной паутиной морщин.
«Она превратила всю свою жизнь в бесконечную последовательность ритуалов, – пронеслось у меня в голове. – Где каждое действие, каждый жест имеет свой строгий вес и неоспоримое значение, а слово – лишь пустой звук, бесполезно нарушающий стройную, веками складывавшуюся симфонию быта».
Она, казалось, почувствовала мой взгляд, спиной ко мне, и на мгновение замерла, ловко вымешивая упругое, послушное тесто, которое издавало тихий, влажный шлепок. Не оборачиваясь, она произнесла своим ровным, без интонаций голосом, который, однако, был прекрасно слышен даже под скрежет жерновов:
– Вода в рукомойнике сегодняшняя, из родника. Чайник на печи уже подходит.
Я молча подошла к жестяному рукомойнику, висевшему в углу кухни на железном крюке, и повернула краник. Ледяная, кристально чистая вода с силой хлынула в оцинкованный таз, разбрызгиваясь мелкими каплями. Я умылась, и резкий холод обжёг кожу лица, мгновенно прогоняя последние остатки сна. Я вытерлась грубым, но мягким от многочисленных стирок льняным полотенцем, от которого пахло морозом, свежестью и крапивой.
На кухонном столе, застеленном простой клеёнкой с выцветшим геометрическим узором, уже стояли две жестяные кружки без единого узора, жестяной же закопчённый чайник и небольшая глиняная миска с густым, тёмным мёдом. Не было ни накрахмаленной скатерти, ни вышитых салфеток, ни лишних, декоративных предметы. Все здесь подчинялось единственному принципу – суровой, аскетичной необходимости.
Ирена тем временем поставила в жаркую печь чугунную сковороду с толстым слоем только что раскатанного теста. Через несколько минут по кухне пополз дразнящий, знакомый до слез, до щемящей боли в сердце запах жареной лепёшки – тот самый, что будил меня по утрам все мои детские годы.
– Садись, – сказала она, наконец поворачиваясь ко мне. Её лицо, обрамленное седыми, туго закрученными в узел волосами, было спокойным и невозмутимым, лишь на высоком лбу блестели мелкие капельки пота от жара печи. – Хлеб будет готов через полчаса, не меньше. А пока – с лепёшкой разговейся.
Она ловко, прихваткой, вынула из печи золотистый, пузырящийся круг, разрезала его пополам заточенным ножом и положила одну половину ко мне в тарелку. Лепёшка дымилась, издавая соблазнительный, хрустящий звук.
Мы ели молча, погруженные в свои мысли. Лепёшка была простой, почти пресной, но на удивление вкусной и сытной – такой, какой я помнила ее с самого детства. Ирена ела медленно, с какой-то почти монашеской сосредоточенностью, тщательно пережёвывая каждый кусок, обмакивая его иногда в мёд. Её глаза были опущены на тарелку, но я всем существом чувствовала, что она осознает моё присутствие здесь, за этим столом, с точностью до миллиметра, до каждого моего вздоха.
– После завтрака, – произнесла она, наконец, прерывая молчание, но не поднимая глаз, – нужно проверить, не порвало ли сеть на западном плече после вчерашнего ветра с моря. И капусту, что вчера рубили, нужно посолить, сложить в бочку. Все уже приготовлено.
Я просто кивнула, прекрасно понимая, что это не предложение и не просьба, а утверждённый, не подлежащий обсуждению план действий на ближайшие часы. Её слова, как и всегда, были лишены какой бы то ни было эмоциональной окраски – лишь сухая констатация фактов и чёткие, ясные указания к работе. «В ее выстроенном, строгом мире чувства и эмоции были такой же непозволительной роскошью, как лишняя щепотка соли в хлебе», – с грустью подумала я.
Когда мы допили свой крепкий, горьковатый чай, она беззвучно встала из-за стола и подошла к единственному на кухне окну, выходящему на залив. За свинцовым, покрытым мелкими царапинами стеклом медленно разворачивался новый, пасмурный день. Небо было сплошь затянуто облаками цвета мокрого асфальта, море казалось тяжёлым и маслянистым, и только на самом восточном горизонте тонкая, едва заметная полоска света робко обещала, что солнце все же попытается сегодня пробиться сквозь толщу туч.
– К вечеру шторм, – произнесла она, глядя на горизонт опытным, зорким взглядом человека, который читает погоду по оттенкам воды и форме облаков лучше любой самой точной метеосводки. – Надо успеть до дождя все сделать.
Она повернулась от окна и впервые за это утро посмотрела на меня прямо, пристально. Её пронзительные серые глаза, цвета морской воды перед грозой, изучали моё лицо.
– Ты помнишь, как капусту солить, чтобы не закисла? – спросила она. В ее ровном голосе не было ни надежды, ни сомнения, ни раздражения. Простой, деловой вопрос.
– Нет, – честно призналась я, чувствуя странный стыд за своё неведение. – Не помню. Совсем.
Она медленно кивнула, как будто этот ответ был для неё абсолютно ожидаем.
– Ничего. Научу, – коротко сказала она, и, сняв фартук, повесив его на гвоздь у печи, твёрдыми шагами направилась к выходу, чтобы проверить свои сети. Её невысокая, но прямая фигура в дверном проёме на мгновение полностью заслонила собою бледное утреннее солнце, и я подумала, что, возможно, это утро быта, эта последовательность простых действий – не просто рутина. Возможно, это ее единственный способ говорить. Молчаливый, упрямый, сложный, но единственно возможный для неё язык, на котором она безуспешно пыталась до меня достучаться все эти долгие годы. «Быт – это язык, на котором молчание обретает вес и смысл», – прошептала я про себя, вставая, чтобы помыть посуду.
Глава 6
Глотка
Ветер, начавший набирать силу ещё до рассвета, к утру превратился в настоящего хищного зверя. Он выл в щелях между брёвнами дома, срывал последние пожухлые листья с берёз у крыльца и гнал по небу рваные, свинцовые тучи. Воздух был влажным и тяжёлым, пахло озоном, йодом и надвигающейся бурей. После скупого на слова завтрака Ирена подошла к окну, положила ладонь на холодное стекло и постояла так минуту, словно прислушиваясь к чему-то за его пределами.
– Сети у Глотки, – произнесла она наконец, оборачиваясь ко мне. В её глазах я увидела не привычную отстранённость, а сосредоточенную озабоченность. – Вчера ставили. Если сейчас не сниму – шторм всё порвёт в клочья.
Я кивнула, понимая, что это не предложение, а необходимость. Название «Глотка» я помнила с детства – так называли опасный пролив между двумя скалистыми мысами, где сталкивались два течения. Место, о котором ходили легенды и куда боялись ходить даже опытные рыбаки.
Мы оделись в просмолённые куртки и брезентовые штаны. На выходе Ирена протянула мне толстые шерстяные варежки и берестяной короб с смолой.
– Руки натрутся о вёсла, – коротко пояснила она. – Смолой натри. И капюшон надвинь. Брызги ледяные.
Дорога к проливу шла по высокому обрывистому берегу. Под ногами хрустел промёрзший мох, и ветер с такой силой бил в лицо, что приходилось идти, согнувшись вдвое. Слева, внизу, бушевало море. Волны с грохотом разбивались о чёрные, отполированные временем и водой базальтовые скалы, вздымая в воздух фонтаны ледяной пыли. Воздух был насыщен солёной водяной пылью, и на губах оставался солёный привкус.
Ирена шла впереди, её невысокая, кряжистая фигура казалась неотъемлемой частью этого сурового пейзажа. Она не оборачивалась, но я чувствовала, что она постоянно контролирует моё присутствие. Вдруг она остановилась у самого края обрыва и указала рукой вниз, на бушующую между скалами воду.
– Видишь пенную полосу? – закричала она, чтобы перекрыть шум ветра и прибоя. – Там подводный риф. Лодку к нему не подпускай. Он как скрытый клык – незаметный, но смертельный.
Мы спустились по крутой, скользкой тропе к крошечной галечной полоске, служившей причалом. Небольшая, но крепкая лодка, выдолбленная из цельного ствола лиственницы, подпрыгивала на волнах, будно нетерпеливый конь. Ирена провела рукой по её борту, зачерпнула ладонью воду и побрызгала на нос лодки – старый рыбацкий обычай, приносящий удачу.