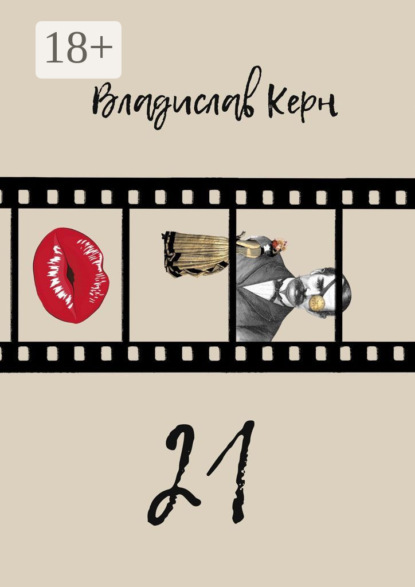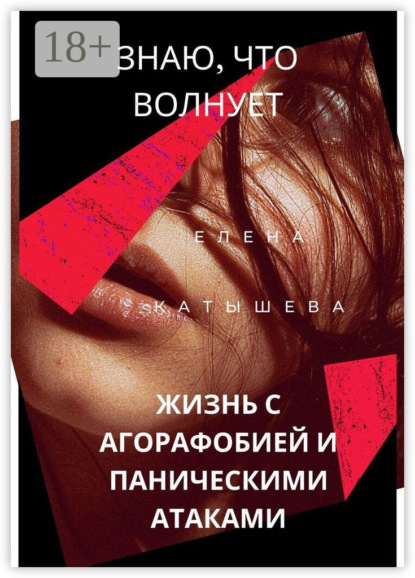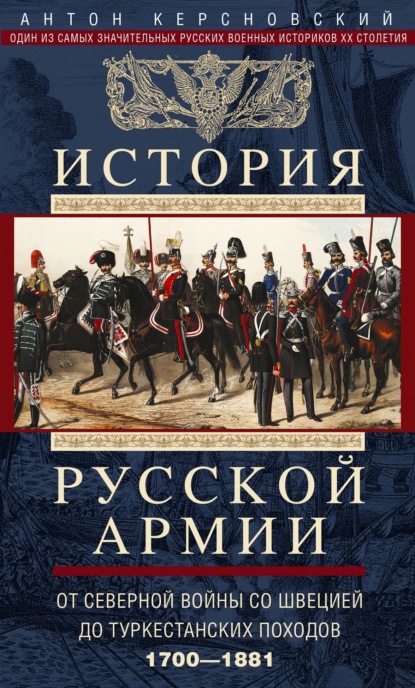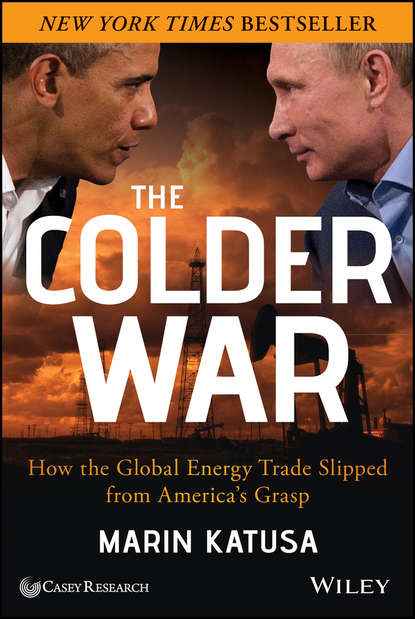Познай свой ум: психологическое измерение нравственности в буддизме
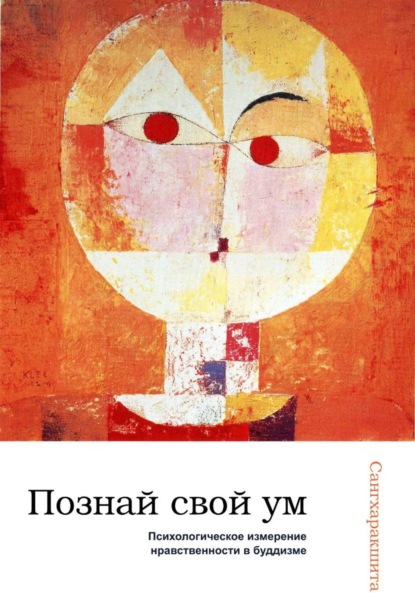
- -
- 100%
- +

Введение. Существует ли буддийская психология?
С самого начала стоит признать, что такой вещи, как буддийская психология, на самом деле не существует. На Западе мы можем говорить о буддийской этике, буддийской философии, буддийской логике, буддийской эпистемологии и так далее, но учение буддизма в целом – полностью целостная традиция. Она, так сказать, едина и неделима: возьмите любой ее аспект, и автоматически из него последуют все остальные. Опасность выделения той или иной области изучения заключается в том, что при этом мы склонны упускать ее связи с другими вопросами или даже тем вопросом, из которого она изначально возникла, – и это на самом деле происходило по временам в истории того, что я называю буддийской философией.
В то же самое время, конечно, этот термин нельзя совсем отмести, если мы просто пользуемся им в отношении к учениям буддизма о природе и функционировании ума, особенно потому, что это влияет на нашу духовную жизнь в целом и медитацию в частности. Буддийская психология – не просто описательная наука, у нее нет иной цели, кроме как использования на практике. А ее практическая польза заключается в том, чтобы дать нам возможность понять, что происходит в нашем собственном уме, провести различия между полезными и ценными событиями ума и негативными или вредными, между подлинным видением и субъективными взглядами. Она начинается с ключевой мысли: мы играем роль в создании мира, в котором обнаруживаем себя, и единственный действенный путь улучшить нашу ситуацию – принять ответственность за нее, то есть принять ответственность за состояния собственного ума.
Согласно буддизму, наши трудности берут начало в нашем неведении. Неведение (на санскрите авидья) традиционно уподобляется опьянению, в то время как волевые акты (самскары), которые возникают из неведения, сравниваются с поступками, сделанными в состоянии опьянения. Подобное понимание условий, в которых пребывает человек, может показаться слишком мрачным, но это не более чем здравый вывод. Иногда мы не осознаем, какой вред причиняем, только потому, что не знаем, что мы делаем. Мы запускаем какие-то процессы, что-то говорим, вступаем в контакт с людьми и в результате этого неизбежно создаем проблемы. Хотя иногда мы и осознаем, что наша жизнь в большей или меньшей мере состоит из проблем, которые мы создаем подобным образом, слишком часто мы даже не видим в этом проблемы – и это само по себе проблема.
Конечно, вопрос не в том, чтобы обезопасить себя, откладывая любые действия до обретения Просветления: чтобы жить, мы должны действовать, и, следовательно, нам придется делать ошибки. Но если мы понимаем, что делаем, мы можем разрушить реактивные модели, которые заставляют нас снова и снова создавать одни и те же проблемы. И способ разрушить эти реактивные модели, которые приносят нам так много страданий, заключается в том, чтобы установить иные модели мышления, чувствования и поведения.
Видя свои затруднения ясно, зная, с чего начать, человек может воспринимать стоящий перед ним выбор, который дает ему определенную степень свободы. Это не абсолютная свобода – отправную точку мы не выбираем, – но мы свободны выбирать, что нам делать с данной ситуацией. То, где мы находимся, менее важно, чем то, знаем мы это или нет. Свобода возникает из знания себя и знания возможностей выхода за пределы текущей ситуации.
Однако эта свобода имеет прямо противоположные последствия. Ум – это не вещь, это, как выражает Гюнтер в своем предисловии к переводу книги «Ум в буддийской психологии», не «статическое целое, чистое состояние или функция сознания»1. Он состоит исключительно из своей деятельности. Следовательно, он постоянно меняется, постоянно движется. Но он может двигаться либо творчески, либо реактивно. Каждое мгновение ум сталкивается с выбором: повторять ли старые модели и ходить по кругу или переделывать модель и создавать более позитивные условия для духовного роста. Каждое мгновение существует возможность двигаться вперед, как и возможность просто ходить по кругу и, следовательно, на самом деле никуда не двигаться. Мы вольны развивать нашу осознанность на духовном пути, искать решения, и мы также вольны снова впадать в неосознанность и переставать задавать вопросы. Более того, состояния ума не могут быть отделены друг от друга. Болезненные и вредоносные состояния ума нельзя поместить под замок, пока мы развиваем осознанность, радость и доброту. Каждое мгновение мы или побуждаем к развитию позитивные состояния ума, или усиливаем негативные.
Если человек прилагает усилия для развития в положительном направлении, его жизнь обретает более серьезный смысл, поскольку человек принимает за нее ответственность. Человек уясняет себе практически необходимость определенного образа жизни. Вот что значит следовать буддийскому пути.
Буддизм преподносится как путь или тропа, но это лишь образ. Путь – это символ того факта, что мы можем измениться, можем развиваться. Если мы знаем, кем являемся сейчас и кем станем, мы можем начать предпринимать шаги к осуществлению этого перехода. У нас есть способности, есть свобода воспринимать наши подлинные интересы и воплощать их в жизнь.
Согласно палийскому выражению, мы развиваем путь2. Он – не что-то внешнее, что-то объективное. Мы сами – путь. Если мы думаем о пути как о чем-то внешнем, подобно дороге или тропе, мы можем привязаться к бесполезной идее о том, какого рода духовная дисциплина нам нужна, чтобы следовать ему. Мы не следуем буддийскому пути в том смысле, что нас словно ведут по нему, как овец, а мы пытаемся сойти с тропинки и пожевать колючку или цветок на обочине.
Конечно, есть объективный критерий развития, который следует принимать в расчет и действовать согласно ему, но сам путь не где-то снаружи, он внутри. Вопрос не в том, чтобы принуждать себя следовать определенному пути или идти в определенном направлении. Путь просто представляет собой индивидуальное решение собственных проблем. Если вы знаете и понимаете себя настоящего, это отправная точка для вашего собственного развития. Путь – это вы в процессе организации ваших состояний ума таким образом, чтобы рост и развитие происходили в позитивном направлении.
Эти распознавание и организация состояний ума стали главной заботой многих поколений буддийских ученых. То, что стало известно как Абхидхарма, вобрало в себя лучшие усилия некоторых из самых утонченных умов в буддийской истории на протяжении более чем тысячи лет. Хотя в некоторых отношениях в ней присутствовало вырождение в схоластику, усердие, с которым эти ученые относились к своей огромной задаче, было во многом связано с их преданностью духовному пути. Их желание понять ум и состояния ума брало начало в преданности следованию учению Будды. «непричинение зла, достижение добра, очищение своего ума»3, – такова была их отправная точка.
Но что такое ум? Как его понимать? Именно это они пытались выяснить на протяжении столетий. Они не просто думали о том, что на Западе мы бы назвали психологическим здоровьем: они вдохновлялись видением Будды – бесконечным, запредельным потенциалом человеческого ума. Абхидхарму можно описать как всеохватную науку об уме, хотя на самом деле невозможно говорить об уме как о любом другом предмете исследования, потому что в каком-то смысле изучающий ум не может быть одновременно объектом изучения. Исследуя Абхидхарму, мы должны постоянно учитывать это, если хотим извлечь из нее практическую пользу. Верно, что буддизм обращается к наблюдению, чтобы установить истинность своего видения природы вещей, но этот метод наблюдения не похож на лабораторный эксперимент, он всегда остается личным. В случае буддийской психологии он заключается в интроспекции, наблюдении за собой – видении того, как ты сам реагируешь на те или иные вещи, к примеру.
Поэтому, хотя в каком-то смысле абхидхармики и были буддийскими психологами, говоря о буддийской психологии, мы должны остерегаться ограничений нашего представления о буддизме. Эта опасность реальна по той простой причине, что английский язык, отражающий ограничения западных представлений об уме в целом, не обладает словами для понимания или описания высших состояний сознания (в терминах санскрита – дхьян). Сознательное состояние ума, в котором нет восприятия внешних вещей, не действуют чувства, нет активности ума в обычном смысле, просто не признается. Следовательно, такие состояния ума не включаются в определение термина «психика» или «ум», и это значит, что, если мы говорим о буддизме как о методе психологического развития, это автоматически предполагает, что в развитии ума отсутствуют дхьяны.
Области переживания, выходящие за пределы понятия, которое обычно охватывает «психологическое», и превосходящие его, могут обозначаться термином «духовное». Таким образом, под «духовной жизнью» понимается жизнь, направленная на создание искусных состояний ума (особенно в том смысле, в котором они представлены дхьянами) для обретения основы опыта Просветления.
Нам также нужно найти способ указать на различие между состояниями ума, которые достигаются временно, и теми, достижение которых составляет устойчивое изменение. Духовные состояния ума не обязательно постоянны: совершенно ясно, что можно ощутить себя «духовным» на мгновение, а уже через мгновение – далеким от духовности. Однако возможно достичь длительных позитивных и утонченных состояний ума. В какой-то момент человек обретает такое устойчивое и глубокое проникновение в природу реальности, что ему гарантировано непрерывное продвижение к Просветлению. В буддизме это традиционно известно как Вхождение в Поток, опыт, который можно описать как запредельный. Следовательно, у нас есть три термина – психологическое, духовное и запредельное, – чтобы описать различные этапы развития сознания. Хотя слово «психологический» относится к уму или психике, и хотя именно человеческий ум в некотором роде переживает дхьяну и запредельное Проникновение, было бы ограничением и даже ошибкой сводить буддизм к методу психологического роста.
Помимо осторожного отношения к использованию термина «психологический», мы также должны с осторожностью относиться к слову «ум», которое в контексте западной теистической и даже посттеистической традиции ограничено в том смысле, что существует различие между человеческим умом и «умом Бога». Тем не менее, согласно учениям Будды, нет пределов человеческому уму, и нет ничего – по крайней мере, потенциально – за его пределами; это имеет глубокое, в буквальном смысле невообразимое значение. Для буддиста выражение «чисто человеческое» не имеет смысла, как и представление о том, что нужно верить в откровение на том основании, что оно проистекает из измерения, запредельного человеческому уму.
Чтобы начать исследование природы ума в буддийской психологии, нам нужно напомнить себе, что ум и события ума – это понятия, понятия, которые могут стать основой для постижения реальности, к которой они отсылают. По сути, понятия возникают двумя способами. Во-первых, можно предположить существование вещи, которая получает наименование, на основе идеи или теории (это «понятие путем постулирования»). Это отправная точка для многих западных философов, хотя некоторые – к примеру, Юм – так сказать, приходят к понятиям скорее вторым методом, который заключается в непосредственном наименовании чувственного опыта («понятие по интуиции»)4. Понятие ума в буддийской психологии относится к этой, второй категории. Оно выводится не путем дедукции из абстрактных идей или общих принципов, а путем индукции, из действительного опыта. Таким образом, это не метафизический принцип (Ум с большой буквы, как в выражении «Ум превыше Материи»); не замещает он и индивидуальное эго, воспринимаемое как нечто отличное от событий ума, которое оно «переживает». В буддизме «ум» воспринимается так же, как, к примеру, мы воспринимаем дерево. Подобно тому, как мы ощущаем собрание сенсорных данных – ствол, ветви, листья – и называем их деревом, так мы и ощущаем и разнообразные события ума и называем их «умом». И точно так же, как не существует значения слова «дерево» за пределами того, что мы можем ощутить лично, так не существует и значения, нет оттенков у термина «ум» за пределами тех, что мы можем воспринять сами.
Поскольку ум в буддизме имеет отношение к тому, что ощущается посредством прямого восприятия, каждое утверждение в этой книге можно проверить на личном опыте, при условии, что мы готовы честно исследовать наш опыт. Внутренний покой, ясность и проникновение, которые можно развивать посредством практики медитации, не просто помогают в этом процессе исследования, но абсолютно необходимы для него. С буддийской точки зрения пытаться философствовать или даже думать ясно без устранения негативных состояний ума – сомнительное предприятие. Какие бы попытки мы ни предпринимали для того, чтобы прийти к подлинному пониманию реальности, если мы не уделили внимание состоянию ума, в котором мы подходим к вопросу, мы неизбежно будем рассматривать вещи в рамках нашего собственного цепляния, ненависти, страха и заблуждений. Следовательно, в буддизме невозможна философия без медитации. Нужно подняться над ограниченным личным или индивидуальным пониманием, по крайней мере, до некоторой степени, и быть относительно свободным от негативных состояний ума, чтобы увидеть истину.
У этой книги две цели: представить картину ума и событий ума, на которой веками сосредотачивалась ученость Абхидхармы, и послужить практическим пособием по событиям ума для практикующих медитацию, которое покажет им, как можно распознавать различные события ума, какие из них нужно искоренять, а какие взращивать для того, чтобы обрести психологическое здоровье, духовные озарения и, в конечном итоге, – запредельное знание.
Первая часть книги по необходимости чисто теоретическая, в ней мы прослеживаем возникновение Абхидхармы и знакомимся с трудом «Ожерелье ясного понимания», к которому остальная часть книги является своего рода комментарием, а затем переходим к рассмотрению понимания ума и событий ума в Абхидхарме. Во второй части мы во всех подробностях рассматриваем сами события ума и в процессе этого формируем картину той духовной жизни, которая необходима нам для обеспечения развития позитивных состояний ума.
Глава 1. Первые аналитики буддизма
Духовное и научное начинание, представляемое термином Абхидхарма, весьма грандиозно. Его истоки можно проследить вплоть до общего интеллектуального фона, в контексте которого ранние буддисты пытались выразить свое собственное уникальное видение. Считается, что среди всех систем мысли, преобладающих в те времена, школа индийской философии Самкхья была ближе всего по духу к тому, что проповедовал сам Будда. На самом деле, вероятно, знаменательно, что Будда родился и воспитывался в Капилавасту, городе, связанном с добуддийским святым Капилой, который традиционно считается основателем школы Самкхья.
«Самкхья» буквально обозначает «счет», «исчисление» или «перечисление». Школа Самкхья пыталась перечислить элементы существования таким образом, что это кажется предвестием намного более усложненного и изощренного анализа Абхидхармы. Именно философы Самкхьи впервые, насколько мы знаем, стали говорить о пяти элементах – земле, воде, огне, воздухе и пространстве – и воспринимали ум как шестое чувство, а также выделяли своего рода сверх-ум. Существуют некоторые очень древние сутры Самкхьи (здесь «сутра» означает «афоризм», а не «проповедь», как это обычно бывает в контексте буддизма), но учение, вероятно, было полностью систематизировано лишь спустя долгое время после жизни Будды, в работе под названием «Самкхьякарика», которую приписывают Ишваре Кришне5.
Приверженцы школы Самкхья были не единственными индийскими философами, которые пытались предпринять подобный анализ вселенной. По-видимому, в индийской мысли вообще существовало очень сильное стремление попытаться понять бытие путем расчленения его на составные части. Подобное можно обнаружить в античной Греции, к примеру, в трудах Демокрита. Можно сказать, что в индийской мысли в целом существуют два основных течения: плюралистическое течение, которое ассоциируется с небрахманической традицией, и более монистическое течение, которое чаще всего связано с традицией брахманизма. К плюралистическим школам мысли причисляются Самкхья, Абхидхарма в различных ее формах, джайны и школа Ньяя-Вайшешика.
В своем труде «Буддхачарита» (изложение жизни Будды) Асвагхоша дает очень детальное, хотя и не слишком ясное, описание философии Самкхья и утверждает, что Будда полностью отвергал ее, что, по-видимому, диктовалось опасностью смешения буддизма с философской мыслью Самкхьи во времена написания этого труда. Некоторые ученые вполне определенно видят преемственность между школой Самкхья и Абхидхармой, хотя при прослеживании подобных связей возникают разнообразные философские трудности. Можно сказать, что различие между ними заключается в том, что анализ Самкхьи скорее космологичен, чем психологичен, в то время как буддийский анализ преимущественно психологичен.
Классификации самой Абхидхармы начали составляться на протяжении нескольких столетий после жизни Будды, когда его учения все еще передавались из уст в уста. По сути, Абхидхарма начиналась как обширная операция вычленения. За свою жизнь Будда дал тысячи, даже десятки тысяч проповедей и ответил на тысячи вопросов, и вокруг него всегда был кружок учеников, которые, насколько могли, запоминали наизусть все, что он сказал. Они хранили эти учения, как сокровище, размышляли над ними, повторяли их друг другу и таким образом сохраняли в памяти то, чему научил их Будда. Старея, они передавали все, чему научились, собственным ученикам, а те, в свою очередь, своим. Этот процесс устной передачи продолжался, по крайней мере, четыре века, и именно так учение сохранилось для будущих поколений.
Так что существовал огромный пространный объем материала, но вначале он не был систематически оформлен. Длинные проповеди смешивались с короткими, поэзия с прозой, учения об уме с учениями об элементах, учения о космологии – с историей, легендами и биографией. Однако с годами некоторые из самых ярких ученых, чьи умы были крепче и быстрее, начали придавать учениям систематическую форму. Результатом этого процесса сортировки, который занял столетия, стало то, что мы называем Абхидхармой.
Одно из ключевых достоинств Абхидхармы заключается в том, что она проясняет буддийскую терминологию, сравнивая использование термина в одном контексте с использованием его в другом, так что такой термин, к примеру, как нирвана, может использоваться с полной уверенностью в его точном значении. Ясность определений – одна из причин, почему мы все еще используем термины из древних индийских языков, пали и санскрита.
Абхидхармики также организовали учения в различные группы, чтобы можно было легче проследить их связи и постичь их в их полноте. Вполне естественно, что последователи Будды стремились привести различные его утверждения по разным поводам в некоторую систему. Так, к примеру, появилась «Вишудхимагга», «Путь очищения» Буддхагхоши, великого ученого Тхеравады пятого века нашей эры: в ней все учения Будды о медитации приведены в единую стройную систему6.
Это было великим достижением Абхидхармы, которая главенствовала в индийском буддизме примерно тысячу лет, поэтому ее понимание первостепенно для понимания индийской буддийской мысли. В то же самое время нужно признать, что у Абхидхармы есть и негативная сторона. Можно сказать, что она изгоняла из буддизма человеческий элемент, устраняя из учений весь биографический и исторический материал, искореняя мифы, легенды и, прежде всего, поэзию. В Абхидхарме выше всего ценилась безличность, научность и рациональность. (Со временем, что неизбежно, изгнанные элементы вновь утвердили себя в том, что стало называться буддизмом Махаяны и Ваджраяны, или тантрическим буддизмом).
По мере развития Абхидхармы появились две главные традиции, Тхеравада и Сарвастивада, каждая из которых со временем стала стремиться к описанию собственной, отличной от другой, версии учений Абхидхармы. Тхеравадинская версия была записана на палийском языке, так что, строго говоря, мы должны называть ее «Абхидхаммой» Тхеравады, поскольку это палийский эквивалент санскритского слова «Абхидхарма». Она составляет часть тхеравадинского Палийского канона. Абхидхарма Сарвастивады, которая была первоначально записана на санскрите, существует как часть Китайского канона, поскольку оригинальные санскритские тексты были утрачены.
Обе группы учений состоят из семи обширных томов, но, хотя между этими книгами и есть пересечения, по сути, они затрагивают различные вопросы7. Тхеравадины считают материал, содержащийся в их текстах Абхидхармы, проповедями Будды его покойной матери в девалоке, высшем небесном измерении, Тушите. Затем, как утверждает традиция, Будда повторил эти учения Шарипутре, мудрейшему из своих учеников, и таким образом была установлена традиция Абхидхармы. (Это утверждение яростно опровергали другие школы раннего буддизма, особенно саутрантики). Сарвастивадины, с другой стороны, честно признавались, что содержание их текстов Абхидхармы – это труды учеников.
Не все в начинаниях Абхидхармы складывалось просто. Различные интерпретации учений ранних школ были собраны воедино в «Каттхаваттху», «Вопросах для обсуждения», одной из семи книг тхеравадинской Абхидхармы. В «Каттхаваттху» некоторые воззрения совершенно отрицаются, но другие вопросы остаются неразрешенными: нам просто перечисляют взгляды различных школ, и мы вольны выносить собственное мнение. Обе группы учений формируют одну из трех «питак» или «корзин», на которые разделяются тексты канонической буддийской литературы: Виная-Питаку (книги о дисциплине), Сутра-Питаку («Сутта-Питаку» на пали – собрание проповедей) и Абхидхарма-Питаку («Абхидхамма-Питаку» на пали). Между вопросами, затрагиваемыми в Сутра-питаке и Абхидхарма-питаке, есть пересечения. Однако с самого начала Абхидхарма устремилась в направлении, которым мало интересовались труды других питак.
Уже скоро Абхидхарма начала выходить за пределы своих первоначальных целей. От анализа и классификации учений Будды она перешла к гораздо более далекой цели, начав анализировать и классифицировать целую вселенную, на самом деле, все существование. Для начала, абхидхармики были бескомпромиссны в использовании языка. Исключались такие выражения, как саттва (существо), пудгала (личность) и пуруша (самость), которые можно принять за предположение о том, что понятие «я» должно иметь некую субстанцию в реальности. Посредством ясного мышления в медитации опыт анализировался вплоть до тех пор, пока не определялись не сводимые ни к чему элементы существования. Абхидхармики предпочли называть эти элементы, дальше которых не может зайти анализ, дхармами – прикладное значение слова, которое совершенно отличается от обычного использования слова «Дхарма» в буддизме, обозначающего учение или доктрину Будды.
Так абхидхармики пришли к своего рода психо-физическому атомизму. Они считали дхармы ограниченным числом обладающих абсолютной реальностью отдельных элементов, которые в совокупности составляют всю вселенную – ментальную, физическую и духовную, сознательную и бессознательную. Таких элементов тхеравадины насчитывали 170, а сарвастивадины 75 – включая физические составляющие (элементы земли, воды, огня и воздуха, качества, такие, как подвижность и эластичность, а также пищу и другие предметы), а также ментальные составляющие, искусные, такие, как вера и осознанность, неискусные, как гнев и ложные воззрения, и нейтральные, окрашиваемые дхармами, с которыми они связаны.
И тхеравадины, и сарвастивадины подразделяли дхармы на две группы: самскрита-дхармы и асамскрита-дхармы. Эти термины буквально означают «составные» и «несоставные», но иногда их переводят как «обусловленные» и «необусловленные». Согласно Тхераваде, есть лишь одна необусловленная дхарма, нирвана, в то время как Сарвастивада выделяла три – два вида нирваны и пространство. Но для обеих школ традиции Абхидхармы это различие между обусловленными и необусловленными дхармами не является различием между реальным и нереальным. Это довольно важно. Все эти абсолютные элементы считались равно реальными и окончательными в том смысле, что ни один из них нельзя было свести к другим. И это на самом деле, как мы увидим, было в некотором роде ересью.
Даже этого краткого описания достаточно, чтобы показать, что представление Абхидхармы о дхармах очень отличалось от представления об элементарных частицах в западной науке. Однако существует аналогия в том, что, как на определенном этапе истории науки атомы считались мельчайшими «кирпичами» вселенной, так и абхидхармики считали, что дхармы нельзя расчленить на иные компоненты существования. (И, подобно тому, как физика частиц предложила совершенно иной взгляд на вещи, так и буддийская традиция позже разоблачила ограничения преставления Абхидхармы о дхармах, как мы увидим). Абхидхармики далее утверждали, что эта несводимость делает дхармы реальными в том смысле, в котором то, что мы считаем реальным – нас самих, столы и так далее, – реальным не является. Так Абхидхарма пришла к особой философской позиции, которую доктор Радхакришнан называет «плюралистическим реализмом», а термин «абхидхарма», который изначально значил просто «имеющий отношение к Дхарме», стал обозначать «высочайшее учение».