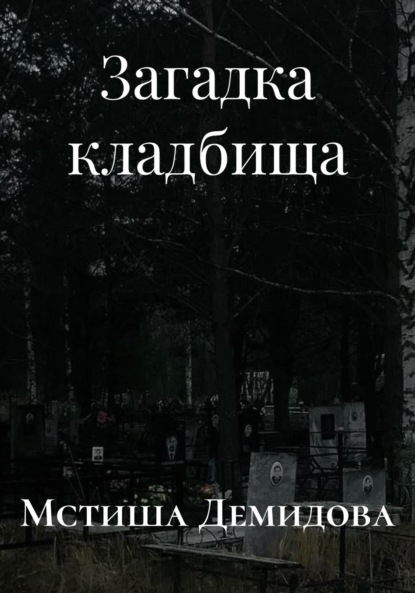Познай свой ум: психологическое измерение нравственности в буддизме
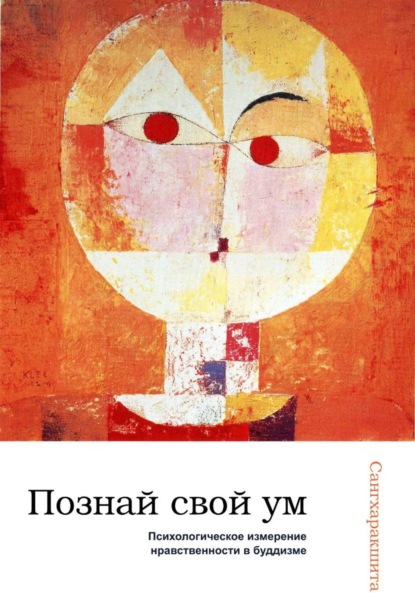
- -
- 100%
- +
Именно Будда начал традицию классификации явлений, хотя, как мы увидим, абхидхармики со временем отошли от его системы классификации. Он унаследовал от традиции Упанишад различие между нама (именем) и рупа (формой) и расширил его до анализа всего составного существования в терминах пяти скандх (совокупностей): рупы или формы, веданы или ощущения, самджни или распознавания, самскар или волевого акта и виджняны или сознания8. Но почему он это сделал?
По-видимому, он хотел выдвинуть возражения против статического воззрения на существование и нашего опыта его. Он хотел разбить внешне плотные и устойчивые вещи не на более мелкие части, а на процессы. Возьмем, к примеру, ведану, ощущение. Это не означает, что существует вещь, которую мы называем «ощущением» и которая является одной из пяти отдельных вещей, составляющих человеческую личность. Ведана – лишь процесс, который, взаимодействуя с другими процессами, составляет наш опыт самих себя.
Важно, чтобы мы понимали анализ Будды – и анализ Абхидхармы, который за ним последовал, – именно в таком ключе. Иначе, вероятно, под влиянием научного материализма, мы легко можем получить впечатление, что Абхидхарма отстаивает псевдонаучное сведение всего, что является отличительным для человека, к собранию безличных элементов. Из этого мы можем сделать в своем воображении вывод, что реальность – это пыль, к которой мы все сводим, – и это может усилить распространенное, но ошибочное представление о том, что буддизму свойственен нигилизм. Напротив, подобное воззрение предполагает видение возможности человеческого роста и развития. Анализ скандх – согласно которому мы видим то, что считаем собой, как составленное из этих пяти «совокупностей», и все они находятся в постоянном изменении, – необычайно вдохновляет. Если бы «я» было на самом деле постоянным и неизменным, человеческий рост был бы невозможен. Только реальность непостоянства предполагает возможность изменений.
Проведя различие между обусловленными и необусловленными дхармами, Абхидхарма переходит к делению обусловленных дхарм на группы, и именно в этом она отходит от традиции сутры – то есть от традиции несистематизированного буддизма. Сутры сохранили учение о пяти скандхах, этих пяти «сококупностях», это была их собственная классификация феноменального существования. Но Абхидхарма приняла совершенно иную классификацию, выдвинув три или четыре главных категории обусловленного существования как альтернативу пяти скандхам. Первая категория, мысль, была той же, что и первая из пяти скандх: рупа или материальная форма. Это эпистемологический объект. Гюнтер говорит: «Рупа – это … название для объективной составляющей ситуации восприятия»9. Другими словами, рупы – это что мы воспринимаем в нашем опыте. Это не материя, которая понимается как отдельная от воспринимающего. Мы просто озабочены тем фактом, что есть в нашем опыте что-то неподатливое, что сопротивляется нам различными способами.
Рупы традиционно описывается в рамках четырех великих элементов или махабхут: твердости, текучести, температуры или свечения, а также протяженности или атмосферного движения. Слово «махабхута» можно также перевести как «великое магическое преображение» или «великий дух», что, в связи с рупой, напоминает нам, что на самом деле мы не имеем возможности узнать, с чем мы сталкиваемся, когда наши чувства дают нам информацию об «объективном» мире. Наши чувства дают нам ощущение восприятия посредством зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния, но у нас нет доказательств того, что нечто может существовать объективно, кроме того, что опосредовано нашими органами чувств.
Так что в каком-то смысле рупа – это великая загадка. Можно даже рискнуть заявить, что идея о том, что мы вступаем в контакт с вещью, – не более чем языковая фикция, хотя сами абхидхармики и не заходили настолько далеко. Как иногда говорится в текстах Абхидхармы, дхармы не только чисто «концептуально составили существование» (праджняптисат), они «более чем концептуально составили существование» (дравьясат)10. Так что нет необходимости не доверять нашим чувствам, когда они говорят нам, что мы вступаем в контакт с чем-то: несомненно, если мы проходим в дверь, эта дверь – нечто большее, нежели языковая фикция, по крайней мере, с нашей точки зрения. Суть в том, что, сталкиваясь с чем-то, мы не можем точно узнать, с чем мы сталкиваемся, кроме как посредством наших чувств. Интересно, что термин «махабхута» подразумевает, что мы вступаем в контакт с чем-то живым, а не с инертной физической материей. Очевидно, нужно понимать представление Абхидхармы о четырех элементах не в качестве примитивных научных поисков, а в отношении к живым символам, представляющим собой различные проявления энергии.
Конечно, для Абхидхармы элементы земли, воды, огня и воздуха были просто четырьмя видами дхарм, которые она отождествляла с рупой. Согласно Тхераваде, существовало двадцать восемь подобных дхарм, хотя Сарвастивада к этой первой категории относила лишь одиннадцать дхарм. Вторая и третья категории, установленные абхидхармиками в качестве альтернативы пяти скандхам, составляют предмет рассмотрения этой книги: именно здесь аналитическая философия Абхидхармы становится аналитической психологией. Вторая категория – это ум или сознание (читта), а третья состоит в ментальных сопутствующих обстоятельствах или событиях ума, функциях, ассоциируемых с умом (чаитта на санскрите, палийский эквивалент – четасика).
До этого момента тхеравадинская и сарвастивадинская традиция соглашались друг с другом. Однако они начинают различаться, когда речь заходит о том, как они классифицируют ум и события ума. Что касается второй категории, тхеравадины утверждали существование 89 различных читт, включая кусала (искусные), акусала (неискусные) и авьякрита (нейтральные) состояния ума. Что касается третьей категории, событий ума, они перечисляли 52 четасики, считая каждую типом читты, который характеризуется особенной комбинацией событий ума. Сарвастивадины, с другой стороны, выделяя 46 событий ума (чаитт), признавали лишь единственный читта, утверждали, что ум, по сути, един, поскольку, хотя существует множество состояний ума, все они являются феноменами самого сознания, они не обладают независимостью.
Для тхеравадинов эти три категории охватывали все умопостигаемое обусловленное существование, но сарвастивадины выдвинули четвертую категорию, читта-випраюкта-самскара, «факторы, отделенные от ума». Она в своей основе состоит из всех других факторов, которые не подпадают под первые три категории, включая, к примеру, перечисление разнообразных возможных видов обусловленности или причинных отношений.
В сумме сарвастивадины выделяли 72 составные дхармы и три несоставные – то есть два типа нирваны (до и после паранирваны) и пространство, – в то время как тхеравадины насчитывали 169 составных дхарм и одну несоставную. Большинство из этих дхарм ментальны, поскольку все начинание Абхидхармы было предпринято для духовной цели медитации. Однако все они, составные они или несоставные, считались одинаково реальными, поскольку вместе они составляли неразрушимые блоки существования. На основе этого Абхидхарма вела обширную деятельность по составлению перекрестных отсылок.
Литература Абхидхармы ни в коей мере не сводилась к двум собраниям из семи книг – это было только начало. Впоследствии появились сотни других томов, но среди всех создателей текстов Абхидхармы особенно выделяются два, и оба относятся к пятому столетию нашей эры. Со стороны Тхеравады это был великий схоластический комментатор Буддхагхоша, автор «Вишудхимагги», «Пути очищения». Он был уроженцем Индии, но жил и работал в Шри-Ланке. Среди сарвастивадинов выделялся Васубандху, автор «Абхидхармакоши», который жил и работал в северо-западной Индии, и – как мы увидим – в пожилом возрасте стал последователем Махаяны.
Некоторые дискуссии и классификации Абхидхармы очень полезны, но другие – в меньшей мере. Следовательно, мы должны принять в обучении аналитический и критический дух самой Абхидхармы, не проглатывая ее, так сказать, целиком. Если бы нам было нужно глотать все без разбора, считая, что все, что происходит из Индии, Тибета или Японии – нечто чудесное, мы бы, вероятно, заработали интеллектуальное, духовное или эстетическое несварение. Нам нужно учиться выбирать – что означает, что нам понадобится добрый совет.
В палийском каноне Будда рассказывает историю, чтобы проиллюстрировать опасность подражания просветленному поведению для того, кто не обладает опытом Просветления. Он говорит, что однажды были слоны, которые вырывали из пруда лотосовые побеги и тщательно промывали их, прежде чем съесть – и чувствовали себя великолепно. Но другие, молодые слоны, не внявшие наставлениям старших, отправились на пруд и съели корни, как есть, покрытыми грязью. Это плохо отразилось как на их внешнем виде, так и на здоровье, они не смогли излечиться и испытали от этого смертные муки11. Мораль этой истории в том, конечно, что мы не должны следовать хорошему совету бездумно.
Именно этот критический дух привел к возникновению новой фазы в истории Абхидхармы, которая отмела многие ранние идеи. Эта новая инициатива была частью махаянской традиции индийского буддизма, который возник в противовес все более узкой сосредоточенности некоторых школ, впоследствии охарактеризованных (не ими самими) термином «Хинаяна», «Меньший Путь». Махаяна по-новому расставила акцент в практике буддизма – на поклонении, метафизике и медитации, на доступности Дхармы для всех, независимо от того, являются ли они монахами или мирянами. А в том, что касается философии, Махаяна прямо отвергла реальность дхарм как целостных объектов, обладающих абсолютным существованием. Подобно тому, как пуста самость, так, настаивали приверженцы Махаяны, пусты и дхармы. Все, что, как мы считаем, можно отождествить с реальностью, на самом деле пусто от собственной природы (свабхава).
То, что ранние школы заходили настолько далеко, что утверждали существование определенного фиксированного числа материальных и нематериальных элементов, которые далее не сводились к чему-либо, но к ним можно было свести все существующие феномены, было очень серьезным заявлением. С самого начала центральной для буддизма была доктрина анатмана («не-я»), которая отрицала, что любой объект может существовать в абсолютном смысле, будь этот объект запредельным или мирским, вечным неизменным принципом личности или самостью. Как мы видели, именно для того, чтобы противостоять ложному воззрению об абсолютной самости, сам Будда свел так называемую личность к пяти скандхам (кхандам на пали), показав, что, помимо этих психофизических феноменов, которые находятся в состоянии постоянного потока, не существует никакой неизменной психической основы, соответствующей атманам, как их понимают некоторые небуддийские школы.
По иронии судьбы, хотя именно развитие анализа существования в рамках скандх, сделанный Буддой, послужило предметом особой заботы абхидхармиков, в результате этого анализа они пришли, по сути, к противоречию с доктриной анатмана. По-прежнему утверждая, что пудгала (личность) или атман (самость) являются не чем иным, как собранием эфемерных частиц, как мы видим, они рассматривали сами части как существующие реально – как, по сути, обладающие абсолютной реальностью. Это было отклонением от общепринятого взгляда с самыми разрушительными последствиями. Как понимали махаянисты, по сути, это было отрицанием доктрины анатмана, поскольку представление о постоянной индивидуальности не преодолевалось, а лишь переносилось с целого на части.
Для того, чтобы противостоять этой тенденции впадать в еретическую склонность к этернализму (сасватавада), махаянисты выдвинули собственную докртрину – на самом деле, вернувшись к позиции самого Будды – сарва-дхарма-шуньяты, «пустоты всех дхарм». Дхармы, утверждали они, не обладают самосуществованием, они возникают в зависимости от условий и не могут рассматриваться в качестве абсолютной реальности, не более, чем «я».
Связующим звеном между ранней хинаянской Абхидхармой и махаянским развитием доктрины Абхидхармы послужил Асанга, который жил в северо-западной Индии в четвертом или пятом столетии нашей эры. Его «Абхидхармасамуччая», «Собрание Абхидхармы»12, является сокращенной версией первых двух глав его труда «Йогачарабхуми», который приспосабливает Сарвастиваду (т. е. Абхидхарму Хинаяны) к учениям «Великого Пути», Махаяны. Как мы увидим, анализ ума и событий ума, приведенный в «Абхидхармасамуччае», несколько отличается от сарвастивадинской классификации, и результатом становится иной и немногим более длинный список событий ума (51 вместо 46).
Хотя Асанга всегда был последователем Махаяны, его старший брат Васубандху пришел к воззрению Махаяны уже в конце своего буддийском пути. Он уже стал величайшим учителем школы Сарвастивада и составил основной труд Абхидхармы на санскрите, «Абхидхармакошу», «Сокровищницу Абхидхармы»13 к тому моменту, когда Асанга убедил его заняться практиками Махаяны. Основная работа Васубандху является плодом этого перехода: он написал комментарий к своей собственной «Абхидхармакоше», «Абхидхармакошабхашья», критикуя сарвастивадинские взгляды в позиции Саутрантики. Впоследствии Васубандху стал великим учителем школы Йогачара Махаяны, уступающим лишь самому Асанге.
Йогачара – одна из двух основных школ индийской традиции Махаяны (другой является Мадхьямика), но две школы тесно взаимосвязаны, и различие между ними на самом деле сводится к преобладающим акцентам. В самом общем смысле, можно сказать, что Йогачара приняла скорее психологический подход, в то время как Мадхьямика была более логической, метафизической и даже диалектической. Йогачара была более тесно связана с опытом медитации, так сказать, в то время как последователей Мадхьямики главным образом занимала абстрактная истина.
Школа Мадхьямики, вероятно, возникла примерно в первом или втором веке, вместе с Нагарджуной, который пытался показать нереальность того, что мы принимаем за реальность, путем разоблачения его противоречивой природы. Он приводил логические доводы, почему существование этих вещей невозможно, доказывая, что каждая формулировка, которую мы создаем для описания или отображения природы реальности, наполнена противоречиями, включая даже категории буддийской мысли. Он разоблачал все, за исключением шуньяты – шуньяты, с которой, так сказать, сорваны покровы любого концептуального содержания. Стоит признать, что некоторые из здравых логических доводов Нагарджуны оказались ошибочными, но его начинание было довольно смелым. Вероятно, единственным методом западной философии, сравнимым с его попытками, можно назвать элеатический метод Парменида. Но если Парменид совершал свои духовные упражнения ради абсолютного бытия, Нагарджуна делал это ради шуньяты или «пустоты»14.
Следовательно, Нагарджуна и приверженцы школы Мадхьямика, хотя они определенно медитировали, в целом полагались на постоянное и непрерывное философствование. С другой стороны, Йогачара, хотя у этой школы и была серьезная философская основа, полагалась на медитацию. Само название «Йогачара» означает «практика йоги» в значении медитации. Философия, которая возникла в результате медитации йогачаринов, основывалась на идее читтаматры или «только ума», которая во многих отношениях была близка имматериализму епископа Беркли, английского философа-эмпирика XVIII в.
Читтаматра отвергает реальность материи как категории, отдельной от ума. То, что мы воспринимаем, – не внешние объекты как таковые, а объекты в противопоставление нам самим, субъекту. Мы воспринимаем «впечатления ума», и это все. Значение этого постижения заключается в том, что, если вы устраняете понятие объекта, вы, в действительности, устраняете и понятие субъекта. Не может существовать субъекта без представления об объекте и наоборот. Так вы разрушаете понятие «я», которое отлично от мира, и остаетесь наедине с «только умом». Этот «только ум» – по определению не «ум» в противовес «материи», и, следовательно, это не ум в том ограниченном смысле слова, в котором мы обычно его понимаем.
Так на протяжении столетий ученые буддизма Махаяны развили и усовершенствовали абхидхармическое видение вселенной, которое тхеравады и сарвастивадины вывели из собственного понимания учения Будды. Если взглянуть, скажем, на «Абхидхармакошабхашью», в которой Васубандху комментирует обсуждения другими учеными его собственных строф, то цитаты из различных учителей и школ, приводимые им, создают впечатление яростных дискуссий, длящихся веками. Абхидхарма известна как «наслаждение для ученых», поскольку, если человек обладает академическим складом ума, он может счастливо провести целую жизнь, погрузившись в ту или иную область изучения. Он вряд ли заметит, как проходят годы, проносятся десятилетия, пока он все глубже и глубже зарывается в свою любимую тему Абхидхармы. По крайней мере, некоторые из ученых Абхидхармы, несомненно, медитировали над тем, что они изучали, и их вклад в обсуждения воплотил реальные духовные озарения. Но опасность заключается в том, что Абхидхарма становится приятным хобби, самоцелью, и человек утрачивает видение изначальной духовной цели Абхидхармы.
В Тибете Йогачара и Мадхьямика были объединены, и ламы всех школ всегда изучали работы обеих традиций. Особенно трудно провести различия среди тибетских буддистов – и это справедливо также и по отношению к позднейшим этапам развития буддизма в Индии. Очень часто монахи проводили многие годы, изучая, скажем Абхидхарму и логику, а затем отправлялись в путь и становились бродячими йогинами, практикующими дисциплины Тантры. Однако внутри общего свободного потока идей можно вычленить определенные модели.
Рассматривая две основные школы тибетского буддизма, Гелуг и Нингма, вероятно, можно утверждать, что последователи школы Нингма, основанной Падмасамбхавой, являются наследниками традиции Йогачары, поскольку они уделяют большое внимание медитации и непосредственному опыту. Школа Гелуг испытала большее влияние традиции Мадхьямика и склонна считать Йогачару, в каком-то смысле, истиной низшего порядка, своего рода преамбулой к полноте истины системы Мадхьямики.
Следовательно, в тибетском буддизме не существует отдельной школы Абхидхармы Йогачары. Однако, хотя очевидно, что нингмапинцы черпают вдохновение в Йогачаре, из двух школ именно традиция Гелуг более тесно связана с изначальной литературой индийского буддизма, включая литературу Йогачары. Гелугпинцы отправлялись в дорогу для изучения сутр, Абхидхармы, Винаи, логики и эпистемологии, в то время как нингмапинцы концентрировались на тантрах, литературе терма и работах учителей собственной школы.
Следовательно, неудивительно, что Еше Гьялцен (1713-1793), автор текста, на основе которого будет даваться этот комментарий, «Ожерелье ясного понимания»15, – тибетский буддист школы Гелуг. Но он не представляет собой какую-то особую линию гелугпинской интерпретации. Хотя он включает в текст цитаты Цонкапы (основателя традиции Гелугпа) и учеников Цонкапы, он, несомненно, направляет все свои усилия на верное истолкование изначальной традиции Абхидхармы Йогачары, как она раскрывается Асангой в «Абхидхармасамуччае». В основном он следует традиции Йогачары, обращаясь к уму и событиям ума только в той мере, в которой это, так или иначе, соответствует Мадхьямике.
По форме «Ожерелье ясного понимания» следует модели, довольно распространенной в буддийской литературе. Автор пишет ряд строф, которые выражают то, что он хочет сказать, как можно более точно (возможно, в целях запоминания), а затем объясняет каждую строфу прозаическим комментарием. Поскольку это комментарий к его собственному труду, он называется автокомментарием. Без сомнения, можно было бы предложить и дальнейший комментарий на его автокомментарий, но для того, чтобы дать основные очертания Абхидхармы, это, скорее всего, было бы малопродуктивным. Поэтому я просто буду основывать свои комментарии на основе композиции и в рамках труда Еше Гьялцена, обращаясь к его цитатам и комментариям, как уместным, а также время от времени отсылая к другим трудам. «Ожерелье ясного понимания» – довольно простой труд, и, следовательно, это хорошее введение к тому, что, вероятно, является самой важной и полезной частью вопроса в целом.
Конечно, сам Еше Гьялцен был в состоянии использовать то, что к его времени составляло две тысячи лет традиции Абхидхармы. Он сам пишет во многом в духе ранних абхидхармиков, всегда сосредотачиваясь на практическом духовном вкладе учения, и избегает детальных обсуждений абстрактных вопросов.
Есть еще один труд, из которого я возьму ряд определений и объяснений – «Чэн вэй ши лунь»16, «Доктрина Чистого Сознания», которая является основным текстом китайской ветви Йогачары. Она была написана китайским паломником, переводчиком и ученым Сюаньцзаном и состоит из собрания тридцати строф Васубандху, посвященных учению Виджнявады (Йогачары), объясненных и прокомментированных Сюаньцзаном. На санскрите текст Васубандху известен как «Виджняптиматратасиддхи-тримшика», «Трактат об установлении (или доказательстве) только-Виджнапти». Комментарий Сюаньцзана на труд Васубандху основан на восьми индийских комментариях, но главным образом полагается на работу Дхаммапалы, настоятеля великого индийского буддийского университета Наланда в шестом веке нашей эры. На основе его интерпретаций Йогачары Сюаньцзан создал школу Фасян, когда вернулся в Китай.
Просто для того, чтобы завершить картину передачи этого учения, я должен добавить пару слов о контексте, в котором «Ожерелье ясного понимания» было переведено доктором Гюнтером и доктором Кавамурой. До недавних пор доктор Гюнтер работал в области буддийской психологии практически в одиночестве. Однако сегодня важные новые тексты становятся доступны в переводе практически каждый год, и этот процесс, вне всякого сомнения, продолжится еще несколько десятилетий. Вклад буддизма в интеллектуальную и духовную жизнь Запада в двадцатом столетии уже стал довольно существенным, и публикация более трудных текстов, подобно тем, которые связаны с Абхидхармой, еще более увеличит этот вклад.
Хотя большая академическая работа уже была проделана в изучении тибетского буддизма на протяжении последних нескольких десятилетий, и первенство в ней принадлежит главным образом японским учетным, теперь необходим процесс фильтрации, чтобы отделить действительно важные тексты от тех, что менее важны. С практической точки зрения нам на самом деле не нужны многие буддийские тексты. Нам не нужно овладеть всей обширной буддийской литературой, чтобы практиковать буддизм. Возьмем, к примеру, буддийскую логику: каким бы интересным ни было ее развитие с академической точки зрения, сомнительно, имеет ли она на самом деле какое-либо значение для практикующих буддистов на Западе.
Следовательно, нужен творческий подход к этому наплыву буддийской литературы в западную культуру. Единственный период буддийской истории, в котором мы можем найти параллели с настоящим, – это время, когда индийские тексты впервые начали переводиться на китайский. Китайским эрудитам пришлось попытаться разобраться в этой таинственной новой литературе, привыкая к ней и усваивая ее, насколько это было возможно. Тибетцы, напротив, не обладали высокоразвитой добуддийской цивилизацией, что позволило бы им произвести своего рода оценку или ответ на буддизм, как это было в средневековом Китае и как это происходит в Европе в наши дни.
Однако наивное принятие буддизма тибетцами обладало несомненными духовными преимуществами. Опасность искушенной реакции на буддийские учения на Западе заключается в том, что он сводит их к банальности: Дзэн, к примеру – как заметил мой друг, который писал о лондонских буддийских кругах начала 60-х, – стал «остроумным предметом болтовни за чашкой чая».
Еще одна опасность, на которую я уже указывал, заключается в том, что все учение становится «психологизированным» – то есть отправной точкой становится психология в более узком смысле, нежели духовное и запредельное. Против этого нет надежной защиты: непросветленный ум всегда найдет себе лазейку. Лучшее, что мы можем сделать, – развивать традицию изучения и интерпретации, чтобы удостовериться, что тексты, так сказать, не предоставлены сами себе, так что любой может истолковать их превратно. Что нам нужно, так это помнить о сущностной практической природе Абхидхармы – как в помощи в практике медитации, поскольку она позволяет нам отличить искусные состояния ума от неискусных, так и в помощи в осознании того, что то, что мы обычно считаем своим «я», является лишь постоянно меняющейся комбинацией состояний ума. Это осознание имеет высочайшее значение для любого буддиста.