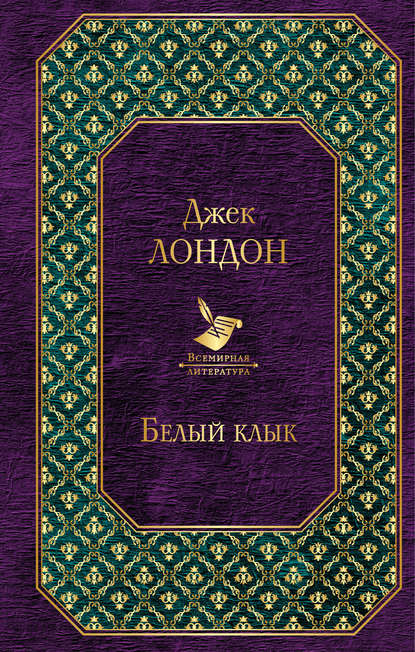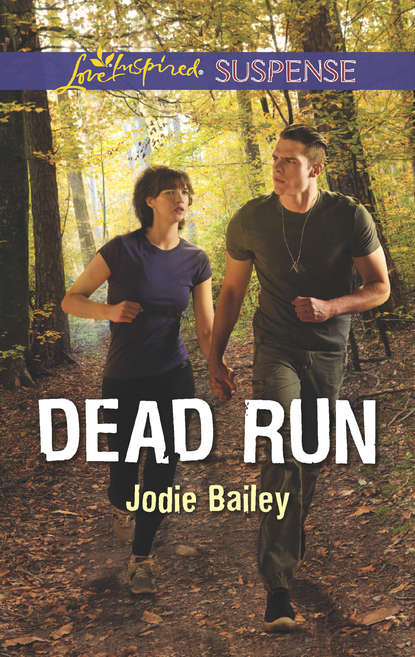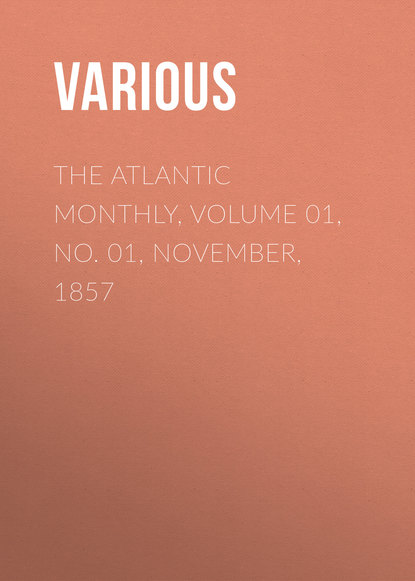Оды. Стихотворения
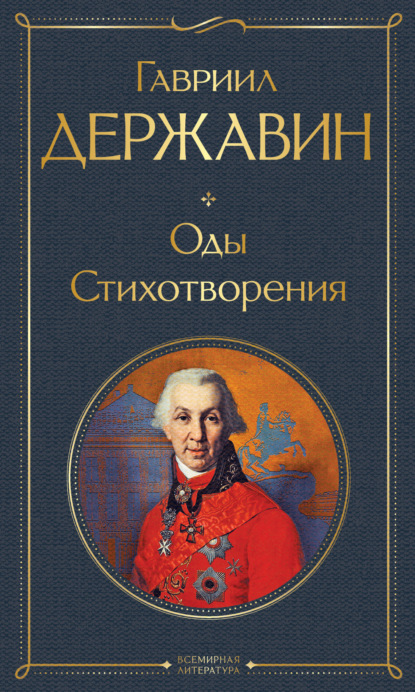
- -
- 100%
- +
В эти же годы рельефно обозначились отличительные черты державинского характера: неукротимая энергия и активность («действовать, надо действовать» – было его постоянным призывом), пылкость и нетерпеливость, смелость, решительность, прямота, отсутствие умения подлаживаться к начальству и, наоборот, резко выраженное чувство личного достоинства. Все это вызывало сильнейшее раздражение со стороны начальников Державина, в особенности нового главнокомандующего, графа Петра Панина, который грозил не более не менее, как повесить его вместе с Пугачевым. В результате Державина не только обошли наградами, но было даже признано, что он «недостоин продолжать военную службу». Тогда поэт решил действовать напролом: не удовлетворившись подачей прошения самой императрице, он несколько раз почти силой «врывался» к ставшему в это время могущественным временщиком Г. А. Потемкину. Однако вырванная им наконец таким способом награда оказалась относительно невелика, к тому же Державин, вопреки его желанию, был «выпущен в статскую» службу. Решение это жестоко оскорбило Державина, но делать было нечего, вернее – оставалось действовать в духе времени. «Очутясь в статской службе, – с полной откровенностью рассказывает он в своих «Записках», – должно было искать знакомства между знатными людьми, могущими доставить место в оной» (6, 537).
Вскоре Державину удалось стать своим человеком в доме одного из влиятельнейших людей екатерининского царствования, генерал-прокурора князя А. А. Вяземского, и с его помощью получить довольно видную должность в Сенате. Наладил Державин и свою личную жизнь: в 1778 году он женился на восемнадцатилетней Екатерине Яковлевне Бастидон – «Пленире», как он стал называть ее в своих стихах.
3К копцу 70-х годов достигает полной зрелости и замечательного расцвета державинское творчество.
Хотя Державин, как мы уже знаем, прорываясь через карантин, сжег свои ранние произведения, в его бумагах сохранились две тетради, в которые он вскоре после этого внес, очевидно, по памяти некоторые свои стихотворения 60-х – начала 70-х годов. Это дает возможность составить представление о постепенном развитии его поэзии.
В русской литературе 60-х годов, в рамках одного литературного направления – русского классицизма, – боролись две школы, две поэтические манеры и традиции. Патетической, ставившей своей задачей утверждение созидающейся национальной государственности и национальной культуры поэзии Ломоносова, который культивировал по преимуществу жанр хвалебной, торжественной оды, противостояла сословно-дворянская традиция Сумарокова, усиленно проводившаяся его многочисленными учениками. Сумароков и его последователи и продолжатели резко восставали против риторической приподнятости, гремящего пафоса, «громкости», «витийства» од Ломоносова, требовали «простоты» и «естественности» стиля и языка. В противовес жанру ломоносовской оды они усиленно культивировали жанры интимной, камерной лирики (так называемая «анакреонтическая ода», посвященная воспеванию чувственных наслаждений; любовная песня; элегия) и сатирические жанры (сатира, басня, эпиграмма).
Еще в молодости Державин высоко оценил «национально-патриотический настрой героической лиры Ломоносова, как и то, что в своих поэтических созданиях он впервые дал почувствовать мощь и богатство русского языка, силу и звучность русского стиха – сделал, говоря его собственными словами, русскую поэзию «красавицей». «Холодный» (эпитет Пушкина), рассудочный Сумароков далеко уступал здесь Ломоносову. Поэтому в ожесточенной борьбе Сумарокова с Ломоносовым Державин решительно стал на сторону последнего. Когда Сумароков выступил по поводу героической поэмы Ломоносова «Петр Великий» (Ломоносов успел написать лишь две песни ее) с язвительной эпиграммой-эпитафией, Державин написал встречную эпиграмму в адрес «Терентия (т. е. Теренция – древнегреческого комедиографа) Облаевича Цербера», в которой сравнивал поэзию Ломоносова с «морем», а творчество Сумарокова с «лужей».
В то же время Державина явно не удовлетворял несколько односторонний, по преимуществу восхваляющий характер поэзии Ломоносова, как и почти совершенная оторванность ее от личной жизни самого поэта. В этой связи его по-своему привлекало жанровое разнообразие, характерное для творчества Сумарокова, выдвинувшего в своей эпистоле «О стихотворстве» положение: «Все хвально, драма ли, эклога или ода, Слагай, к чему тебя влечет твоя природа». И, наряду с одами в духе и стиле Ломоносова, среди ранних стихов Державина мы находим, причем еще в большем количестве, и любовные песни, и басни, и разного рода стихотворные мелочи – «безделки»: мадригалы, эпиграммы, шуточные двустишия, так называемые «билеты» и т. п.
Мало того, в первом же стихотворении «Идиллия», открывающем одну из уже упомянутых двух рукописных тетрадей Державина, озаглавленную им «Разные стихотворения» (в другую тетрадь вписаны его любовные песни), поэт прямо противопоставляет свой творческий путь «высокому» пути «российского Пиндара» – Ломоносова:
Не мышлю никогда за Пиндаром гонятьсяИ бурным вихрем вверх до солнца подыматься… Не треснуть бы с огня. Стихи мои слагать — Довольно для меня Зефиру подражать:Он нежно на цветы и розы красны дует И все он их целует;Чего же мне желать? Пишу я и целую, Анюту дорогую.Однако сейчас же вслед за этим стихотворением в ту же тетрадь Державин вписывает под названием «Fragmentum» («Отрывок») строфу из оды, написанной им в связи с громкими победами русского оружия в так называемой первой турецкой войне 1768–1774 годов:
Что день, то звук и торжество,Летят победами минуты.Коль склонно вышне божествоТебе, богиня, в брани люты!На всток, на юг орел парит! —За славой вихрь не ускорит!Ты, муза, звезд стремясь в вершины,Как мой восторг, несись, шуми,Еще триумф Екатерины,Еще триумф, звучи, греми.Здесь, как видим, Державин, вопреки только что заявленному им намерению не возлетать на небеса вслед за Пиндаром, как раз возносится «в вершины звезд», «гремит» в традиционном стиле ломоносовской победной оды. Чередование, порой почти одновременность разработки личной и общественной тематики характерны и для последующего творчества Державина. В своих многочисленных одах, посвященных боевым подвигам и победам русских войск, он и впредь будет во многом следовать ломоносовской традиции. Но сохраняет он ее лишь для жанра победных од. В остальном же творческие принципы Ломоносова уже не удовлетворяют его собственным устремлениям: выйти за рамки условно-мифологизированного мирка, с «вершин звезд» сойти на землю, приблизиться к реальному миру – природе, человеку, высказать в своих стихах самого себя – свои личные мысли, чувства, переживания.
Читалагайские оды Державина, хотя и прошли словно бы незамеченными, по-видимому, сделали его известным в литературной среде. Примерно в это же время Державин вошел в дружеский кружок, состоявший из нескольких талантливых литераторов: разносторонне одаренного, сочетавшего в себе поэта, живописца, архитектора, знатока музыки с механиком, геологом, изобретателем – Н. А. Львова; поэта, будущего автора резко оппозиционной «Оды на рабство» и острой сатирической комедии «Ябеда» – В. В. Капниста и поэта-баснописца И. И. Хемницера, самого значительного из русских баснописцев до Крылова. Литературные взгляды и Львова, и Капниста, и Хемницера не выходили за рамки классицизма. Однако в большей степени, чем с требованиями законодателя классицизма XVII века Буало, авторитет которого так высоко стоял в глазах и Кантемира, и Тредиаковского, и Сумарокова, они были связаны с эстетической концепцией французского теоретика середины XVIII века Баттё, представителя более поздней стадии в развитии классицизма. Основное назначение искусства, по Баттё, заключается в том, чтобы одновременно и «нравиться», и «поучать», причем поэт должен осуществлять эту цель путем «подражания изящной природе». Из всех классических образцов – поэтов древности – наиболее отвечал этим теоретическим установкам Гораций, который в своих эпизодах, сатирах, посланиях умел сочетать лирический тон с шутливо-насмешливым и сатирическим, соединять этико-философское содержание, «правила любомудрия» (позднейшее выражение о нем Державина), окрашенные в эпикурейско-анакреонтические тона, с простотой и изяществом поэтического выражения. В то же время члены кружка, и в особенности Н. А. Львов, ратовали за национальную самобытность литературы, интересовались народным творчеством. Позднее, в 1790 году, Львовым было издано с его предисловием «Собрание русских народных песен с их голосами», т. е. музыкальными записями, сделанными Прачем.
Тесные дружеские связи, установившиеся у Державина с этим кружком, позднее закрепленные родственными отношениями (Капнист, Львов и – вторым браком – Державин женились на трех сестрах Дьяковых), несомненно, способствовали расширению его литературного кругозора и помогли выбору им нового, по сравнению с Ломоносовым, пути.
Сам Державин так рассказывает об этом в набросанной им в 1805 году автобиографической записке, говоря в ней о себе в третьем лице: «Он хотел подражать г. Ломоносову, но как талант сего автора не был с ним внушаем одинаковым гением, то, хотев парить, не мог выдерживать постоянно красивым набором слов, свойственного единственно российскому Пиндару, велелепия и пышности. А для того с 1779 г. избрал он совсем особый путь, будучи предводим наставлениями г. Баттё и советами друзей своих: Н. А. Львова, В. В. Капниста и И. И. Хемницера, подражая наиболее Горацию» (6, 443).
1779 год в качестве начала этого «особого пути» указан здесь Державиным совершенно точно. Однако несомненного влияния друзей на направление и развитие его творчества не следует слишком преувеличивать, как не следует преувеличивать и его указания на подражательность. В рукописях Державина сохранились многочисленные следы усиленной редакторской правки многих его стихотворных произведений Львовым и Капнистом, к которым позднее присоединился крупнейший представитель нового литературного направления – русского сентиментализма, ближайший соратник Карамзина, поэт И. И. Дмитриев. Все эти поправки преследовали определенную цель. Друзья стремились ослабить порой шокировавшую их резко необычную поэтическую смелость Державина; сгладить некоторую угловатость, иногда и прямо неуклюжесть его художественной формы – языка, стиха, – словом, по возможности ввести громадное и глубоко самобытное, но действительно во многом необработанное, похожее скорее на богатую золотоносную руду, чем на чистый металл, дарование Державина в границы принятых ими «правил», определявшихся наставлениями Баттё, примерами классических образцов и требованиями «изящного вкуса». Державин принимал многие поправки своих добровольных советчиков и редакторов, но в наиболее существенном поступал по-своему. До нас дошел характерный рассказ. Однажды Капнист и И. И. Дмитриев настаивали на внесении Державиным предлагаемых ими то в том, то в другом стихе поправок. «Державин внимательно слушал, сперва соглашался, а потом рассердился и сказал: «Что же – вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?» Тем и кончилось совещание»[4]. В этом случае видна не только непреклонная решимость Державина сохранить свое индивидуальное творческое лицо, но и его замечательный по тому времени взгляд на свои стихи как на отражение действительно им пережитого и перечувствованного, как на своего рода поэтическую автобиографию.
С 1778 года стал выходить в свет новый ежемесячный журнал «Санкт-Петербургский вестник», издававшийся литератором Григорием Брайко, – самый значительный и прогрессивный из всех существовавших тогда русских периодических органов. В «Санкт-Петербургском вестнике» печатались почти все члены дружеского кружка. Но особенно деятельным участником нового издания почти с самого его начала стал именно Державин: в журнале с июня 1778 года по январь 1781 года включительно было напечатано около 30 его стихотворений, от четырехстишных надписей до монументальных стихотворных произведений, заключавших в себе от 50 до 100 стихов. Два стихотворения Державина были опубликованы в 1779 году и в другом журнале, который только что начал издаваться при Академии наук, – «Академических известиях». Все стихотворения Державина печатались без указания имени автора, ибо, по его собственным словам, не будучи уверенным в их достоинствах, он не хотел ставить под ними своего имени. Однако читатели, как сообщал Державину издатель «Санкт-Петербургского вестника», одобряли творения неизвестного им поэта, и одобряли не зря, ибо, наряду с вещами не очень значительными, в конце 1779 года появилось одно за другим несколько таких созданий Державина, в которых его могучее дарование начало развертываться в свою полную силу. В сентябрьской книжке «Санкт-Петербургского вестника» было опубликовано стихотворение «На смерть князя Мещерского», в октябрьской – «Ключ», наконец, в декабрьской – «Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока».
Первое из этих стихотворений, написанное в форме оды, а по существу представляющее элегию, было вызвано известием о смерти одного из близких знакомых Державина, князя А. И. Мещерского, и адресовано к общему их приятелю, С. В. Перфильеву. И Мещерский, и Перфильев к правящей верхушке не принадлежали и потому, по понятиям того времени, мало подходили для одического воспевания. Уже это одно придавало оде Державина необычно частный характер, усиливавшийся наличием в ней – в качестве своего рода лирического отступления – интимно-автобиографических строк об уходящей молодости, предвосхищающих некоторые места пушкинского «Евгения Онегина»:
Как сон, как сладкая мечта,Исчезла и моя уж младость;Не сильно нежит красота,Не столько восхищает радость…В то же время этому «частному» стихотворению Державин придает большое общечеловеческое звучание. Тема стихотворения – мысль о грозной, неодолимой смерти, неизбежно ожидающей все живое. Мысль эта сама по себе не отличалась особой новизной, в частности, она неоднократно разрабатывалась приблизительно в том же духе и до Державина в современной ему русской поэзии (у Хераскова и, особенно близко к Державину, у Сумарокова – в стихотворении «Часы»). Но под пером Державина она, однако, приобрела такую неслыханную ранее энергию поэтического выражения, что его ода-элегия стала в ряд замечательнейших образцов мировой поэзии.
Менее значительно, более связано с условной, традиционно аллегорической эстетикой классицизма стихотворение Державина «Ключ», посвященное восхвалению творца первой законченной русской эпической поэмы – «Россияда» – Хераскова.
Но вместе с тем в сменяющих друг друга зарисовках Державиным ручья, протекавшего в подмосковном имении Хераскова, Гребеневе, показываемого при разном – дневном, вечернем, ночном освещении, уже дает себя чувствовать одна из замечательных особенностей поэзии Державина – ее яркая картинность, живописность. Вот, например, выдержанное в «огненной» цветовой гамме описание освещенного утренней зарей «шумного и прозрачного» источника, «текущего с горной высоты»:
Когда в дуги твои сребристыГлядится красная заря,Какие пурпуры огнистыИ розы пламенны, горя,С паденьем вод твоих катятся!С наибольшей силой становление Державина на «особый путь» в поэзии сказалось в «Стихах на рождение в Севере порфирородного отрока».
В своем знаменитом программном произведении – «Разговор с Анакреонтом» – Ломоносов, противопоставляя друг другу две темы – героико-патриотическую и интимно-личную, любовную, – соответственно этому противопоставлял и два жанра и стиля – торжественной оды и анакреонтической песни. Державинские «Стихи (слово, не имеющее признака жанровой характеристики и употребленное Державиным, несомненно, сознательно. – Д. Б.) на рождение в Севере порфирородного отрока» воспевают только что родившегося старшего сына наследника престола Павла Петровича, будущего императора Александра I. Но в них традиционная тема хвалебной торжественной оды впервые облечена в форму легкой и шутливой анакреонтической песенки. Это подчеркивается всем художественным строем стихотворения – системой его образности, языком, отсутствием строфического членения, наконец, даже стихотворным размером (взамен канонизированного Ломоносовым для жанра хвалебной оды четырехстопного ямба, державинские «Стихи» написаны четырехстопным хореем).
Отталкивание Державина в его «Стихах» от ломоносовской оды должно было ощущаться тем сильнее, что открываются они строкой, перекликающейся со стихом одной из наиболее прославленных од Ломоносова – «На восшествие на престол Елисаветы Петровны 1747 г.»: «С белыми Борей власами» (У Ломоносова: «Где мерзлыми Борей крылами»). Но традиционный образ Борея выполняет у Державина совсем иную функцию. Ломоносову он нужен для того, чтобы вызвать в сознании читателя ощущение грозного величия. У Державина Борей – условное обозначение морозной русской зимы. И в самом деле, вслед за мифологическим зачином Державин тут же развертывает северный зимний пейзаж, по художественности обрисовки решительно превосходящий все то, что имелось в этом отношении в додержавинской поэзии.
Правда, упоминающиеся в дальнейших строках нимфы и сатиры словно бы не имеют никакого отношения к реальному пейзажу. Но в сатирах, согревающих руки «у огней», легко угадываются русские мужички, раскладывающие костры, чтобы обогреться. Названы же они сатирами в порядке некоего нарочитого литературного приема, шутливого – в духе ироикомической поэмы – «пересмеивания» традиционно высоких мифологических персонажей, «пересмеивания», способствующего тому общему «снижению» – приближению к реальной жизни – жанра хвалебной оды, которое по всем линиям здесь и проводится.
Новая форма стихов Державина является закономерным художественным выражением возникающего нового отношения поэта-одописца к предмету его воспевания. В своих «Стихах» Державин еще традиционно говорит о рождении будущего царя: «Знать, родился некий бог», несколько дальше называет «порфирородного отрока» «полубогом». Но он же одновременно обращается к нему со следующим, столь новым в устах поэта-одописца и столь знаменательным призывом, на котором лежит несомненный отпечаток передовых идей «века Просвещения»: «Будь страстей твоих владетель, Будь на троне человек!» В частности, эти державинские строки весьма характерно перекликаются с рядом мест «Слова на выздоровление Павла Петровича» Фонвизина (вышло в 1771 г. отдельной брошюрой; в 1772 году перепечатано Новиковым в его «Живописце»).
Взятая здесь Державиным высокая гуманистическая нота становится отныне своего рода лейтмотивом, неизменно снова и снова возникающим в его творчестве. «Я человек», – говорит у него Екатерина II в оде «Изображение Фелицы»; «Владыки света люди те же» («Видение мурзы»); брата временщика Зубова Державин хвалит за то, что он «был в вельможе человек» («На возвращение графа Зубова из Персии»). Не умрут дела лишь того, кто, движимый стремлением «общего добра» в сане «всех вельмож, судей, царей Чтит лишь только человека И желает сам им быть», читаем в позднейшей оде Державина «Время» (1805); причем из контекста ясно, что поэт имеет здесь в виду самого себя. Еще прямее пишет об этом Державин два года спустя в стихотворении «Признание» (1807), которое он рассматривал как «объяснение на все свои сочинения»:
Я любил чистосердечье,Думал нравиться лишь им,Ум и сердце человечьеБыли гением моим.В этом сознании человеком и себя, и монарха уже содержится зародыш того нового отношения к верховной власти, которое получит такое замечательное развитие и горько-саркастическое переосмысление в знаменитых строках пушкинского «Анчара»: «Но человека человек Послал к Анчару властным взглядом». Так далеко, как Пушкин, Державин пойти еще не мог. В его сознании понятие «человек», несомненно, еще носит сословно-ограниченный характер. Но и то, что Державин уже сказал, имело исключительно важное значение. Человеку-поэту с другим человеком, хотя бы и сидящим на троне, естественно, по Державину, говорить речью более обычной и простой, чем тот торжественно-приподнятый, порой почти прямо литургический «высокий штиль», на котором обращался к «земным богам» в своей одописи Ломоносов.
В 1780 году Державин передает в «Санкт-Петербургский вестник» одно из самых замечательных своих произведений – переложение 81-го псалма, которому позднее, в 90-е годы, он придал название «Властителям и судиям». Псалтырь, по которой в XVIII веке учились грамоте, была одной из популярнейших книг того времени. Стихотворные переложения псалмов делали вслед за крупнейшим русским поэтом-силлабиком XVII века, Симеоном Полоцким, и Кантемир, и Тредиаковский, и Ломоносов, и Сумароков и многие другие. Причем, поскольку Псалтырь считалась священной книгой и в то же время в ней имелись обличения неправедных судей и злых земных владык, переложения псалмов давали поэтам того времени возможность легально вводить в свое творчество резко обличительную гражданскую тематику. Последняя начинает звучать уже в переложениях псалмов или «духовных одах» Ломоносова – единственном жанре, в котором нашли выражение некоторые оппозиционные его настроения. Но поистине громовой силы достигает это в оде Державина «Властителям и судиям». С пафосом ветхозаветного пророка Державин призывает здесь небесную кару на «неправедных и злых» властителей народов, «безумцев и средь трона», не внемлющих напоминаниям об их долге – быть справедливыми и правосудными ко всем, «не взирая на знатность лиц», – забывших, что они такие же люди, как и те, кто им подвластны:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Записки Державина. – Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. 6. СПб., 1871, стр. 414. При дальнейших ссылках на это издание в тексте указываются в скобках том и страница.
2
Н. Ф. Остолопов. Ключ к сочинениям Державина. СПб., 1822, стр. 53.
3
Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 2. Л., 1935, стр. 165.
4
«Русский архив», 1869, № 12, стлб. 2095.