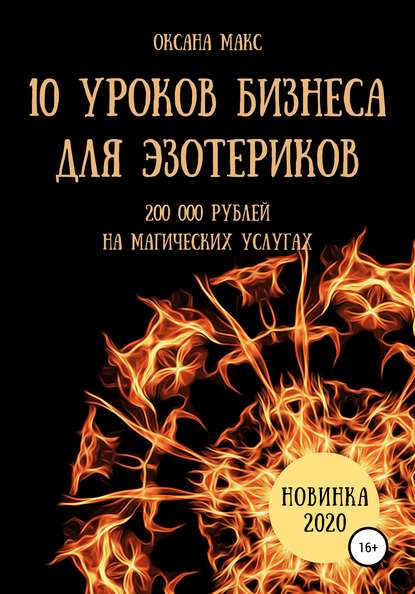- -
- 100%
- +
И вот зазвучала скрипка, и всё стало по-другому. Он вышел тихо, как будто случайно. Высокий, худой, в чёрной сорочке и с расстёгнутым верхом воротника. Волосы чуть вьются, пальцы длинные, как у пианиста, но в руках была скрипка.
По ее виду это был старый инструмент, почти винтажный. От лака пахло болью и временем. Её гриф тёмный, как ночь после ссоры, а смычок, будто продолжение его руки.
Когда он провёл по струнам впервые, зал не затаил дыхание. Он его потерял. Потому что звук был не просто красив. Он был… откровением.
Алёна сидела зачарованная, не моргая. Каждая нота, как прикосновение. Нет, не к телу, а к нервам. Музыка проникала под кожу и успокаивала. Он не играл, он исповедовался. Скрипка дрожала, жаловалась, стонала, потом молила, потом прощала. Звук касался её кожи, её внутренностей, её низа живота.
– Господи, – прошептала она, – кто ты?
Зал был полон, но она была одна. И он был один. Он стоял на сцене, глядя вниз. Не в её сторону, а куда-то в пустоту, но всё равно он смотрел на нее. Она была уверена. В этом было что-то потустороннее.
Он остановился на одной ноте, не закончил. Просто он позволил звуку медленно умереть, и это было сексуальнее, чем крик.
Алёна выдохнула. Руки дрожали. Она впервые за долгое время почувствовала чистое желание без драм, без вины, без морали. Только звук, от которого замирало сердце. И тело, которое знало: вот – он. Музыкант, чьи пальцы знают, как прикасаться.
Предательница проснулась, не как зверь, а как мелодия. Она не требовала, она слушала и звала туда, где боль звучит красиво.
Аплодисменты были долгими, благодарными. Люди хлопали с замиранием, не глядя друг на друга, как будто боялись разрушить хрупкое послевкусие. Алёна не аплодировала. Она просто сидела, словно её держала скрипка за запястья, не позволяя двинуться.
Её глаза были прикованы к нему. Он глубоко поклонился, почти театрально, но без позы. Затем он поднял голову и остановился.
Их взгляды встретились. Это было не как молния, без вспышки. Скорее, как осторожное, проверяющее прикосновение через ткань.
Он не отвёл взгляд. Это была долгая секунда. И на этой секунде всё изменилось. Зал гремел аплодисментами, но внутри Алёны стало очень тихо, даже слишком. Как будто он заглянул внутрь неё, увидел, что там горит, и вместо того чтобы уйти остался рядом.
Она слегка наклонила голову, будто приветствуя или принимая вызов. Он чуть приподнял бровь, едва заметно. На его лице была улыбка, которую невозможно сыграть.
Он ушёл за кулисы. Алёна осталась. Минуты две она просто сидела, потом медленно встала, пошла не к выходу, а направо к служебной лестнице. Той, которую раньше она не замечала, но сегодня увидела.
Пусть там стоит охрана. Пусть ей туда нельзя. Пусть это все выглядит глупо, но её тело уже знало маршрут. Оно шло не от разума, от той самой части внутри, что слушала музыку не ушами.
На втором этаже был боковой коридор. В нём были полумрак, зелёная лампа, табличка «Гримерные». Внос ударила смесь запаховов: лака, пыли, парфюма и чуть-чуть дерева.
Она остановилась. Дверь приоткрылась.
– Я надеялся, что вы придёте, – сказал он.
Голос был бархатный, усталый. Он стоял, облокотившись на дверной косяк. Волосы были растрёпаны. Скрипка в кофре, пальцы ещё в напряжении, как будто не отпустили музыку до конца.
– А если бы не пришла? – спросила она.
– Тогда бы я подумал, что сцена врёт, а я всегда ей верил.
Он отступил, открыл дверь шире. Алёна вошла.
За порогом было не гримерное помещение, а притихший остров желания.
Гримерка была не той, какими их показывают в фильмах. Здесь не было ламп по зеркалу, шампанского, толп ассистентов и гор одежды. Только тёплый свет одной лампы, пара стульев, кофр от скрипки на табурете и… он.
Он настоящий, без маски, без сцены, в паузе между музыкой и молчанием.
– Я Илья, – сказал он, подавая руку. – Иногда кажусь молчаливым, но это не из высокомерия. Это потому что слова звучат реже, чем музыка.
Алёна сжала его ладонь. Она была горячей, как будто он до сих пор держал смычок.
– Алёна, – ответила она. – Я не разбираюсь в нотах. Но то, что вы играли… это было не просто красиво.
– Оно и не должно быть красиво, – мягко сказал он. – Оно должно быть правдой. Музыка это боль, которую нельзя рассказать иначе.
Он прошёл внутрь и снял рубашку не из вызова, а будто просто не мог больше её носить. Под ней она увидела тонкое тело, почти хрупкое, с бледной кожей и линиями ключиц, которые хотелось рисовать пальцами.
Он вымыл руки в раковине, долго теребя пальцы, будто пытался отмыть что-то большее, чем пот.
– Когда я волнуюсь, пальцы не слушаются, – признался он. – А вы заставили меня волноваться.
Она молчала. Впервые за долгое время Алена не хотела говорить ничего, потому что каждое слово чувствовалось лишним. Музыка уже сказала больше.
Он сел напротив, чуть склонился к ней.
– Простите, что пригласил так. Это не по правилам, не по джентельменски, но я видел, как вы слушали. И это… тронуло.
– Я слышала всё, что вы не сыграли, – ответила она. – Каждую паузу.
Он улыбнулся.
– Значит, вы тоже из тех, кто умеет читать тишину?
– Иногда она громче слов, – сказала она. И в этот момент, она поняла, что пространство между ними исчезло. Оно было заполнено чем-то плотным, не вожделением, а током.
Он встал, сделал шаг, подошёл ближе. Его рука коснулась ее ладони. Он ладони её пальцы и приложил к своему запястью.
– Чувствуете?
Пульс бился быстро.
– А теперь вы, – прошептал он.
Она вложила его ладонь себе в грудь. Туда, где сердце било так, будто хотело вырваться. Он не испугался, не дернулся, только кивнул.
– Совпадают.
Они стояли, так молча, долго. Не было ни поцелуев, ни просьб, ни плана.
И в этом молчании было что-то древнее, как будто они оба знали, сейчас случится то, что не пишется словами, только чувствами.
И когда он сказал:
– Хочешь остаться?
Она не ответила, просто осталась.
Гримерка была тиха, как внутренность музыкального инструмента, после того как смычок отпущен, а струны всё ещё помнят касание. В этом странном полумраке стены будто слушали, даже воздух не шевелился.
Илья стоял перед ней, босиком. Алёна всё ещё в туфлях, но пальцы ног уже в напряжении, будто готовились оторваться от пола. Он подал руку как мужчина, который умеет двигаться не телом, ритмом. Она взяла её.
– Ты умеешь танцевать? – спросил он.
– С музыкой да. С людьми не всегда, – ответила она, улыбнувшись уголком губ.
– Тогда выключим музыку, – сказал он. – Пусть будет только тело и дыхание.
Он не включил фон, не запустил телефон, не заиграл на скрипке. Он просто положил её руку себе на плечо, а свою на её талию.
И тут все началось. Сначала плавно, почти неловко. Как будто они оба пробовали язык, который никогда не учили. Его ступни скользили по полу, вальсируя в тишине. Её тело, сдерживаемое памятью, сопротивлялось секунду, две, а потом сдалось.
Они двигались медленно, без счёта, без направления. Танец не имел формы, он имел лишь причину.
Она чувствовала, как его ладонь скользит ниже, как дыхание становится тяжелей, как лопатки касаются стены. Его щека была рядом. Его губы слишком близко, но он не спешил, не бросался на нее. Он вёл её, как музыку, через паузу, через задержку, через предвкушение.
– Это что? – спросила она.
– Молчание. Между аккордами, – прошептал он в её висок. – Самое важное в любой мелодии.
Он повернул её, поднял руку, пропустил её под собой, разворачивая в движении, как будто запускал в пространстве. Она скользнула к стене. Он приблизился сзади. Его рука нашла её талию, прижалась. Дыхание стало одним.
– Я чувствую тебя, – сказала она. – Даже не касаясь.
– Потому что я не хочу касаться тела. Я хочу играть на тебе, как на инструменте.
И он начал играть пальцами по шее, запястьем по лопатке, губами по затылку. Танец превратился в поцелуи, поцелуи в движения, движения в дрожь.
Алёна выгнулась. Он подхватил её. Она не просила. Он не спрашивал. Тело говорило «да» раньше слов. Стенка гримёрки стала опорой. Воздух стал соучастником, их тела оркестром.
Это не было грубо. Это не было порывом. Это было искусством. Танец без музыки стал актом любви без фальши. Ноты это были стоны. Такты это её ногти у него на спине. Ритм сердце. Все общее, все одно.
Когда всё кончилось, не было падения, было лишь замирание, как в зале после финального аккорда, когда не хочется хлопать, потому что тишина теперь священна.
Они стояли. Он обнял её. Её предательница не кричала. Она мурлыкала тихо, довольно, как будто впервые за долгое время ей не пришлось просить. Она просто… получила.
Утро наступило не в постели, а в её теле. В животе был гул. В бёдрах осталась память. На губах остался он.
Алёна проснулась не от будильника, а от живого, настойчивого желания. Это был не голод, она просто хотела ещё.
Он спал рядом. Лежал на боку, спиной к ней. Его дыхание было ровным, как метроном, а волосы спутаны, будто он и во сне боролся с музыкой.
И вдруг, без мысли, без нужды, без логики она подтянулась к нему ближе, прижалась грудью к его спине, медленно провела ладонью по позвоночнику снизу вверх. Алена как будто искала ключ.
Он не проснулся, но спина напряглась, потом расслабилась, потом прозвучал его тихий, низкий голос:
– Ещё не наигралась?
– Вообще не начинала, – прошептала она в ответ.
Предательница внутри не ждала. Она требовала, с того самого мгновения, как проснулась.
Она хотела его опять, снова, иначе.
Её бедро коснулось его ягодиц. Она провела пальцами по его животу, обвила ладонью его руку. Её тело жаждало движения, прикосновений, трения, пульсации.
– Алёна, – сказал он, не поворачиваясь. – Это было ночью. Утро другое.
– Моё утро – там, где ты. – Она поцеловала его в лопатку. – У меня нет расписания, есть лишь ритм.
Он повернулся. В его глазах была смесь нежности и удивления.
– Ты без тормозов?
– Я – с оркестром, – ответила она и села на него сверху. Медленно, будто вновь началась симфония. Его руки легли на её бёдра, неуверенно сначала, как будто он не знал, можно ли.
– Твоя предательница проснулась раньше тебя, – сказал он с усмешкой.
– Она вообще не спала, – прошептала Алёна и начала двигаться.
Это было не грубо, и не из любви. Это было из-за тяги, из-за глубокой, животной тяги, которая приходила в её жизнь чаще, чем привязанность.
Он поддался, взял её за талию, приподнялся навстречу. Она задыхалась. Он стонал. Стенка за изголовьем тихо поскрипывала, как будто аккомпанировала. И в этой музыке тела не было вины, не было сомнений, была лишь необходимость любить.
Он прошептал ей на ухо:
– Ты сумасшедшая…
– Я – честная, – выдохнула она. – Я просто умею слушать, когда моё тело говорит громче головы.
Предательница внутри ликовала, она была абсолютно в своей природе.
Илья прижал её к себе. Они закончили вместе без слов, без крика, просто синхронно, как будто партитура была написана давно.
Она упала на его грудь, слушая биение его сердца. Он гладил её по спине.
– Ты не из тех, кого забывают, – сказал он тихо. – Это опасно.
– А ты не из тех, кто остаётся, – ответила она и закрыла глаза.
Она уже чувствовала, это не останется навсегда, но пока он рядом, пока его пальцы у неё на бедре она позволяла себе быть такой, какой она хочет. Алена чувствовала себя выше запретов и сожалений.
На следующее утро Алёна проснулась одна. Постель была тёплой, но пуста.
В комнате пахло скрипкой, потом и ещё чем-то… тонким, почти невесомым как послесловие.
Она потянулась. В теле была сладкая усталость, как после хорошего спектакля или настоящей истерики. Никакого сожаления. Ни капли вины. Только не пугающая, а обволакивающая тишина в комнате.
На стуле лежала записка, свёрнутая, как письмо из другого времени. Плотная бумага, ровный почерк чернилами. Она села, расправила её и начала читать.
«Алёна, я не знаю, когда ты откроешь это письмо, до кофе или после. Надеюсь, до. Потому что слова лучше читать на голодный желудок. Тогда они попадают прямо туда, где ещё тепло от прикосновений.
Ты не обычная женщина. Не из-за красоты, не из-за желанности, таких я видел много. А потому что ты читаешь между звуками. Ты слышишь не музыку, а боль. И тебе не страшно.
Когда я играл на сцене, ты была единственной, кто слушал так, будто понимал, что я вот-вот рассыплюсь. И ты не испугалась, а подошла.
Я не умею обещать. Я не умею оставаться. Моя жизнь это аэропорты, гастроли, Париж, осень, вина, скрипка, одиночество. Но той ночью ты стала для меня не музыкой, а тишиной. Самой дорогой. Самой невосполнимой.
Если бы я был другим, я бы остался. Если бы ты была другой, ты бы не пришла.
Спасибо тебе за руки, за взгляд. За то, что дала мне почувствовать себя мужчиной, а не просто музыкантом с изношенными пальцами.
Если когда-нибудь окажешься в Париже, просто подойди к сцене. Посмотри. И я узнаю.
Илья».
Алёна долго сидела, не двигаясь, почти забыв о времени. Пальцы сжимали лист бумаги так, будто это был он. Она будто чувствовала его прикосновение, его дыхание, его присутствие, которое всё ещё висело в комнате невидимой тенью. Она перечитывала каждое слово, каждую строку, затем начинала снова, и снова, как будто пыталась впитать его в себя, удержать там, где он теперь не мог быть физически.
Предательница внутри молчала. Она не требовала, не взывала, не пыталась останавливать воспоминания. Она приняла этот текст, потому что была готова к нему, снова и снова. И это было не про завоевание, не про страсть, не про то, чтобы вернуть или удержать. Это было про память. Про то, что иногда мужчина может уйти из жизни, но никогда полностью не исчезнуть. Он оставался в мелодии скрипки, которую теперь она слышала яснее, чем когда-либо. Он оставался в шорохе её шагов, в отражении в стекле, в лёгком дыхании, когда она закрывала глаза.
Алёна поднялась с кресла, с тихим усилием вытянула спину. Она положила записку в сумку, аккуратно, словно укладывала хрупкий предмет, который нужно было сохранить. Сумка, где лежал паспорт, теперь хранила ещё и эту память. Париж казался не так уж далеко. Особенно если там был звук, от которого однажды она стала настоящей, впервые поняла себя и свои чувства, впервые осмелилась быть живой.
Она сделала глубокий вдох, словно пытаясь наполнить лёгкие воздухом и тишиной одновременно, и ощутила, что, несмотря на уход, что-то внутри неё всё ещё пульсирует, всё ещё горит. Что-то, что не потухнет, как бы далеко он ни был, как бы незримым ни оставался.
***
Неделя прошла тихо, как будто её жизнь внезапно вошла в режим паузы. Алёна ходила на работу, отвечала на письма, встречалась с коллегами. Но вся она была… не здесь.
Илья не звонил, не писал. Он и не должен был, но её этого очень хотелось. Алёна не злилась, но всё равно каждое утро первым делом проверяла телефон, и каждый вечер смотрела на письмо, спрятанное в бумажнике, как на талисман.
Всё изменилось поздним вечером в четверг. Алёна вышла из издательства и почти случайно посмотрела на экран телевизора, висящий в витрине музыкального салона.
На экране шёл репортаж с субтитрами о начале сезона в Париже, о театре Гарнье, о международном фестивале камерной музыки. И она увидела его. Илья в чёрном костюме, скрипка в руках, выходящий на сцену. Публика аплодировала, камеры фиксировали каждый его шаг.
Ведущая говорила на фоне:
«Русский скрипач Илья Ветров, выступавший в Берлине, Варшаве, Милане, теперь станет резидентом парижской филармонии. Его называют поэтом струн. Он редко даёт интервью, почти не говорит о личном, но на сцене всегда абсолютно откровенен».
И всё. Ни драматичных прощаний, ни слов «прощай». Его жизнь продолжилась, но без неё.
Алёна стояла, как вкопанная. На фоне тысяч городских звуков – шум машин, ритм улиц, вспышки фар – внутри неё была тонкая, кристально чистая пустота. Она не плакала, не смеялась.
Только прошептала:
– Значит, Париж…
В этом слове не было тоски. Было ощущение возможности, словно дверь открылась и манила, но без требования. Да, она могла сорваться, поехать, улететь. Предательница внутри не скулила, не плакала. Она лежала спокойно, как кошка на солнце. Впервые её не оставили, потому что Илья не уходил, он уехал. И в этом уезде он оставил ей больше, чем ночь. Он оставил напоминание, что она не сумасшедшая, что она умеет чувствовать, что кто-то умеет слышать её без слов.
Алёна повернулась и пошла по улице, не оглядываясь на витрину. За её спиной не был концерт, а воспоминание, которому не нужно второе действие.
Париж был далеко, но она была ближе к себе, чем когда-либо.
Глава 4. Психотерапевт
Комната была слишком светлая. Алёна привыкла, что душу лучше вытаскивать в полумраке, при свечах, с бокалом в руке, а здесь всё было как под рентгеном: белые стены, зелёный диван, вода в прозрачном стакане и тишина, которая не утешает, а слушает.
– Можете присесть, – сказал он. Ей понравился его голос, такой спокойный, бархатный, но и без тепла. Как у человека, который смотрит вглубь, а не на человека.
Она села на край кресла, положила ногу на ногу, руки в замок, спина прямая. Словно на собеседовании. Хотя всё тело кричало: зачем ты здесь вообще?
– Меня зовут Максим Андреевич, – представился он. – Мне тридцать восемь. Я работаю с женщинами, у которых… непростые отношения с желаниями.
– У вас это звучит как диагноз, – резко заметила она.
– У вас – как защита. – Он не улыбнулся, но и не дернулся.
Она прищурилась. Очередной психотерапевт, после йоги, диетолога и даосских практик.
Однако у него была странная аура. Он смотрел внимательно, но не с любопытством, и не с похотью, как будто он пытался расслышать, как звучит её внутренний метроном.
– Вы часто выбираете мужчин, которым нельзя доверять? – задал он вопрос так спокойно, будто речь шла о налогах.
– Я не выбираю. Они сами находят меня, – бросила она.
– А вы находите в них то, что уже знаете, так? Повтор сценария.
Алёна скрестила руки.
– Я пришла не за диагнозами, а за решением. Помогите мне.
– Решение возможно, если вы позволите себе быть уязвимой. Хоть чуть-чуть.
Он не давил, не играл. Он был на расстоянии, и от этого становилось опасно. Потому что она вдруг поняла: это мужчина, который видит. Нет, он не видел ее тело, губы, он видел ее суть.
– С чего вы начали бы? – спросила она.
– Я бы начал с доверия, а это начинается с правды. Например, вы сейчас боитесь. Не меня, а себя. Потому что знаете, что если начнёте говорить по-настоящему, то… выйдет не только боль, сколько выйдет страсть.
– Страсть? – усмехнулась она. – Это тоже теперь диагноз?
– Нет, но если её игнорировать, она начинает выбирать за вас, точнее сказать вместо вас. Она начинает жить вашей жизнью.
Алёна замерла. Слова попали точно, как укол, как щелчок. Как будто он вынул её «предательницу» из неё и положил на стол.
– Хорошо, – сказала она, откидываясь на спинку. – Допустим. Я зависима от мужчин, но вы мужчина. И симпатичный, кстати. Так что, доктор, как мы будем «отделять» правду от инстинкта?
Он не смутился.
– Я вас не соблазняю, Алёна. Я просто смотрю и слушаю. Это не делает меня опасным, а вас уязвимой.
Она замолчала. Впервые за долгое время – на сеансе, где не смеялась, не флиртовала, не провоцировала. Она почувствовала что-то странное, нет, не сексуальное, что-то глубже.
– До следующего раза, – сказал он, вставая. – Если решите прийти.
Алёна вышла из кабинета с дрожью в ногах. Это не было желание. Скорее от того, что впервые кто-то увидел не тело, а ее рану, почувствовал ее боль. И это возбуждало больше, чем руки.
***
– Расскажите о себе до того, как появились мужчины, – сказал он на втором сеансе, снова спокойно.
Алёна откинулась в кресле. На ней сегодня было чёрное строгое, закрытое платье.
– До них? Это лет в десять, может. Всё остальное мужчины.
Максим кивнул.
– А в десять кто был рядом?
– Мать. Жёсткая, уставшая, вечная контролёрша. Отец где-то на периферии. Иногда появлялся с апельсинами и кричал, что она его сжирает, потом снова исчезал.
– Вы его любили?
– Я его ждала, а это, знаете, хуже любви.
Максим сделал пометку. Егор почерк его был медленный, как дыхание.
– Он возвращался?
– Всегда неожиданно. Иногда с подарками. Один раз он вернулся с женщиной, которую назвал «тётей Викой». Я помню её губы. Красные, как пятно на скатерти. Мама плакала. Я молчала, а отец курил прямо на кухне.
– И что вы чувствовали?
– Что всё зависит не от меня. Что любовь это то, что случается, если ты красивая, удобная, послушная. Или… наоборот, шумная, дерзкая, сексуальная. Главное это быть замеченной.
Максим отложил блокнот.
– Вы не были замеченной?
– Только когда болела. Или когда папа ревновал меня к школьному другу и вдруг стал уделять мне внимание. Это был странный опыт. Я помню, как однажды он сказал, что у меня «взрослые глаза». Мне было одиннадцать.
Он молчал, но в его лице не было ужаса, только внимание.
– И вы начали учиться быть взрослой? – наконец спросил он.
– А что оставалось? Я поняла, если хочешь, чтобы тебя держали, нужно быть желанной. Я научилась чувствовать, когда мужчина смотрит. И давать ему то, что он хочет. До того, как он успеет это сказать.
– Даже если не хотели сами?
– Часто особенно если не хотела. Это как рефлекс. Подчиниться, соблазнить, исчезнуть. Ритуал.
Максим медленно вдохнул. Потом снова взял блокнот.
– И где в этом всём была вы?
– Где-то внутри. Глубоко. Так глубоко, что даже я сама туда не заглядывала. Потому что если я перестану быть желанной – я перестану быть нужной.
В комнате воцарилась тишина, как после исповеди.
– Спасибо, – сказал он наконец. – Это было смело.
Она сжала руки. Пальцы вспотели.
– Это было… страшно.
Он кивнул.
– Значит, вы приблизились к правде, а правда всегда страшная сначала, но потом она даёт свободу. Вы не жертва, вы выжившая.
И в этот момент она впервые почувствовала себя ребёнком, не женщиной, не любовницей, не искушённой фемме-фаталь, а той девочкой с огромными глазами, которая сидит за столом, слушает, как мама молча моет посуду, а отец кричит на весь подъезд, что «не даст себя кастрировать».
Тихая слеза скатилась по ее щеке.
– Я ненавидела себя за это, – прошептала она. – За то, что тело всегда предаёт. Оно просит любви, даже если душа орёт нет, не смей это делать.
Максим ничего не сказал. Он просто потянул ей коробку с салфетками, не касаясь ее, не утешая. Максим дал ей пространство. И в этой дистанции было больше тепла, чем во всех её бывших объятиях.
***
– Почему вы всегда говорите «тело предаёт»? – спросил Максим на третьем сеансе. Он смотрел не в упор, очень мягко, но взглядом, от которого не укроешься.
Алёна молчала. Она сидела, обхватив подушки на диване, будто пряталась за ними, как в детстве за спинкой дивана, когда отец в очередной раз хлопал дверью.
– Потому что оно делает, что хочет, – ответила она наконец. – Без моего разрешения. Стоит рядом оказаться тому, кто нравится, и всё. Ноги греют, дыхание прерывистое, внизу жар. Это не я. Это она.
– Кто – «она»?
–Моя внутренняя предательница. Та, что заводит меня в постелях, в которых я потом задыхаюсь от стыда.
– А если это не предательство, а честность?
Она усмехнулась.
– Инстинкт это не истина.
– Иногда это и есть истина. Самая глубокая. Просто вы привыкли к тому, что вас любили за удобство, а тело не бывает удобным. Оно или хочет, или нет.
Она замерла, потому что в этой фразе было слишком много правды.
Максим продолжил:
– Когда вы впервые почувствовали, что желание делает вас слабой?
– В пятнадцать. Он был учителем по истории. Молодой, харизматичный. Он гладил меня по плечу, говорил, что я «женственная». Я чувствовала, как у меня всё пульсирует внутри, а потом он просто уехал. И я осталась с ощущением, что что-то сломано.
– Что именно?
– Что желание опасно, что его надо прятать. Но я не умею этого делать. Оно вырывается. Словно кто-то внутри постоянно шепчет: «Дай ему это. И тебя не бросят».
Максим медленно кивнул. Его голос стал тише.
– Это не про мужчин. Это про дефицит. Вы голодная. И ваш голод не про секс. Он про признание. Про «ты достойна», «тебя вижу», «тебя выбираю».
Алёна почувствовала, как всё внутри начинает дрожать. Эти слова словно вынимали кости. Обнажали её так, как никто прежде. Только это было не через прикосновения, а через вопросы.