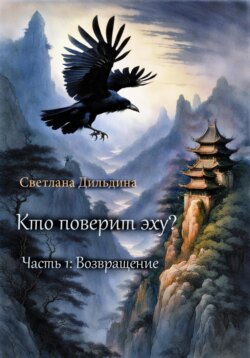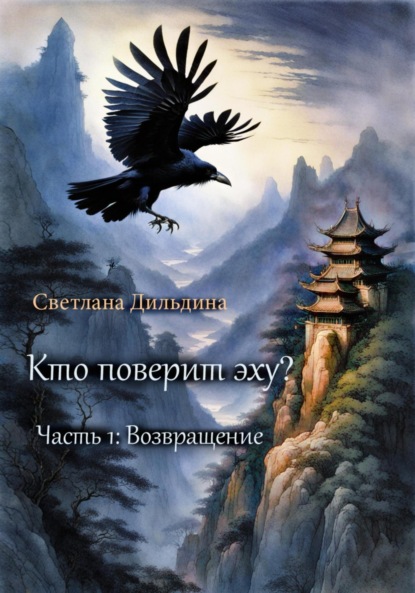Лучшие рецензии на LiveLib:
NataliaAbushaeva. Оценка 54 из 10
Рассказываю о прочитанном. Вкусы у всех разные, свое мнение никому не навязываю)Кэраи Таэна – младший сын великой династии воинов, которая несколько поколений защищала страну от северных соседей. Он был отправлен в столицу для продвижения по службе, в то время как старший брат остался и стал генералом, продолжив исполнять предназначение предков.Кэраи живёт в столице, занимает хороший пост, в будущем, благодаря своим способностям, его ожидает повышение. Так зачем же в разгар карьеры бросать все и возвращаться домой на север? Парень глуп, что не видит перспектив? Или он вынужден ехать? Но ради чего?На севере не спокойно, как и в столице. На земли и власть его семьи претендуют. Кэраи знает об опасности. Его долг вернуться. По крайней мере так он говорит старшему брату, но есть и другие слухи, что парень не зря приехал, и он защищает не интересы семьи.Кэраи возвращается и видит, что брат погряз в военных сборах и защите земель, совершенно забыв заниматься остальными делами. Племянник слаб здоровьем, а он единственный наследник. У Кэраи нет своих детей. А самое страшное и странное, что на обоих (и брата, и племянника) имеет влияние какой-то фокусник-предсказатель. Кэраи решает разобраться и привести в порядок дела семьи. Только это не так просто. И впереди у семьи и Кэраи много проблем и испытаний. Он только в начале пути.______________Цикл большой, состоящий из пяти книг. Так как писательница вдохновлялась Азией, имена персонажей очень специфические. В начале мне было сложно уследить о ком идёт речь.
Vansaires. Оценка 2 из 10
Ровно три месяца я читала эту книгу и вот, наконец, дочитала. На самом деле, я начинала читать её ещё очень давно, в самом первом и «неудачном», неоконченном варианте, который был почти полностью переписан, и потом меня долго не оставляли сомнения. Потому что прежде я была если не на сто, то, уж во всяком случае, на 95 процентов уверена, что любое переделывание уже готового материала – зло, и что если уж текст с самого начала не сложился так, как надо, то ничего с ним не сделаешь, даже и пытаться бесполезно. Однако же близкие мне авторы всякий раз доказывают мне, что моё видение и чувствование мира – не безошибочное и не единственно правильное и соответствующее истине, за что им большое спасибо, потому что превратиться в тирана с двумя вариантами мнений – моё и неправильное – я не хочу (а склонности, чего уж там, имею).Так вот, результат меня и удивил, и порадовал – ни одного некрасивого и недостоверно звучащего «шва» в местах стыковок старого и нового варианта я не почувствовала (филигранная работа!), мир задышал и наполнился жизнью (ну и смертью тоже, а я, хоть и протестую против смерти, всё же предпочитаю её пустоте и фальши текста), а образ главного героя, который в первой редакции никак не хотел складываться перед моими глазами во что-то цельное и объёмное, наконец-то, зазвучал по-настоящему и начал вызывать чувства (не всегда приятные, но, надо полагать, он бы и сам предпочёл гнев равнодушию).Действие текста происходит в том же мире, что и «Песня цветов аконита», но в чём-то он диаметрально ей противоположен, и, наверное, самое большое различие – в угле зрения. Если «Песня» была полностью героецентрична, и текст вращался вокруг Йири, как планеты вокруг звезды, то «Эхо» поднялось на ступеньку выше, и здесь уже нет «главного героя», как такового – слово предоставляется огромному количеству персонажей, и текст постоянно поворачивается, как прожектор, освещая на сцене то одну фигуру, то вторую, то третью, то вообще двадцать пятую. И для кого-то это может стать препятствием, но мне понравилась такая многогранность, позволяющая ощутить душу уже не одного персонажа, а целой провинции и целой эпохи, данной через срез противоположных мнений, различных устремлений, столкновений, побед и поражений. Причём это не такие победы и поражения, которые более близки мне самой – череда испытаний, ведущих к сюжетной, запланированной для каждого героя кульминации – а такие, какими они выглядят в настоящей жизни. То есть, зачастую (как будто бы) не приводящие ни к чему, обрывающие жизнь в расцвете без всяких последствий, порой по воле случая (хотя все герои и верят в судьбу). То есть, если как следует подумать, то можно, конечно, отыскать в жизнях каждого из героев те ошибки и предвестия их будущего итога, но текст об этом не скажет (как и жизнь не говорит никому из нас), и автор никого из персонажей за ручку не ведёт, помогая пройти сложные развилки и подсказывая, как следует поступить. Не раз и не два мне было грустно из-за этого, потому что даже тех, кто получил вполне себе по заслугам (безжалостных интриганов, в разной степени облечённых властью), мне было жаль – не потому, что их следовало за всё простить, а потому что они умерли, так ничего и не осознав. Но что поделать – таков этот мир, и он настоящий в своём достаточно суровом, безжалостном воспитании, редко прощающем героям ошибки (и они сами себя за них тоже не прощают). С этим сложно примириться, когда ты находишься на уровне личности (одного из множества героев, на долю которых выпадает мало радости и много скорбей, даже если они «хорошие» и «правильные»), и только лишь когда поднимаешься повыше, и начинаешь видеть мир книги неразделённым, как сплетение всего этого множества судеб, как полотно, которое, в свою очередь, тоже является частью другого, более сложного и невидимого пока творения, приходит облегчение и пропадает чувство тоски и несправедливости (знакомое каждому из нас и в реальном мире).Грусть владела мной и ещё по одной причине – я понимаю, насколько это хорошая работа, и насколько велики (то есть, совсем невелики) её шансы оказаться оценённой читателями при текущем положении вещей. Нынешнюю аудиторию (даже самую утончённую и интеллектуальную её часть) волнуют совсем другие вещи, которых здесь не найти – ни этой самой череды испытаний, которая ведёт к мощной и вызывающей взрыв эмоций кульминации, на что подсознательно настроен почти каждый читатель, ни колоритных образов, в которые можно либо влюбляться, либо ассоциировать их с собой, чего, опять-таки, тоже подсознательно ищет молодая аудитория, ни философии и морали, которую легко считать и потом с вдохновением выписывать из текста цитаты, которые помогут во время собственных сложных моментов. Любители реалистичных эмоций и ситуаций, скорее всего, не примут фэнтезийный ориентальный мир, любители фэнтези – заскучают без экшена и любовной линии. Кто же остаётся? Наверное, лишь те, кто готов отбросить любые свои читательские ожидания и воспринимать мир и героев такими, какие они есть, вслушиваясь в негромкую речь их голосов и поступков, внимательно всматриваясь в неброскую красоту окружающего их мира, смиряясь с тем, что текст (как будто бы) ничему не учит, ни к чему не ведёт, а просто рассказывает историю, рассказывает жизнь множества людей, и не плохих, и не хороших. Но ведь жизнь и есть – самый главный и лучший учитель; для того, кто умеет её услышать, другие и не потребуются.Однако же, если заходить с литературоведческой точки зрения, я бы разделила текст на три (на самом деле, думаю, их больше) пласта. Первый – это сюжетная канва, которая завязана на политической ситуации в отдалённой северной провинции большого государства, которую уже приготовилась прибрать под своё крыло «Солнечная Птица» (движущийся к единовластному правлению государь), хотя в самой провинции всё ещё кипит борьба между несколькими знатными домами, а заодно ещё и соседи-кочевники посматривают жадным взглядом на лакомый кусок территории (и жадным взглядом они не ограничатся). Вся ситуация немного напомнила мне историю Японии времён Сэнгоку, а текст – неспешные и вдумчивые японские сериалы, посвящённые тем или иным знаковым событиям истории. Вот, кстати, да – любителям дзидайгэки (таких сериалов) я бы этот текст однозначно посоветовала, здесь такой же неторопливый формат повествования, такое же количество персонажей со своими характерами и судьбами, такая же смерть, не щадящая многих героев (но и ростки жизни, прорастающие на пепелищах). Генерала Тагари я так и представляла весь текст в образе одного из японских воителей, глав самурайских домов – суровых, честных, вспыльчивых, порой прямых до глупости и продолжающих жить по своему собственному кодексу чести, несовместимому с изменившимся в мире положением вещей и нравов. Очень удачный образ и яркий – мне было его жаль, хотя судьба (и мстящий ему герой) обошлись с ним достаточно достойно. Без сострадания, но с уважением (и, надо полагать, такой воитель, как он, только такой вариант отношения к себе бы и принял).Второй пласт – это жизненный путь нескольких основных героев, которые, хоть и связаны накрепко с историческими событиями, в то же время пытаются отыскать свою собственную дорогу, испытывают страх и боль, терпят разочарования и вглядываются в горизонт своей жизни в надежде отыскать на нём путеводные знаки. Среди этих героев Лиани, юный командир небольшого воинского звена, который однажды поступает по совести, однако не по уставу (а закон здесь строг, как я уже писала выше – и в мире, и в государстве, и ошибки не прощаются); Нээле, юная вышивальщица с двумя дарами – попадать в неприятности и прозревать свершающееся в невидимой ткани бытия (и тоже ошибки сопровождают её на этом пути, ведь нет ни умений, ни учителя, ни даже чёткой уверенности в своих способностях); Лайэне, куртизанка высшего разряда, которая однажды хотела было поверить в любовь, однако с возлюбленным её разлучили не происки врагов или мелодраматического сюжета, а собственная слабость, неспособность противостоять искушению, за что она себя строго наказала; Кэраи – брат главы провинции, оставивший карьерные перспективы в столице и вернувшийся домой, чтобы попытаться помочь своему теряющему власть дому, да только на деле, пожалуй, лишь усложнивший всё ещё больше. Каждому будет отсыпаны и искушения, и разочарования, и потеря чего-то важного в себе (что ощущается трагически), и приобретение (зачастую куда более неуловимое по сути). И это две пары, хотя любовь между ними прописана очень осторожно, очень тонко, без малейшей капли принятых нынче бурных чувств и страсти. Я болела за пару Нээле и Лиани, сердилась на других персонажей, которые вставали между ними, и на них самих, позволявших им это, искренне надеялась, что их чувства преодолеют преграды, но… Их внутренний и духовный рост ещё не пришёл к какой-то точке в конце книги, и я даже смутно понимаю, что именно им нужно преодолеть в себе, так что – может быть, может быть, за рамками книги, когда-то в будущем у них ещё всё и сложится.Ну и, наконец, последний пласт – это духовный путь основного и самого непохожего на всех героя, Энори, через которого связаны между собой остальные персонажи, и который является главным двигателем других частей сюжета (не единственным, впрочем; можно сказать, что он – катализатор). Он же – антагонист, но при этом при отсутствии протагониста (что создаёт довольно интересный эффект), во всяком случае, единственного. Противостоять ему пытаются многие, но равного по силе нет, разве что – сам мир в целом, и Энори своей силой пользуется, играя судьбами других людей, но в то же время и явно ею отягощён. Пытается понять, кто и что он такое, но так как он – не совсем человек, то человеческие ответы ему не подходят, однако никаких других-то и нет (создаётся ощущение, что пути нечеловеческих существ в этом мире предопределены даже в гораздо большей степени, там-то уж точно нет возможности шагнуть вправо или влево, поэтому он и стремился к людям, пытался жить, как они. Смутно ощущая, что свобода, которой он хочет добиться, если всё-таки и возможна, то именно там – среди этих слабых и незрячих, с точки зрения понимания законов мироздания, существ, которые он с лёгкостью передвигает, как шахматные фигурки на доске, дёргает за ниточки, заставляя плясать под собственную дудку. Но… но. Думаю, в конце Энори в этом «но» убедился, поэтому и пошёл на то, на что он пошёл). Это был сложный персонаж, и сложный лично для моего восприятия, потому что его вне- (или над-) человеческая суть, его бытие, протекающее за рамками человеческой морали и человеческих чувств, раскрыты автором очень хорошо, а я привыкла смотреть как раз таки в душу человека, именно там для меня всё понятно и знакомо (и сияющие вершины, и тёмные бездны). Энори не раз меня пугал, и я не могла проникнуться к нему состраданием, как ни старалась (при том, что обычных злодеев я пожалеть могу – понимая, что именно привело их на их путь). Однако же был единственный раз, когда он проявил понятные и близкие мне чувства (или не проявил, а почувствовал, потому что не похож он на того, кто свои настоящие эмоции скрывает под ледяной маской) – окончание четвёртой части. Тот момент, который я бы, пожалуй, и назвала кульминацией всего текста (во всяком случае, для меня он им и остался – и оправданием, и объяснением всего), и это было очень красиво. Но то ли это, что составляет его истинную суть? Или, может быть, это было проросшее в нём зерно – то, что отделило его от числа себе подобных, сделало другим, позволило хотя бы в некоторой степени преодолеть жёсткие рамки мирового закона, чего он с такой силой добивался (и в итоге добился, поэтому и ощутил нечто, похожее на смирение – верный спутник найденного ответа на главные жизненные вопросы)?В конце я ощутила глубокую печаль. Но также и любовь к героям – не к каждому из них по-отдельности, а ко всем вместе, потому что они научили меня чему-то, очень важному. Быть может – ценности отдельной человеческой жизни, маленькой, не прославившей себя великими деяниями, не отмеченной на страницах книг и летописей, но в то же время и составляющей суть бытия. Самую главную и глубинную его суть. Эти невидимые никому радости и надежды, разочарования и печали, эти исчезающие без следа жизни, эта попытка малой песчинки окинуть взглядом огромный небосвод (что ей по определению недоступно). Ради того, чтобы защитить эти маленькие жизни – и защитить их, в первую очередь, от ощущения собственной ненужности для мира, я готова бороться снова и снова, в моей отчаянной мечте подарить уверенность каждой травинке, доказать ей, что мир без неё не обойдётся.