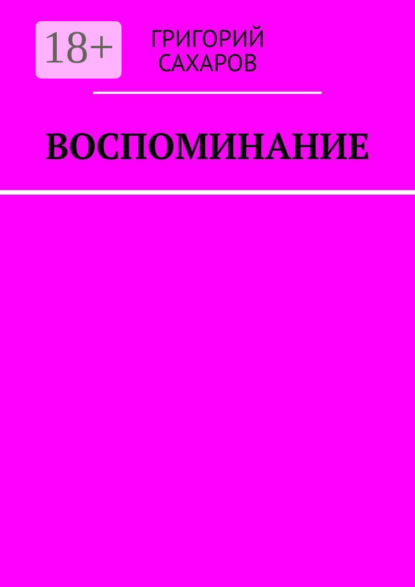Скованные воспоминания

- -
- 100%
- +
В его глазах я увидела отражение своего страха, своего отчаяния. Там не было места для жалости, для сострадания. Только холодная, расчетливая жестокость. Я закрыла глаза, готовая к удару, к боли, к смерти.
Но вдруг пол ушел из-под ног, и Демьян, небрежно, закинул меня на плечо словно мешок с картошкой. Волосы беспомощно хлестали по воздуху, танцуя дикий танец с каждым его шагом.
– Куда ты меня несешь? – выдохнула я, и в ответ услышала лишь приглушенный смех, а затем дерзкий шлепок по обнажённой коже. Вскрик сорвался с губ.
– В кровать, – спокойно отозвался он.
Я едва не подавилась воздухом. Клянусь, я ожидала всего, кроме этого. Думала, сейчас случится что-то ужасное, непоправимое… Но Демьян снова застал врасплох.
– Зачем? – прошептала я, отчаянно пытаясь одернуть сорочку, чтобы хоть как-то прикрыться. Но, во-первых, она предательски задралась, во-вторых, был ли в этом смысл? Он и так уже все видел. И до смерти напугал, когда играл в эти чертовы прятки.
– Поговорим, – произнес он, поднимаясь по лестнице. Войдя в мою комнату, где зияла пустота вместо двери, под его ботинками с хрустом рассыпались обломки дерева.
Еще недавно я была готова забиться в угол от ужаса, представляя, что он может со мной сделать. И вот я, у него на плече, у маньяка, который лишил жизни невинных людей. В душе вскипела буря ярости. Как он смеет убивать, с такой жестокостью, словно жертвы перешли ему дорогу и издевались всю его жизнь?
– Отпу… – не успеваю договорить, как Демьян, словно хищник, бросает меня на кровать. Тяжёлый вздох вырывается из груди.
– Ты что… – слова вновь застревают в горле. Усмешка трогает его губы, и мой взгляд невольно приковывается к нему.
– Ты сказала отпустить, я отпустил, – медленно, неотвратимо приближается он, заставляя меня отползать назад, пока спина не упирается в холодную стену.
– Ты… меня кинул, – произношу дрожащим голосом, лихорадочно шаря рукой в поисках одеяла. Хочу укрыться, спрятаться, но он опускается на одно колено, нависая надо мной. Рывком сбрасывает одеяло на пол.
– Привыкай. Теперь только так, – шепчет он, обжигая моё лицо своим дыханием. Его губы совсем близко.
– Ты… ты хотел поговорить, – запинаюсь, голос дрожит. Не хочу, чтобы он целовал, но в то же время… безумно хочу. Боюсь вновь утонуть в омуте его поцелуя.
В который раз задаюсь вопросом: почему именно он?
– От прошлого не убежать, – глухо произносит Демьян, нежно касаясь моего подбородка.
– О чём ты? – шепчу в ответ, вспоминая, как когда-то он уже говорил мне это.
– Я вот не могу разобраться, как тебя лучше называть. Ангел или вишенка? – Смотрю в его глаза, с трудом сглатывая ком в горле.
– Я… я не понимаю. К чему ты клонишь? – Его большой палец скользит по моей нижней губе, и дыхание на мгновение замирает.
– Тебе что-нибудь говорит, – он делает паузу, а затем, приблизившись вплотную к моему уху, шепчет: – Слово Ирбис?
Я застыла, не смея моргнуть, взгляд прикован к одной точке. Кажется, кровь отлила от лица, и кожа приобрела зловещий синеватый оттенок. Судорожно сжимая простынь, я чувствовала, как костяшки пальцев наливаются белизной. Сердце бешено колотилось в груди, словно пленник, отчаянно рвущийся на свободу, грозя разорвать плоть.
Этого… этого просто не может быть.
В сознании распахнулась дверь, которую я так долго и упорно пыталась открыть. Обрывки воспоминаний, словно осколки зеркала, начали складываться в единую картину. Провалы в памяти, словно черные дыры, жадно поглощавшие события прошлого, наконец-то заполнились. Теперь я знала, что произошло в тот день. Помню, что увидела, когда открыла глаза, чтобы взглянуть на него. Эти глаза… Зеленые, темные, как непроходимая чаща, манящие и завораживающие. А потом… потом мешок на голове, обрывки чужих голосов, грубо толкавших меня к крыше. И там… там меня ждала бездна. Во всем виноваты его друзья, и он сам.
– Почему?.. – Голос сорвался на всхлип, и первая одинокая слеза скатилась по щеке, оставив за собой мокрый след.
– Не плачь, прибереги слезы на потом, вишенка, – промурлыкал он, приближаясь. – Это только начало. Я причиню тебе гораздо больше боли.
Он грубо схватил меня за горло и притянул к себе, впиваясь в губы. Я отчаянно мотала головой, захлебываясь слезами, не в силах поверить в происходящее. В голове, словно заезженная пластинка, вновь и вновь звучал один и тот же вопрос:
«Почему именно он?..»
Глава 24
Сложно сказать, когда это началось. Когда во мне проросло это странное, притягивающее и одновременно отталкивающее желание – видеть, как кто-то страдает. Не то чтобы я просыпался с мыслью: “Кого бы сегодня помучить?” Нет, это было скорее… подсознательно. Как будто во мне жила какая-то темная сущность, нуждающаяся в постоянной подпитке чужой болью.
Самые ранние воспоминания… Они связаны с животными. Я родился и вырос в деревне, где у каждого второго был скот, куры, гуси. И я с малых лет проводил много времени на улице, в окружении этой пестрой живности.
Я помню маленького котенка, которого нашел возле сарая. Он был совсем крошечный, слепой, дрожащий. Я взял его домой, мама напоила его молоком. На какое-то время я даже почувствовал что-то похожее на… жалость? Любовь? Не знаю. Что-то теплое и щемящее разлилось по груди.
Но потом, когда котенок немного окреп и начал бегать по двору, во мне что-то сломалось. Я начал придумывать ему испытания. Завязывал веревочку на хвост и смотрел, как он отчаянно пытается ее сбросить. Загонял его в бочку, а потом бил по ней палкой, наслаждаясь его испуганным мяуканьем. Я не понимал тогда, почему делаю это. Просто… это было интересно. Как эксперимент. Наблюдение за реакцией.
Однажды я зажал котенка в сарае, поджег вокруг него сухую траву и смотрел, как он мечется в панике, ища выход. Потом, когда пламя стало слишком большим, я выпустил его. Он выбежал обгоревший, жалобно мяукая, и убежал прочь. Больше я его не видел.
Я понимал, что это плохо. Что нормальные дети так не поступают. Но я ничего не мог с собой поделать. Это было сильнее меня. Это было… приятно.
Потом были муравьи. Строил им целые города из песка, а потом заливал их кипятком. Смотрел, как их маленькие тельца корчатся в агонии. Разбирал их муравейники, заставляя их в панике бегать и искать своих сородичей. Мне нравилось нарушать их маленький, упорядоченный мир. Разрушать их иллюзию безопасности.
Потом были птицы. Ставил ловушки. Капканы. Растяжки. Наблюдал, как они бьются в сетях, ломая крылья, отчаянно пытаясь вырваться на свободу. Иногда я просто приходил и переламывал им шеи. Бесчувственно. Методично. Как будто это была моя работа.
Я никому не рассказывал о своих “играх”. Знал, что меня не поймут. Наоборот, накажут. Поэтому я молчал. Хранил свои секреты глубоко внутри, где они росли и крепчали, как сорняки в заброшенном саду.
С возрастом мои “игры” стали сложнее. И опаснее. Интерес к животным постепенно угас. Они стали слишком предсказуемыми. Мне нужна была новая цель. Новый объект для исследования.
И тогда я обратил внимание на людей.
Я всегда был отстраненным. Замкнутым. Мне не нравилось общаться с ровесниками. Они казались мне глупыми, поверхностными, примитивными. Они говорили о каких-то бессмысленных вещах, смеялись над плоскими шутками, тратили время на пустые развлечения. Мне было скучно с ними.
Я предпочитал наблюдать. Наблюдать за ними издалека. Изучать их поведение. Анализировать их мотивы. Видеть их слабости.
Я быстро понял, что люди – это просто животные в модной одежде. У них те же инстинкты, те же страхи, те же слабости. Просто они более умело их скрывают.
И я начал использовать это против них.
Сначала это были мелкие пакости. Подложить кнопку на стул. Налить клей в рюкзак. Распустить слух. Все так, чтобы это не привлекало лишнего внимания. Чтобы это выглядело как случайность. Или как глупая шутка.
Но постепенно мое желание причинять боль росло. Я стал более изобретательным. Более жестоким.
Однажды в школе я подружился с одним парнем. Он был тихим, застенчивым, неуклюжим. Легкая добыча. Я начал его травить. Поначалу это были безобидные подколки. Но потом я начал оскорблять его, унижать, высмеивать перед другими учениками.
Я видел, как он страдает. Как он сжимается от моих слов. Как он краснеет и бледнеет. Как он пытается спрятаться, убежать, исчезнуть. И мне это нравилось. Мне нравилось чувствовать свою власть над ним. Мне нравилось видеть его боль.
Однажды я довел его до слез. Он убежал с урока, заперся в туалете и долго там плакал. А я стоял возле двери и слушал его рыдания. И чувствовал… удовлетворение.
Я понимал, что это неправильно. Что я причиняю ему боль. Что я разрушаю его жизнь. Но я не мог остановиться. Это было как наркотик. Чем больше я причинял ему боли, тем больше мне этого хотелось.
Вскоре он перевелся в другую школу. Избавился от меня. Но я не жалел. Он был всего лишь экспериментом. Упражнением. Подготовкой к чему-то большему.
Я начал изучать психологию. Читал книги о социопатах, психопатах, маньяках. Я хотел понять, что со мной не так. Я хотел понять, почему мне нравится причинять боль.
И я нашел ответы. Я узнал, что я – социопат. Что у меня отсутствует эмпатия. Что я не способен испытывать сочувствие к другим людям. Что я использую других людей в своих целях. Что я манипулирую ими. Что я лгу им. Что я причиняю им боль.
И это меня не испугало. Наоборот, это меня обрадовало. Я понял, что я не одинок. Что есть и другие люди, такие же, как я. Просто они более умело скрывают свою сущность.
Я перестал пытаться измениться. Перестал пытаться стать нормальным. Я принял себя таким, какой я есть. Со всеми своими странностями, со всеми своими темными желаниями.
Я понял, что моя жизнь – это игра. А люди – это мои пешки. И я буду играть до конца. Буду манипулировать ими. Буду лгать им. Буду причинять им боль. И буду наслаждаться каждым моментом.
Я знал, что однажды я перейду черту. Что однажды я сделаю что-то непоправимое. Но я не боялся. Я ждал этого. Я предвкушал этот момент.
Я знал, что рано или поздно найду свою жертву. Свою идеальную жертву. Которая будет слабой. Уязвимой. Беспомощной. Которую я смогу сломать. Которую я смогу уничтожить.
И я нашёл её…
И я буду смотреть, как она страдает. И буду наслаждаться ее болью.
Это будет моя самая лучшая игра. Мой самый лучший эксперимент. Мой самый лучший момент.
И я буду готов к этому.
Я всегда готов.
Люди… Они такие предсказуемые. Они так легко попадают в мои сети. Они верят моей лжи. Они доверяют моей фальшивой улыбке. Они не видят, что я – монстр. А она будет знать, кем я являюсь.
Я увидел ее в детском доме. Она сидела в столовой, маленькая, хрупкая, словно фарфоровая кукла. Ее волосы, светлые, почти белые, обрамляли лицо ангела. Но больше всего меня поразили ее глаза. Голубые. Чистые. Невинные. Они светились в полумраке комнаты, словно два небесных огонька.
И тогда я понял. Я захотел ее. Не как женщину. Как игрушку. Как трофей. Я захотел сломать ее. Подчинить ее. Заставить ее страдать. Увидеть, как гаснет этот свет в ее глазах. И он погас, когда мои друзья скинули её с крыши. И её воспоминания, память стёрлись обо мне. Меня это дико бесило… Что же я сделал с так называемыми друзьями, которых и друзьями-то никогда не считал?
Убил… Всех разом. Заманил их в тот самый сарай, где когда-то они заперли Аню. Запер на замок и поджег. С наслаждением наблюдал, как огонь пожирает их, слушал, как их крики боли разрывают ночную тишину. Упивался мыслью, что от них останется лишь пепел. Вы, наверное, спросите, как я избежал наказания? Легко. Мое алиби было безупречно: я находился в своей комнате в общежитии. А что там происходило у них – лишь пожимал плечами, прикинувшись простачком. В итоге решили, что кто-то по неосторожности устроил пожар, а когда пламя разгорелось, они просто не успели выбраться. Спустя полгода я выпустился и двинулся к своей цели – к своей вишенке на торте…
Шли годы. Я следил за ней. Издалека. Незаметно. Я знал все о ней. Где она, с кем общается, чем увлекается. Я ждал. Выжидал подходящий момент. Момент, когда она станет достаточно уязвимой.
И вот, наконец, этот момент настал. Теперь она знает кто я такой.
Я стою в ее доме. В полной темноте. Я прошел через открытое окно, тихо и незаметно, как тень. Я знаю каждый уголок этого дома. Я изучал его несколько месяцев.
Она сидит на кровати, закутавшись в тонкую сорочку. Она дрожит. Я вижу ее страх. Он плещется в ее голубых глазах, словно буря в океане. И этот страх… Он заводит меня. Он будоражит мою кровь. Он наполняет меня жизнью.
Я молчу. Я просто смотрю на нее. На ее отчаяние. На ее беспомощность. Я хочу запомнить этот момент. Запечатлеть его в своей памяти навсегда.
Я слышу ее шепот. Тихий, уловимый.
–
Демьян… уйди, пожалуйста, – сквозь слезы пробормотала она.
Я не отвечаю. Я продолжаю смотреть. Мне нравится видеть ее в таком состоянии. Она никогда не выглядела такой живой. Такой… настоящей.
Она пытается укрыться одеялом. Это меня раздражает. Я хочу видеть ее. Хочу видеть ее тело. Хочу видеть ее страх. Я грубо сбрасываю одеяло на пол. Она вздрагивает и прижимается к стене, словно пытаясь слиться с обоями.
–
Демьян, уйди, пожалуйста, – с трудом произносит она слова.
Я стою и наблюдаю за ней какое-то время. Наслаждаюсь ее мучениями. Потом, медленно, растягивая слова, я говорю:
–
Если я уйду сейчас, то в следующий раз тебе будет больнее.
Я улыбаюсь. Холодной, хищной улыбкой. Я знаю, что она ответит. Она умолит меня уйти прямо сейчас. И она сделает это.
–
Уйди, – прошептала она, будто нехотя.
Мне становится весело. Ее слабость забавляет меня. Я больше не смотрю на нее. Я поворачиваюсь и ухожу из ее дома. Так же тихо и незаметно, как пришел.
Тьма растворилась, как только я вышел на улицу. Фонари мерцали, будто подмигивая мне, а город дышал тихим спокойствием ночи. Я засунул руки в карманы и пошел, не выбирая дороги. Мысли крутились, как пленники в клетке. Ее страх – это музыка, которую я хотел слушать снова и снова. Но страх – это лишь начало. За ним должно последовать отчаяние. Полное, всепоглощающее.
Я остановился у реки, глядя на отражение огней на темной воде. Вспомнил, как впервые увидел ее. Невинная, словно ангел, с этими глазами, обманывающими своей чистотой. Моей игрушкой. Моим полотном. Я буду рисовать на ней свои картины, пока она не станет копией меня самого. Сломанной. Идеальной.
Я чувствую, как во мне нарастает голод. Голод к ее боли. Этот голод сильнее любого другого. И я знаю, что скоро утолю его. Скоро я снова приду в ее дом. И в этот раз я не уйду. В этот раз она будет молить о смерти. И я, возможно, исполню ее просьбу. Или нет. Зависит от того, насколько хорошо она будет развлекать меня.
Я развернулся и пошел прочь от реки. Ночь только начиналась, и у меня было множество планов. Планов, в которых она играет главную роль. Роль жертвы. И я сделаю все, чтобы она сыграла ее идеально…
Глава 25
Я шла по ковру из желтых листьев, и каждый мой шаг звучал так, будто я перелистывала старую, потрепанную книгу. Небо над головой было темное, плотное, туча висела низко, словно готовая провалиться на землю. Дождь, наверное, начнется скоро, подумала я, но продолжала идти ровной, упрямой походкой: это не остановит меня дойти до цели. Мне казалось, что если я замедлюсь сейчас – если позволю себе задержаться хоть на минуту – мысли потащат меня обратно, к этой ночи, из которой я не могла вырваться.
Этой ночью я не сомкнула глаз. Слово «узнала» – оно всё время крутилась в голове как заноза. То, что я узнала, изменило мир вокруг меня на глазах: небо стало ниже, звуки – громче, а тишина – плотнее. Его угрозы звучали как приговор, но даже хуже – как обещание. Он придет. Я знала это всей душой; не логикой, не догадкой, а какой‑то глубокой, животной уверенностью. И на этот раз он не остановится. Он причинит мне боль.
Стоит ли прятаться? Вопрос жил во мне как заноза. Думаю, нет, отвечала я себе чаще всего, потому что побег мог только разозлить его и превратить то, что было угрозой, в действие. Я боялась, что любое движение в сторону – бегство, молчание, попытка забыть – только разожжет его ярость и сделает всё хуже. В эту ночь, когда всё началось, я была так напугана, что согласилась на его условия, лишь бы он ушел. Я сделала это, чтобы увидеть рассвет. Не из смелости. Не из силы. Из усталости и из желания, чтобы хотя бы одну ночь вернуть себе сон.
Я знала, что буду ненавидеть себя за это всю жизнь. И это знание давило сильнее, чем страх.
Но вместе со стыдом и отвращением к себе в душе зарождалось нечто другое – и это ещё больше пугало меня. Это было далеко от ненависти. Скорее – нелепая, мучительная симпатия к нему. Я не понимала, почему. Ведь он – источник моего страха, он же – тот, кто ранил меня до состояния, когда я не могла нормально дышать. Но сердце, упрямое и предательское, цеплялось за него, как за спасительную жилу в шторме. Я и тогда, в детском доме, когда впервые увидела его, заметила в нем что‑то иное. Тогда он был в маске и в черных очках. Говорили, что у него шрамы. Люди шептались. Но сейчас, когда маски нет, на его лице не осталось ни единого шрама. Это странно.
Я начала вспоминать сарай – тот пыльный, заброшенный сарай, где мы сидели вместе в ту ночь. Я спросила его тогда про шрамы на лице, про маску, про очки. Он посмотрел на меня, и его голос был ровным, тихим, почти усталым: «Это не такие шрамы, какие ты думаешь». Тогда я не поняла. Теперь начинаю пониматься – немного, с опозданием, словно по шажкам. Это шрамы душевные, спрятанные глубоко внутри. Но что произошло с ним, чтобы он решил так плотно спрятаться от мира? Кто так жестоко ранил его душу? Эти вопросы сверлили мне голову и не давали прохода ничему другому.
Ветер рвал мне волосы с головы и стрелял холодом в лицо. Я стояла и думала о детдоме: о запахе мыла, о железной столовой, о том, какие мы были тогда – все такие разные и все такие одинокие. Он был тихим даже среди шума. Я помню, как наблюдала за ним издалека, как за загадкой, которую хотелось разгадать. Его маска казалась ему щитом – и одновременно ещё одним куском сцепленной стали, отделяющей его от мира. Я думала о том, что человек, который прячет лицо, прячет чаще всего самое уязвимое.
Потом калитка. Скрипнула старая железная дверь, и я вошла на знакомую мерзлую землю. Земля была жесткая, словно память была придавала ей плотность. Под моими ногами – место, где в глубине два метра лежат мои родители. Я присела на обшарпанную лавочку и долго смотрела на их фотографии. Мама и папа улыбались с той же невинной уверенностью, с которой улыбаются люди на летних снимках, где ветер в волосах и ничто не предвещает беды. Их улыбки будто говорили: «Мы здесь. Всё в порядке». Но я знала, что их нет. И это знание – тяжелее самой земли под руками.
Слезы появлялись вдруг, как из ниоткуда: горячие, острые, они скатывались по щекам и оставляли солёные дорожки. Я смотрела на маму и шептала.
– Мам, я помню, как ты учила меня печь блины – Я улыбнулась, воспоминание было мелким, но таким родным. – Только вот у меня всегда получались горелые. Как бы я ни старалась. И, несмотря ни на что, вы с папой всегда их ели, нахваливали… Можешь не переживать, теперь мои блины никогда не бывают горелыми. Я научилась. Для себя научилась.
Я взглянула на отца.
– Пап. Я помню, как ты учил меня рыбачить. Я поймала свою первую маленькую рыбку, помню это: вода дрожала, удочка согнулась, и в руках у меня ёрзала мокрая, серебристая жизнь. Только вот я не умела закидывать удочку, и ты всегда за меня это делал… Пап, я обещаю, что научусь рыбачить. Для себя. Для вас.
Руки начали трястись: от ветра, да, но больше – от боли, что выворачивала меня изнутри. Тяжёлые всхлипы нарушали тишину кладбища. Я знала, что так неспокойно, что это неуважительно к месту и к памяти, но в тот момент мне было всё равно. Я могла потерять порядок слов, но не могу потерять память. Я должна была встать и идти: скорую смену на работе никто не отменит. Но в то же время мне казалось, что я уже дома – на этой лавочке, рядом с родителями, и здесь спокойно. Я закрыла глаза и представила, что они рядом, что их руки вес дают мне опору. Как будто для одной минутной иллюзии я могла позволить себе забыться.
Я встала, медленно, опираясь на шероховатую спинку лавки. В последний раз взглянула на фотографии, прошептала прощальные слова и пошла к остановке. Небо темнело; листва шуршала под ногами, и мне становилось холоднее. Но замерзнуть было невозможно: моё сердце уже было заморожено сильнее.
На остановке было пусто, только фонарь, тускло горевший, и железный стул, на котором я снова села, хотя знала: нужно идти на работу, чтобы не думать. Люди проходят мимо, занятые своими делами, делами, которые кажутся такими же важными, пока не случится что-то, что разделит мир на до и после. Я хотела войти в этот поток и раствориться в нём, чтобы никто не заметил моей трещины.
Телефон в кармане вибрировал. Я вытащила его: сообщение от коллеги, напоминание об отчете, смайлик, которым кто‑то хотел казаться доброжелательным. Я ответила коротко, не думая о словах. Ответы – как маски. Они не показывают того, что внутри.
Я сидела на продавленном стуле, прильнув взглядом к окну, где бесновался дождь. Посетителей не было, и в этом – злая ирония. Кто отважится выйти в эту промозглую, свинцово-пасмурную погоду? В моей душе царила та же беспросветность, та же мерзкая слякоть. После кладбища я вернулась домой, словно тень, и сразу же приехала на работу. Теперь оставалось только смотреть, как разверзаются небеса, и, если честно, меня сковывал леденящий ужас от мысли о возвращении. Я боялась, что он придет сегодня. Стоит лишь переступить порог – и он будет там, поджидая меня, словно голодный зверь. Я бы предпочла остаться здесь, свернувшись калачиком в пыльной кладовке. Вполне неплохой выход. Мысль уже зрела в голове, и теперь терзала неопределенность: остаться или вернуться в клетку? Я понимала, что если он не найдет меня дома, будет только хуже. Но оттянуть неизбежное, выиграть немного времени – это все, что я могла сейчас. Главное – не чувствовать эту адскую боль, которую он мне причиняет. Мне нужно было собраться с силами, подготовиться. Я понятия не имела, что он задумал, какую новую пытку приготовил. Наверняка нечто ужасное, внушающее подлинный, парализующий страх, нечто, способное причинить невыносимые страдания. И вопросы, словно стая назойливых мух, роились в голове, не давая покоя. Где искать ответы? Неужели только в глазах самого Демьяна? Зачем он преследует меня? Почему просто не оставит в покое? И как он вообще меня нашел?..
Дверь тихонько скрипнула, и я вздрогнула, резко повернув голову. Вошла Галина Павловна.
– Здравствуй, – прозвучал тихий голос, и рядом со мной опустилась хрупкая фигура.
– Здравствуйте, – ответила я, невольно отмечая печать усталости и скорби на её лице. – Как вы? Как вы себя чувствуете?
Слова дались мне с трудом, словно ком застрял в горле.
– Потихоньку… – эхом отозвалась она, её взгляд блуждал где-то в пустоте. – Сегодня разбирала её комнату… И нашла её дневник. Личный.
На мгновение повисла тишина, наполненная невысказанной болью. Я замерла в ожидании, боясь нарушить хрупкое равновесие.
– Хотела прочитать… – её голос дрогнул, – но не смогла. Руки задрожали, как осиновый лист, едва коснулась обложки. Видно, не судьба мне узнать, кем она была на самом деле. Пусть останется моей дочкой, той, которую я знала и любила. Больше ничего не хочу знать.
Галина Павловна говорила медленно, каждое слово – осколок разбитого сердца. Я слушала её, и жгучее желание рассказать правду терзало меня изнутри. Но раз не судьба… Пусть будет так.
– В общем… – начала она, доставая из сумки толстую тетрадь. Я сразу поняла, что это. – Хочу отдать тебе этот дневник. Прочти её историю, какой бы она ни была. Раз мне не дано, то, может, тебе откроется её тайна.
– Не нужно… – запротестовала я, мотая головой, когда она протянула мне дневник.
– Не огорчай меня, – промолвила она с мольбой в глазах. Заглянув в её бездонную грусть, я, поколебавшись лишь мгновение, приняла из её рук тяжёлую ношу.