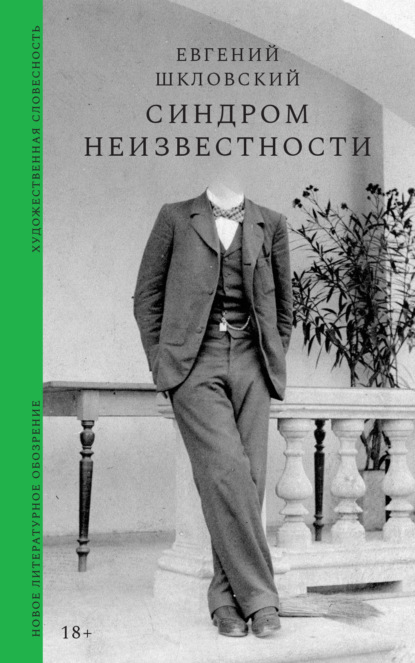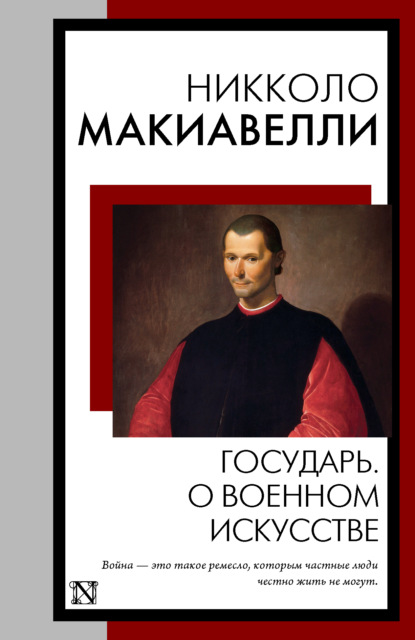Terra nullius. Роман
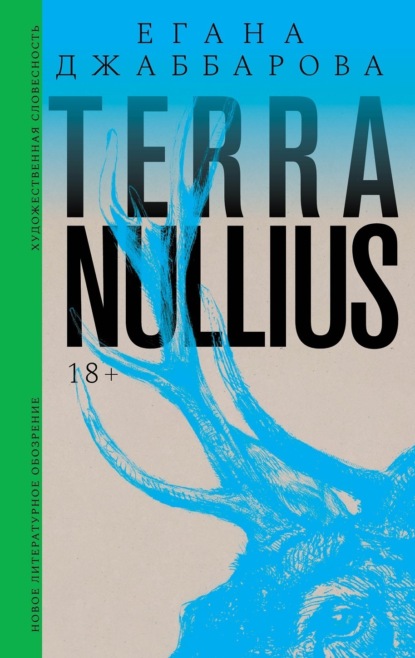
- -
- 100%
- +
Ты еще ничего не знаешь о том, как добываются дома.
И о том, как их покидают.
Что означают строчки британской поэтессы Варсан Шаир: никто не покидает свой дом, пока тот не становится пастью акулы.
Почему Форуг Фаррохзад просит, чтобы ее приютили завораживающие аккорды швейной машинки, а Цветаева советует беречь Гнездо и Дом.
Ничего не знаешь о том, как дома из зданий становятся острыми концами меча, как тьма способна просочиться сквозь самые крепко закрытые двери и плотным газом осесть на купленную мебель, как много вещей образуется за жизнь и как тяжело продавать их вместе с разбитым сердцем, как непросто собрать все нажитое за месяц и оставить лежать в коробке у друзей.
Когда дом распахнет пасть, ты не успеешь даже выдавить помогите, ты упадешь в расщелину железнодорожных путей, прислонившись к тем самым дверям, к которым нельзя прислоняться. Он уже не будет им и станет оно: монстром из-под кровати, который пытается проглотить тебя не пережевывая. Тщетно ты стараешься уклониться от острых зубов и длинного шершавого языка. Эти зубы будут удлиняться по мере твоего отдаления, из абсолютно белых сначала становясь молочными, а затем золотыми. Тяжелыми, не подвластными ни одному живому существу. Аммиачный запах потянется из пасти, сигнализируя то ли о больной печени, то ли об отказывающихся работать почках. Вязкий тягучий аромат опасности, кажущийся острым на ощупь и горьким на вкус. Ты станешь этим запахом ужаса, и всякий прохожий будет чувствовать этот странный аромат от твоего тела. Удивляясь, незнакомцы вопрошающе посмотрят тебе в глаза в надежде, что это им показалось. Но ты знаешь правду: ты впитал этот ужас, на тебе остались крохотные частицы золотых зубов, след дома тянется следом, как грязь с кладбища. Ты свидетель, а значит, тебе никогда не отмыть густую бордовую кровь всех убиенных пастью до тебя. Дом ест не как дети. Он ест много, ест жадно, делает большие куски, вгрызается в самую мясистую часть и сразу глотает. Глотка, как пещера, поглощает всех убитых и полуубитых в себя, как гроб, безразличный к телу, что украсит его в царстве Аида. Но знаешь, что самое странное во всем этом?
Ничто так не болит, как утраченный дом. Он болит, как если бы все конечности разом оказались отрезаны, как вырванные зубы, как спазмы гортани. Стоит тебе немного отвлечься, как эта тоска накатывает словно паническая атака, часто она выжидает ночи, чтобы показывать тебе утраченное как арт-объект. Ты смотришь одно и то же кино, в котором тебе показывают все, что больше никогда не вернется. Детскую комнату, любимую игрушку, сбежавшую кошку, умершего попугая, погибшего брата, собственный дом.
Латиноамериканский художник Кен Гонсалес-Дэй уже создал единственную в мире работу, похожую на такое кино, серию открыток Erased Lynching. В качестве основы он взял исторические изображения со сценами публичных расправ над афроамериканцами и этническими меньшинствами, а затем последовательно стер из них жертв. Так он защитил их субъектность и навечно запечатлел отсутствие как часть эстетического. Их убитые тела наконец оказались скрыты, накрыты пустотой, спасены от чужих глаз, жаждущих глотнуть расплаву. Брешь побуждала посмотреть на тех, кто долгие годы оставался безнаказанным, дать зрителю глотнуть вину. Теперь земля уже не была пейзажем, а стала алтарем жертв, обильно смазанным человеческой кровью. Уничтожение всех их стало саднящей раной каждого американского дуба, исторического здания и мирного пейзажа. Все они: деревья, дома и жители – оказались свидетелями преступления.
Я смотрю на фотографии из прошлой жизни, и там больше нет меня: я отсутствую, как жертва линчевания, как сорванный не созревший до конца плод, вырванный с ветки руками злых мальчиков, ненавидящих красоту. Меня стерли, и остался только пейзаж – свидетель человеческих преступлений. Сколько пройдет лет или столетий, чтобы они, улицы, березы и детские площадки, начали давать показания? Расскажут ли они обо всех жертвах? Не забудут ли ни одну из них? Запомнят ли их имена?
Почти каждую ночь мне снится один и тот же сон: я брожу по старой квартире, я помню каждую деталь и даже запахи. Я захожу в спальню и ложусь на кровать. Я жду, когда кошка запрыгнет на меня и ляжет своим пушистым теплым телом сверху. Она долго мнет меня лапками, пытаясь понять, где самая мягкая часть, и наконец укладывается.
Помнишь, как появилась Кара? В самые страшные, как нам тогда казалось, годы, в пандемию. Я почти перестала выходить из дома и преподавала из домашнего кабинета. В какой-то момент я стала тосковать по живым существам рядом, и тогда появилась Кара. Уличная кошка, спасенная подругой. Помню, как она прислала мне видеоролик запуганной кошачьей мордашки с огромными зелеными глазами и трехцветной шерстью. И я, никогда не любившая кошек, поняла, что мы должны ее забрать. В тот же вечер мы несли ее домой на руках, она с любопытством осматривала наши лица и окружающих. И даже соблазнительный запах шавермы не побудил ее сбежать, она прижалась к рукам и ждала, пока мы принесем ее в дом. Первые два года она никого не подпускала, часто кусалась, не давала себя погладить, а потом что-то изменилось. Может, она впитала нашу любовь? Стала подходить и тереться о ноги мягкой шерсткой, ложиться и подставлять ту часть, которую разрешает гладить, слизывать духи с шеи: она стала нежнее к нам, начала привыкать, что мы те, кто ее любит. Стала спать только с нами и почему-то только на мне: может, мое увеличившееся с годами тело напоминало ей большую мягкую подушку? Она научила меня любить кошек и сама преобразовалась в нежность дома и его обитателей. Кара итог нашей преданности друг другу, лежит свернувшись в клубок и доверительно сопит на кошачьем языке, где-то в другом доме. Пока мы не найдем новый дом. Знает ли она, что мы ее не бросили? Что мы любим ее все так же, как и раньше? Узнает ли она нас, когда мы наконец придем забирать ее?
Когда я родилась, Марал, как и подобает приличной семье, начала ткать ковер. В нем она желала внучке главного, поместив в центр гялин джехизи1, обрамленный гялин дувахы2. Ее крепкие руки, приученные к труду, уверенно переплетали грубые нити между собой. Узор традиционно начинался с тяги3, состоящей преимущественно из разных типов буты. Длинные вытянутые капли, хоть и похожи на слезы, призваны были сделать жизнь красивой. Каждую деталь Марал выводила, как первоклашка выводит буквы алфавита в прописи, с искренним усилием. Это не было единственным наследием, к ковру прилагались ажурные салфетки, постельное белье и даже одежда. Марал знала, что только сделанное своими руками способно говорить. Любимым предметом в доме была швейная машинка «Зингер» с ножным приводом: она была достаточно шумной, поэтому все домочадцы знали, что Марал нельзя тревожить, если за белой дверью слышен гул, похожий на звук производственного станка или звук бьющихся друг от друга металлических карточек в библиотеке, где картографию ведут на тонких железных пластинках. Что-то похожее Фарман слышал на вокзале, впервые увидев автоматическую справочную установку. Мое рождение позволило ей простить никудышную дочь, сбежавшую со странным лысеющим парнем, который ей не нравился. Я стала прощением для матери и отца, родившись раньше положенного срока в уральском роддоме.
Первые годы своей жизни я прожила в медицинском общежитии, где нам полагалось две небольших комнаты. Конечно, нам сказочно повезло: большинству приходилось делить секцию с пятью-шестью людьми или многодетными семьями. Мы делили пространство с длинным, похожим на железнодорожную шпалу соседом, он часто что-то готовил у себя в комнате, брезгуя общей кухней. Маму это устраивало: она хозяйничала там часами, готовила еду, убирала, не нужно было терпеть чужую нечистоплотность или грязную посуду в раковине. Единственное, что безумно ее раздражало, – необходимость мыться в общей ванной, где сосед беззаботно оставлял грязные носки или трусы, из-за чего мать начинала ворчать, она специально говорила нарочито громко, когда проходила мимо его комнаты, чтобы он наверняка услышал, как она недовольна. Периодически сосед выходил в общую зону и очень удивлялся, обнаружив двух маленьких девочек в коридоре, словно он забывал, закрывая дверь своей небольшой обители, что это общее место. Ничейная земля, в которой у всех прав с корочку хлеба.
Земля, которую никто по-настоящему не любит, не чистит, не заботится о ней в надежде, что это сделает кто-то другой. Необходимость жить с чужими, с одной стороны, напоминала сцену. Нельзя, к примеру, выйти в трусах или голым, потому что чужие глаза навсегда украдут вместе с фрагментом тела право на него. С другой – гасила чувствительность к миру и его убранству, понемногу толерантность к грязи повышалась, окружающее больше не должно было быть красивым, скорее функциональным. Это случилось и со мной, когда я оказалась в контейнерном доме. Дом ощущался как спальный мешок, нужный лишь для того, чтобы пережить холодную ночевку в лесу, выжить. Больше всего мне хотелось наконец отбросить эти две буквы «вы» и просто начать жить. Как только мы появились здесь, у нас началась холодная война с соседями. Наши представления о чистоте сильно отличались: для них было нормой оставить кучу грязной посуды в раковине или не почистить после себя плиту, на которую было страшно просто посмотреть. Тогда я вооружилась своим любимым средством – словом – и стала оставлять небольшие записки с напоминаниями. И очень удивилась, когда обнаружила, что они на них отвечают. Обмен сообщений, как правило, был коротким и пассивно-агрессивным. Каждой стороне казалось, что виноват другой. Никто не хотел отмывать ванную со следами ржавчины или волос, чистить раковину, блестящую от жирного налета, мыть плиту, похожую на кусок полиэтилена после покраски стен, только вместо краски на ней виднелись пятна от соуса или капли масла после жарки. Мы не могли договориться, и поэтому дом напоминал игровое поле для твистера: наши зоны, как правило, всегда были прибраны и очищены, их – напротив. Общий полигон сражений – кухонная плита периодически все-таки чистилась мной в минуты отчаяния, когда я уже не могла иначе. На фоне происходящей в мире катастрофы это, конечно, казалось глупым, но мне хотелось хоть ненадолго вернуть нормальность в свое существование, даже если она выражалась в чистой плите или пустой раковине.
Когда сосед по медицинскому общежитию съехал – это было счастье. Однажды он случайно забыл на включенной плите кастрюлю, в тот день только мы с сестрой были дома. Нам повезло, что мать рано вернулась с работы и увидела дым из-под его двери. После этого инцидента ей удалось добиться выселения соседа, а спустя пару месяцев стала возможной приватизация. Так у нас появился настоящий дом, который не нужно было делить с чужими. Место, которое можно наполнить собой: любимыми предметами, книгами и мебелью. Место, о котором ты заботишься, как о близком друге. Место, которое ты любишь. Особенно любишь в минуты снегопада или проливного дождя. Спустя пару лет наш дом купила местная сеть аптек: я приходила туда проверить, не видно ли ростков бывшего дома или его следов между стеллажами и полками. С тех пор у меня только единожды было подобие настоящего дома: наша бывшая квартира. Хотя нельзя назвать ее нашей: она была съемной, но в ней имелось все, что подобало дому. Я не успела с ним попрощаться, наверное, поэтому он постоянно мне снится. Снится, как стояли предметы в последний раз, когда я его видела. Во сне я хожу по пустому дому, вначале по прихожей, потом по маленькой кухне, наконец захожу в свой кабинет, где всегда пахнет сыростью. Контейнерный дом такой маленький, что по нему ходить не получается, – комната-спальник, комната-точка в повествовательном предложении.
Глава 3. Как Фарман начинал свое дело
Соседские парни, поначалу наблюдавшие за Фарманом как осторожные антилопы, начали забрасывать его вопросами о поступлении. Пока самый предприимчивый из них в конце разговора не всучил ему конверт и не убежал. В конверте лежала немаленькая сумма денег и записка. Фарману впервые предложили деловую сделку: он любой ценой пристраивает незнакомца (назовем его так) в университет и получает процент за работу. Поначалу Фарман опешил, ему казалось, что самым правильным будет вернуть чужие деньги, правда, на десятой минуте своей прогулки он вдруг осознал, что сумма эта равняется нескольким походам в ресторан, новой одежде и даже аудиокассете любимой группы. И тут с Фарманом произошло то, что и происходит с героями авантюр, – он понял, что сможет разбогатеть. Осталась сущая мелочь: придумать схему.
Отъезд Фармана был стремительным: под предлогом скорого начала семестра он собрал сумку и уехал. Дорога, которая в первый раз показалась ему долгим витиеватым лабиринтом, теперь распрямилась в пущенную стрелу. Доехав до общежития, он встретил соседей и осторожно поделился новостями. В ограниченном круге света от небольшой лампочки, вкрученной в общежитии, их лица, казалось, светились, как лики святых. Поочередно каждый перебирал языком, как змеиным хвостом: а что, если; а ты знаешь Катю, которая работает в приемной комиссии; у кого содержатся бланки итоговых экзаменов? Мелкие крапинки пота стекали по их нахмуренным лбам: спустя несколько часов интенсивного обсуждения с перерывами на перекуры они придумали ПЛАН. Правда, он подразумевал, что сумма, уплаченная Фарману, будет дробиться на нескольких человек: проблему эту легко можно было решить установлением единой таксы. Главное: обкатать план и проверить, что все механизмы работают. Вначале Фарману предстоял первый шаг – познакомиться, а может, и соблазнить Катю. Конечно, ему было неловко за будущую подлость, но, с другой стороны, эта была реальная возможность помочь таким же, как он, оказаться в мире, где есть не только конский навоз. В тот вечер нашему герою не спалось: он лежал, положив руки под голову, и представлял, как его будет встречать родная деревня в следующий приезд, скольким он поможет и навсегда станет героем, авантюристом, способным не только вырваться из зыбучего песка необратимой судьбы, но и вырвать из него других. Про финансы Фарман тоже думал: ему так нравился запах денежных купюр, что, если бы существовал парфюм с таким ароматом, он бы без промедлений обрызгал бы всего себя. Ему нравилось, когда Ахмед давал ему денег, чтобы тот сходил в местный магазин. В такие минуты Фарман чувствовал силу этих гладких купюр не только на кончиках пальцев, но и всем телом. Их можно было обменять на все что угодно, на все, что он хочет, на все, что может себе представить. Купить всю любимую еду и есть ее одному, ни с кем не делясь. Единственное, что омрачало, – необходимость искать и зарабатывать эти странные бумажки: в деревне обмен не казался справедливым: три-четыре купюры зарабатывались тяжело. Вначале посадить, потом прополоть, потом вырастить, потом собрать, потом закинуть огромный холщовый мешок на плечи и нести до соседской машины, вытащить и стоять под палящим солнцем по несколько часов в ожидании, когда кто-то наконец захочет купить фасоль. Наконец, после удачной продажи тащить уже свое тело, похожее на пустой мешок, домой. Плечи продолжали нести в себе тяжесть груза, как матка – плаценту после рожденного ребенка. Мать всегда говорила Фарману, что деньги зарабатываются по́том, что они не растут на деревьях. Будучи маленьким, он даже мечтал однажды найти такое место, где вместо листвы будут купюры с разной валютой, о, эти мешки Фарман собирал бы значительно быстрее. Сможет ли он заработать деньги языком и хитростью? Не будет ли от этого навсегда проклят Аллахом?
Наутро он протер глаза, а затем провел ревизию внутренних размышлений: готов ли он начать эту авантюру? Фарману казалось, что он стоит на краю пропасти, мелкие камушки уже проваливались туда, в темноту задуманного. Фарман попросил у соседа пиджак, надушился, посмотрел на себя в маленькое зеркало общажного туалета и пошел искать Катю. Девочки жили в другом здании, поэтому он вышел из общежития, прошел мимо вахтерши, ищущей к чему бы прицепиться. Обычно она всегда сопровождала каждое его появление колким замечанием: то рубашка мятая, то пришел поздно, то на учебу опаздывает. В этот раз она не нашла что сказать, только удивилась его вежливости и опрятному виду.
Фарман спустился вниз и двинулся по улице, попутно думая, правильно ли он поступает. Катя вряд ли согласится помогать ему за процент, Фарман уже разузнал о ней все, что мог. Она была слишком идейной, хранила экзаменационные бланки, как некоторые хранят первые волосы ребенка. Верила, что причастна к большому делу – взращиванию будущих интеллектуалов, и точно не стала бы участвовать в подделке документов. А еще – она была одинока и жаждала любви, как прохлады в жаркий день. Выход был один – получить доступ к бланкам и подделать их так, чтобы нужные абитуриенты стали студентами почетного университета. А что, если Катя заметит его интерес к бланкам, расскажет руководству и его отчислят? Конечно, в таком случае он будет все отрицать, скажет, что заболел или много выпил.
Недавно прошел дождь, и влажный асфальт блестел под его ногами. А что, если все получится? Он представил, как толпа его односельчан вместе с ним щеголяет по проспекту, как громко они смеются, как весело проводят время, как он становится местной легендой и примером для подражания. Вынырнув из сада размышлений, он понимает, что столкнулся с кем-то. С Катей. Это судьба, решил Фарман, как говорит его мать, kismet4. Сам Аллах столкнул его с ней, значит, все верно. Привет – выдавил он из себя, сглотнув от волнения. Столкновение было как никогда кстати, теперь это был повод извиниться и пригласить ее в кафе неподалеку. Фарман решил, что вначале они должны сблизиться, прежде чем он приступит к самой ответственной фазе. Катя не была красавицей в его понимании: тонкие и редкие волосы странного цвета, что-то между серым и русым, голубые глаза. Но не такие, о каких пишут в романах, не глаза-океаны, не глаза-озера, глаза – застоявшаяся вода в кувшине для полива домашних растений. Покрытые дымкой, как молочной пленкой. Ей было приятно его внимание: он, конечно, славился любовью к веселью и водке, но был молодым и интересным. Он рассказывал ей, как красиво блестит кожа местных скакунов в лучах закатного солнца, как приятно скользит рука по шерсти гордых грузинских коней. Они стали часто проводить время вместе: ходили на премьеры, гуляли по набережной, наконец Фарман стал помогать ей с бюллетенями будущих студентов. Рук не хватало, заявок было слишком много: заполнить все данные, вписать итоговые баллы за экзамен, рассортировать, подготовить таблицы для жаждущих абитуриентов, подходящих к дверям университета с опаской. Катя впервые в жизни ощущала рядом мужчину, вовлеченного в то, что она делает. Он всегда был готов помочь, брал на себя излишки работы, приносил еду, чтобы она поужинала, расспрашивал о том, как прошел ее день, и всегда смотрел в глаза.
Все удалось: Фарман быстро наловчился подделывать результаты, он вписывал в пустое тело бланка имя клиента, и тот магическим образом попадал в таблицу с поступившими, в некоторых случаях он искал вариант отличника и переделывал тест провалившегося односельчанина. План работал, а вместе с ним пришли первые шальные деньги. Они были легкими, от них не ныли плечи и спина, Фарман чувствовал себя счастливым, молва по селу разнеслась быстро, и желающих с каждым днем становилось все больше. Единственная проблема – сессия, нужно было сделать так, чтобы новоприбывшие не вылетали из университета тут же, но, к счастью, и тут нашлось решение. Васильков был профессором факультета, хорошо известный своей любовью к деньгам и нелюбовью к студентам: пять стопок не самого дорогого коньяка, и они ударили по рукам. Процент в обмен на гарантию. Фарман чувствовал в себе силу, до этого ему неизвестную. Он не просто наладил собственную жизнь: наконец купил приличной одежды, обустроил комнату, регулярно высылал матери деньги, объясняя их подработкой, но и влиял на жизни других. Он шел по коридору уверенно, как насытившийся добычей лев. Как это обычно и бывает, наш герой еще не представляет, что вся эта жизнь совсем скоро окажется смыта голубизной Катиных глаз.
Катя терпеливо ждала, когда же их отношения получат развитие, она стала покупать себе яркие платья, подкрашивать губы помадой цвета «алая роза», зачесывала волосы назад, как в модных журналах, но все равно оставалась для него только подругой. Периодически казалось, что Фарман заигрывает, иногда он звонил, чтобы попросить о помощи, и тогда она летела через полгорода, чтобы встретиться. Больше всего ей нравились приветствия, так она могла незаметно прижаться к его телу, пахнущему вареной кукурузой и ирисками. Ей казалось, что рука юноши намеренно задерживается на талии, а внутри его смуглого тела бурлит то же еле скрываемое желание, что и в ее фарфоровой груди. В каждом слове Кате чудился подтекст, всякий раз, когда он предлагал помочь ей с работой, она надеялась, что Фарман останется на ночь. И она увидит, как родинки на его груди подсвечиваются лунным светом. Всякий раз, когда его взгляд падал на нее, она ощущала, как дрожат коленки, как меняется голос, ей хотелось красиво встать или повернуться лучшей своей стороной. Она стала как бы невзначай приходить к мужскому общежитию, прогуливаться там часами в ожидании, когда покажется его силуэт. Постоянно ходила по факультету, где учился Фарман, чтобы случайно встретить его и обнять. Вдохнуть запах его тела и носить с собой по несколько дней. Однажды она даже украла его шарф, чтобы периодически подносить ткань к носу по вечерам, представляя, как его длинные руки обнимают ее со спины. Это было похоже на безумие, все ее мысли были заняты Фарманом, она была готова исполнить любое его желание в обмен на теплые карие глаза, в которые ей хотелось смотреть, как смотрят в пламя. Фарман часто подмигивал ей или улыбался при встрече, и она хранила каждую его улыбку, как сокровенное, как хранят первые волосы детей или их молочные зубы. Она была очень внимательной, всегда обращала внимание на то, что ему нравится, чтобы затем купить такую же книгу или точно такую же аудиокассету. Ей казалось, что, только вобрав в себя все, что любит Фарман, она сама станет тем, кого он любит. Но однажды все изменилось.
Это был важный день, может, самый важный, которого она ждала. Университетская вечеринка в честь новогодних праздников и окончания первого семестра, на которой все соберутся. И Фарман тоже. Катя купила дорогое платье, сделала прическу у подружки-парикмахерши, накрасилась: она готовилась к этому дню. Если что-то и случится, то сегодня. Он увидит, как она заходит в зал для торжеств, как ее тонкие запястья, украшенные браслетами, тянутся к лицу, чтобы поправить прядку выбившихся от волнения волос, заметит ее оголенную длинную шею, почувствует запах парфюма (мамины духи). Она зашла туда, оглушенная странной танцевальной музыкой и лучами диско-шара, и увидела его. Его с другой женщиной. С другой красивой женщиной, что еще хуже. Она увидела, как он смотрит на эту женщину. Он смотрел на нее так, как она смотрела на него, – с жаждой, обожанием и интересом. Всем телом он тянулся к ней, пытаясь быть ближе. Незнакомка совсем не была похожа на Катю: тугой пучок черных волос, длинные черные ресницы, черные аккуратные полумесяцы бровей, пухлые губы. Четкие скулы придавали ее лицу строгость и благородство, она держалась отстраненно, пока Фарман что-то говорил ей на ухо. В какой-то момент он повернулся и, увидев Катю, дежурно кивнул. Теперь она ясно видела: он никогда не любил ее, она была просто другом, а может быть, и не другом, а знакомой. Он смотрел на нее, как смотрел на местную библиотекаршу, продавщицу и преподавательницу. Как смотрят на всякую женщину.
Глава 4. Сказание о потерянном доме
Мы нашли квартиру совершенно случайно. И как никогда вовремя: нам повысили арендную плату в канун Нового года. Двадцать шестое декабря, мы несем в маленькую старую машину коробки с вещами и посудой. С трудом запихиваем белый книжный шкаф в полуоткрытый багажник. Снег метит каждую коробку стремительно, не успеваю я открыть железную входную дверь, как обнаруживаю, что практически все предметы уже покрылись зимней пудрой. В детстве меня поражало, что дом нужно искать, что он может быть общим, не целиком твоим, а частично. Кусочек, который всегда кажется слишком маленьким, особенно отрезанный на чужом торжестве. Когда мы с сестрой впервые увидели фильм «Один дома», больше всего нас поразил не Кевин и не грабители, и даже не ловушки, а дом. Большой, сверкающий гирляндами дом. Он был таким чистым, стерильным, аккуратным, нарядным, в отличие от нашего (комнаты, двух, впоследствии трех комнат), он был цельным. Манил, как чизкейк «Нью-Йорк» в кулинарии, который очень хочешь купить, но жалеешь денег. Дом моего детства не был таким: он не был домом, он был общежитием, общее житие, жить в обществе, и далеко не самом приятном. Когда мы оказались на улице в канун новогодней ночи, я весь день вспоминала, как впервые с сестрой увидела «Один дома», как мы завидовали мальчику с голубыми глазами и его дому.