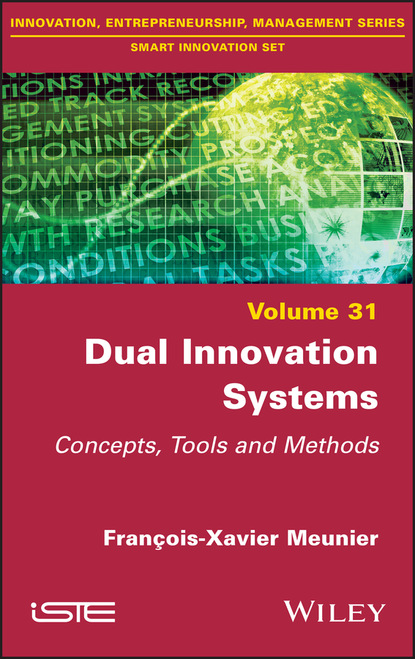Воин-Врач

- -
- 100%
- +

Глава 1. Вот и всё
"Всеслав-князь людям суд правил,
князьям города рядил,
а сам ночью волком рыскал:
из Киева до петухов дорыскивал до Тмуторокани,
великому Хорсу волком путь перерыскивал.
Ему в Полоцке позвонили к заутрене рано
у святой Софии в колокола,
а он в Киеве звон тот слышал."
"Слово о полку Игореве", памятник литературы Древней Руси.
А ведь с утра нормально всё было. Ну, на сколько в принципе с утра может быть нормальной жизнь у мужика под восемьдесят. Проснулся – уже хорошо. Побрился, не порезавшись – герой. Унитаз и тапки из обрезанных валенок не обрызгал – талант, самородок и умница, каких мало. Почему-то последние пару лет эти мысли посещали всё чаще. Расстраивали, конечно. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду размышлять о такой ерунде, да ещё и переживать по этому поводу? Вспоминать, как раньше носил чешские и немецкие туфли, покупал галстуки в универмаге «Москва» и стригся в «Чародейке». Старость пришла, не иначе.
И почему-то особенно ярко именно эти два года, что я жил в деревне, приходили воспоминания. Кто-то писал, что с возрастом ярких эмоций в настоящем не остаётся, они все переезжают в прошлое. А потом забирают с собой хозяина и главного героя этих воспоминаний. Туда же, в прошлое. Мне ли, врачу со стажем больше, чем в полвека, сомневаться в конечности бытия? Смешно. Не очень, но смешно.
Пёс уже поскуливал под дверью, предвосхищая встречу и прогулку. Надо же, мне столько радости только от возможности на собственную рожу смотреть и не снилось. А он скачет, руки лижет, хвостом метёт. Полтора года уже, а щенок щенком. Ну, я не кинолог и не дрессировщик, как-то худо-бедно договорился с ним, чтобы далеко не отходил на прогулке, да чтоб на зов прибегал. Сын старший подарил щенка восточно-европейской овчарки, от каких-то специальных военных привёз, возле города, где он работал, кинологическая часть недалеко базировалась, вот там и добыл. Толковый он, старший-то. Как почуял, что заскучал я тут в тот год сильнее обычного. Ну, или мать подсказала. Она у нас специалист по тому, чтоб втихаря вопросы решать: вроде как они сами по себе выправляются, а она и ни при чём. Скромная у меня жена, что и говорить. А ещё верная и терпеливая. Наверное, она да дети – самые главные мои достижения в жизни, самые ценные награды. Иногда кажется теперь, что даже не заслуженные.
– Вольф, ко мне! – а голос-то ещё есть, вон как скворцы с липы снялись.
Сын так назвал, я бы попроще чего придумал, Рекс там или Амур. Но дарёному танку, как известно, в дуло не смотрят: Вольфганг, так Вольфганг. Он, когда шкодил по молодости, я себя прямо как в кино чувствовал: встанешь на крыльце, бровь эдак изогнёшь, и на всю улицу – «Вольфганг, химмельхэррготт*, кто тапок унёс?! Что глаза прячешь? А ну ко мне!». Хотя, честно говоря, в немецком я не силён, как все дети, что Войну застали, несколько фраз знаю. Французский-то получше, хотя тоже забывать стал.
Прошли с ним до колодца, пять домов всего налево. Там постоял я, закурив, пока он белку ругал, что на сосну забралась, хвостом рыжим только что по морде его не зацепив – хитрая, не боится дурака. За колодцем, ещё через дом, между участками к реке спустились. Речка тут вроде и небольшая, но камнем я бы и в молодые годы с трудом перекинул. Сейчас-то и думать смешно. А вот лавочка на берегу, как раз над поворотом, нравилась мне. Сядешь, на блеск да на рябь глядя, и сидишь себе спокойно. По реке сразу понятно, какая погода, силён ли ветер, и открыли ли щиты на плотине на Волге, куда она впадала. Странная она, я когда первый раз заметил, здо́рово удивился: на той неделе в одну сторону текла, а на этой – в обратную. Давно это было, скоро тридцать лет, как дом этот построил, да сарай, да баню. Думали с женой: выйдем на пенсию – вот где рай-то будет. Летом грибы-ягоды, огород большой. Зимой в погреб слазил, огурчиков хрустких с дубовым, вишнёвым да смородиновым листом достал, пацаны приедут, в баньку сходим… Сыновья в этот год за зиму раз пять приехали. Старший-то ладно, живёт далеко, семья своя, а вот младший, как мы с матерью за город перебрались, совсем вожжи упустил. Соседи говорят, каждую неделю фестивалит, пару раз даже милицию вызывали. Да, это речке хорошо – то в одну сторону течёт, то в другую. Жизнь не такая, у неё такого разнообразия нет.
Час почти сидел на лавочке, Вольф даже скакать устал по высокой траве. Сбегал к берегу, налакался шумно, лег рядом, язык вывалил, дышит глубоко. Хорошо ему тут, привольно. Я старшему, когда он в школу пошёл, достал щеночка, тоже овчарочку, чтоб к режиму оба привыкали. В городе собаке гораздо хуже, конечно. И не побегать особо, и в квартире сплошные ограничения. Тут – рай, о чём и речь.
С лавки поднялся и пошёл за радостным псом обратно. Знает, хитрая скотина, что после прогулки я завтракать сяду, а он шакалить будет под ногами, и хоть тресни, а непременно поймает-выклянчит хоть корочку, хоть хвостик от колбасы. Такую морду состроит – не хочешь, а дашь. Не собака, а Луи де Фюнес, когда голодный. Это тоже, наверное, с годами пришло. Раньше не припомню за собой ни сентиментальности такой, ни желания или хоть какого-то намёка на «потакать». А теперь этот хитрован того и гляди стащит чего-то со стола. Да и с младшим, надо думать, тоже слабину дал я. Он родился, когда мне уже хорошо так за полста было. Мужики говорили, в такие годы внуков нянчить надо, а я вон сына состругал. И к воспитанию, видимо, подошёл, как дедушка, хотя вроде и воли особо не давал, и к труду привлекал, как и старшего. Только сейчас сядешь под яблоней чаю попить или перекурить, да думаешь: «это сам делал, это с мужиками с работы, это старший помогал, и это, и вот тут тоже, по пальцу себе ещё так молотком навернул, помню! С лесо́в слезает, глаза белые, и молчит. Я ему – что? А он руку левую из-за спины вынимает, а там в среднем пальце, синем аж, в верхней фаланге пробойник торчит. Прям так шляпкой и вбил. Промыли, зажило, конечно, даже ноготь не сошёл. А вот про младшего что-то ничего и на ум не шло, кроме того, как он то баню чуть не спалил, то в дом через окно залезал, когда с друзьями сюда позапрошлой зимой приехал. Ключ-то забыл, балбес. Я, помню, из машины вышел, гляжу – а в окне матрас торчит и два одеяла, как задница чья-то. Ну, хоть придумал, как не замёрзнуть, молодец. О, и тут я его хвалю! Ну а как, с другой стороны, не хвалить-то? Вылитый я в юности. Одно к одному – и бокс, и девчоночки хороводом, и прочее. Только я в его годы в институт собирался поступать, а он в ПТУ подался, на этого, как его… менеджера! Ну, с другой стороны, может и к лучшему это?
Жена проснулась, пока мы гуляли, на стол накрыла. Сели на летней кухне, под той самой яблоней, которую сажали со старшим, ему тогда лет десять было. Младший на неё мешок боксёрский повесил и ветку обломал, но это потом уже, конечно.
– До рынка доедем? – спросила жена. Точно, собирались же вчера. Манки надо взять, да творогу – она такие сырники жарит, что за них душу отдать можно. И ещё о чём-то разговор был, вроде.
– Сейчас, чайку попьём, да двинемся. Кроме творогу и крупы чего там нужно?
– Мука заканчивается, если к выходным беляшей нажарить, как хотели – не хватит. И ты лак хотел какой-то купить, пол-то вон вытерся как.
Точно, хотел. Молодец она у меня, всё помнит, всё знает, да ещё и молчать умеет, когда надо. Правда, бывает, так красноречиво молчит, что уж лучше б лаялась…
Машину прогревал недолго, лето же, и выгнал за ворота. Жена закрыла калитку изнутри, а их – снаружи, палкой подпёрла. Всё никак не навешу ушки да замо́к в них. Хотя, от кого тут запираться? Десяток домов в деревне, все друг друга знают, а от огородов да товариществ далеко. Это вокруг них в том году две деревни обнесли дочиста – жульё какое-то осталось зимовать в СНТ, а там разжиться-то особо нечем, вот и вышли на промысел. Говорили, в Иванцево так напугали старушку одну, что померла. Нету совести в людях, это ж кем надо быть, чтоб у старух последнее отбирать, муку, соль да иконы?
«Ласточка», как звала её жена, ехала привычно, неторопливо. Глаза уже не те были, ну так и гонять мне некуда, до райцентра полчаса, ну, может, сорок минут. Раньше, бывало, и за пятнадцать долетал. Отлетался, не спешу больше никуда. Старший предлагал новую машину, да куда мне? Их, иномарки эти, чинить – никаких денег не хватит. Да и не для моего возраста они, там на кнопках всё, на электричестве, все мышцы последние атрофируются. То ли дело в классике «Жигулей»: тут одним пальцем не то, что руль не повернёшь – на гудок не надавишь, всей ладонью надо. Хоть какая-то гимнастика. Да и тюкнуть её не так жалко, если не дай Бог что.
Солнце сияло так, что глаза слезились, узенький щиток-козырёк сверху не помогал, видно было плохо, пока по гравийке ехали. На перекрёстке с асфальтовой до райцентра пропустил лесовоз, маршрутку и две легковые слева. Справа, в сторону города, было пусто. «Ласточка» взобралась на гладкую чёрную дорогу, будто выдохнув, и припустила вперёд. Лучи теперь падали справа, золотя волосы жене, отражаясь в её очках. Совсем седая она у меня стала…
– Смотри, смотри! – пронзительно крикнула вдруг она, хватаясь правой рукой за ручку над дверью.
Повернув голову, успел увидеть, как маленькая машина, что шла перед нами ещё медленнее «Ласточки», потому и догнали, вдруг зарыскала по дороге, будто колесо пробило, а водитель пытался поймать контроль над ней, ставшей вдруг неуправляемой. Пролетел мимо очередной лесовоз. А вот под второй, следовавший за ним, отчаянно басовито гудя, скрипя и дымя резиной по асфальту, с прицепом, уходящим в юз, и влетела болтавшаяся перед нами легковушка.
– Выйдем – поставь сзади знак аварийный, он в багажнике, и ко мне, – бросил я жене.
Очередным её плюсом было уникальное умение мгновенно мобилизоваться. Тогда, в Кабуле, профессора из Академии имени Кирова поражались. Привезут массовое поступление, на четырёх столах оперируешь, а она помогает. Ещё и шутить с теми, кто в сознании был, успевала, хотя там не до шуток было совершенно. Видели бы они, как она рыдала потом в квартире и умоляла вернуться в Союз…
«Ласточка» замерла в паре метров от вставшего-таки грузовика. Я выбрался наружу, не закрыв дверь, и бросился к маленькой машине. Ну как – бросился, похромал быстрым шагом. За спиной скрипнул багажник и разъехалась молния на «Наборе автомобилиста», в котором лежал складной знак аварийной остановки. Кто бы знал, что понадобится хоть раз?
Под лесовозом расползалась лужа, воняя соляркой. Хотя, как говорил один знакомец давний, «бензин воняет, солярка пахнет!». Он был мехводом, да каким-то специальным. Сам себя называл «испытатель-истребитель советской военной техники», потому как по результатам испытаний выдавал такие вердикты, что иногда проще было новый танк сделать, чем под его «хотелки» прототип исправить. Но исправляли. Мне же запах дизельного топлива никогда не нравился. Наверное, после той истории, когда в госпиталь привезли обожжённых танкистов, а подсоветный хирург Абдулла решил, что они обгорели до углей, четвёртой степенью, и отказался оперировать. Потом опомнился, конечно, когда кровь из носа идти перестала – я не придумал, как быстрее его в себя привести. Говорили, он чуть ли не Наджибулле** жаловался. Но тот, вроде как, одобрил мои действия. Жалко Наджиба, конечно, не на своём месте был, врачом бы больше пользы принёс народу. Тьфу, что только не всплывёт в памяти!
На водительское стекло, заляпанное изнутри красным, смотреть было неприятно. Хотя, пожалуй, на подавляющее большинство виденных мной за свою жизнь картинок ни у кого глядеть не возникло бы ни малейшего желания. Люди в белых халатах только в самом начале в белых. Дёрнул дверь на себя. Не поддалась, подклинило при ударе, видимо. Дёрнул сильнее. Отошла чуть рамка сверху, и ручка пластмассовая в пальцах рассы́палась в труху. А из узкой, в палец, щёлки брызнула алая артериальная кровь тонкой струёй.
Схватив двумя руками верх двери там, где протиснулись пальцы, выдернул-таки её.
Женщина. Без сознания. Беременная. Множественные резанные от осколков лобового. Крупный рассёк сонную. Руки сделали всё сами: левая пережала четырьмя пальцами артерию, и фонтанчик затих. Правая потянулась за спиной женщины и отщёлкнула ремень безопасности. Ноги целы и не заблокированы, шея визуально без повреждений, надо вынуть её. Тут же какие-то подушки ещё должны быть? Почему не сработали?
– ДТП с пострадавшими, срочно нужна «скорая» и пожарные, километров семь от города к югу! Ждём! – это жена. Золото моё.
– Валя, кто дежурит сегодня? ДТП, есть раненые, «скорая» к вам повезёт, готовь операционную! – это она же. А Валентина – это подруга её, старшая сестра в районной больнице, работает ещё, не ушла на пенсию. Золото, а не жена, говорю же.
– Чего творишь, дед?! Их нельзя трогать до приезда медиков! Убери руки от неё! – это водитель лесовоза с той стороны выбрался.
– А ну сам убрал руки от доктора! – ох и голосина у неё, когда надо, конечно.
– Ой, – неожиданно поменялся голос водилы, – а я же вас помню! Вы мне руку собрали заново, когда в станок затянуло! – знал бы ты, парень, что сейчас вообще легче не стало тебя узнать. Много вас таких за полсотни лет руки совали куда не лень.
Жена протянулась подмышкой справа и отмахнула мешавший ремень перочинным ножиком. Он у неё всегда острый, я сам точу. Вытянула перерезанную чёрную ленту снизу, под животом.
– Воды отходят. Вынимаем, раз – два – три, – в три руки вытащили женщину, как когда с носилок на стол перекладываешь, тем же движением почти. Только пальцы мои ей артерию продолжали фиксировать. И спина неожиданно выдержала. Потом обезножу, а пока нельзя, никак нельзя.
– Кто отходит, куда?! – закричал водитель растерянно.
– Ноги держи, и не ори. На плед несём, – гавкнул на него я. Бывает, когда нервотрёпка одолевает, речь на человеческую становится мало похожа. А вот на лай – вполне. Главное, что понимают её и слушают гораздо лучше, насмотрелся за жизнь. – Воды найди чистой, и аптечки тащи все!
Убежал, сперва к нашему багажнику, чемоданчик чёрный достал и рядом с пледом положил. Плед-то тоже жена расстелила, наш, с заднего сидения. А водитель обежал с обратной стороны кабину и выскочил оттуда ещё с одной аптечкой и двумя баклажками воды.
– Вот, на ключе набрал, холодная, – предупредил он. А меня насторожило что-то, когда он хлопал дверью, но что – сам не понял.
– На руки лей, – мы с женой выставили руки, она две, я одну.
И впрямь ледяная водица-то. Раненая так и не очнулась, хотя на неё если и попало, что несколько капель всего. А жена уже спиртовым салфетками обработала одну мою и обе свои.
Чистой рукой поднял веки, посмотрев зрачки, ощупал шею и рёбра. Если что и не так с ними, то я не углядел. Реакция на свет была, как при не особо тяжёлом сотрясении. Дышала сама и примерно так же. Пульс плясал, это я чувствовал подушечками мизинца и, чуть похуже, безымянного пальца левой руки. Которые начинали неметь. Но рана не кровила, и это было важнее.
Мальчик, с виду вполне здоровый, родился буквально через десять минут. Бывает такое, «стремительные роды» в учебниках называется. Только там, кажется, другие сроки были. Не вспомню, давно акушерское дело сдавал. Очень давно. Но прошло всё как по маслу: ребёнок вылетел пулей, если знать, что можно и по шесть, и по восемь часов рожать. Только вот водила оказался слабоват:
– Что это такое?! – прохрипел он и брякнулся в обморок. Хорошо хоть, башку об асфальт не расколол, вообще некстати было бы.
И чего напугался, спрашивается? Ну, непривычно, конечно, когда в пузыре рождается ребёнок, в плаценте. Плёнка эта, глянцевая, непрозрачная, сосудами вся в сеточку испещрена, вид так себе имеет. Чем-то отдалённо на говяжьи лёгкие похожа, если их на рынке покупать. Но чтоб от такого зрелища здоровый шофёр опал, как тургеневская барышня?
Жена тем же перочинным ножиком, продезинфицировав предварительно, вскрыла послед, достала мальчишку. Я правой рукой перевязал пуповину, оказывается, в нашей аптечке и шовный материал был, правда, с каких пор там лежал – одному Богу известно. А навык узлы вязать одной рукой пригодился, смотри-ка, вот уж не думал, что ещё хоть когда доведётся. Но наловчился за жизнь. Это, конечно, не как на велосипеде ездить: один раз выучился – никогда не забудешь, тренировки тоже важны. Но я, видно, тренировался достаточно, рука сама всё сделала.
Пока вязал, ещё волновался: молчал мальчишка, рот разевал, но звуков не было. Неужто помяло при аварии? Но когда жена махнула ножиком и перерезала пуповину – голос подал. Она обернула его каким-то не то полотенцем, не то пелёнкой, которая неизвестно откуда нашлась у нас, и держала на руках. От предложения подменить меня, чтобы рука отдохнула, я отказался. Не было никакой уверенности в том, что смогу перехватить нормально правой, а левую давно не чувствовал. Но рана по-прежнему не кровила, и это по-прежнему было главным сейчас. Спасти малыша и угробить мать? Ну уж нет!
Скоропомощная ГАЗель, воя и мельтеша, подлетела и едва бампером не упёрлась в лесовоз. Вылетевшей фельдшерице жена вручила свёрток с вопившим пацанёнком, почти вырвав у неё чемодан с крестом – откуда только сил нашла столько. В руках у неё блеснул зажим. Ого, Бильрот, удачно, что нашёлся! Она протянула его мне, держа браншами к себе. Пальцы моей правой руки сами собой нашли кольца. Зажим нырнул в рану. Чувствуя онемевшим указательным левой руки стальной клюв инструмента сквозь кожу, завёл его за артерию и защёлкнул кремальеру. Вторая женщина из «скорой» быстро написала на лейкопластыре время и налепила на плечо раненой – так не будет вопросов, когда снимать, и со швами тянуть не станут, когда доставят. Крепкие тётки в синей униформе, одна из которых взяла у жены новорожденного и умостила на груди у матери, подхватили плед за углы и отнесли ближе к скорой, из которой пожилой водитель выкатывал носилки. Раненая, так и не пришедшая в себя, смотрелась маленькой и беззащитной. Не знаю почему, но чувства были именно такими. Ей бы грудь ребёнку дать – вон как развопился, бедный. И тут за спиной что-то заскрипело и хрустнуло.
А я вдруг понял, что меня так насторожило, когда водитель хлопал дверью. То, как качнулись брёвна на лесовозе. Которые должны были, по идее, быть надёжно закреплены. И как наклонилась одна из вертикальных стоек. Старый друг, геолог, одно время работавший при леспромхозе, говорил, что они ещё назывались как-то забавно, стойки эти – не то «мальчики», не то «коники». А машину правильно называть было не «лесовоз», а «сортиментовоз». Вот эти-то стойки на борту, должно быть, и повело при ударе.
Водила, что вот только что, вроде, пришёл в себя, и то не целиком, с матерным воем пополз вправо, на пространство перед кабиной. Молодец, туда-то брёвна точно не повалятся. Заверещали фельдшерицы, вскинули роженицу вместе с пледом на носилки и покатили, едва не сметя седого шофёра «скорой», в обратную сторону, за хвост лесовоза. И только жена стояла, как громом убитая, не сходя с места, распахнув серо-голубые глаза. И я сидел примерно так же, потому что подняться не успевал, да и не мог: быстрые движения и нагрузка – для тех, кто помоложе. Значительно помоложе.
За спиной скрипнуло долго, надрывно как-то. Жена вскинула ладони и прижала их к губам. Я успел только моргнуть ей, как всегда в операционной, над маской: обоими глазами, с еле заметным кивком, подбадривая и успокаивая. А сейчас – ещё и прощаясь. И шестиметровые дубовые брёвна полуметрового диаметра, для которых вряд ли был предназначен усталый лесовоз на базе КамАЗа, скатились с левого борта, согнув стойки из швеллера, как бумажные. Прямо на меня.
* Himmelherrgott – "черт подери" или иное сходное эмоциональное восклицание (нем.)
** Мохаммад Наджибулла – председатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан с 1987 года. Зверски убит 27 сентября 1996 года.
Глава 2. Твой дом – тюрьма
Старые стволы дубов вспыхнули, как факелы, разом и по всей длине. Так быть не могло, но почему-то случилось. Седой шофёр «скорой» и водитель лесовоза оттащили подальше от нестерпимого пламени пожилую женщину, которая только что так уверенно принимала роды, а через несколько мгновений остолбенела каменным изваянием, скорбно глядя на огромный погребальный костёр. Фельдешерицы совали нашатырь и что-то говорили, пытались отвлечь, растормошить. Но она видела лишь небывалые клубы светлого дыма, что поднимались ввысь, к ярко-голубому небу и ослепительному солнцу. Которые для неё вдруг стали чёрно-белыми, как в старых фильмах или мультиках, над которыми рыдал сын, когда был маленьким.
Пожарная машина попалась навстречу «скорой», что уже везла в больницу роженицу, младенца и жену старого врача. В кабине пахло хлоркой, корвалолом, спиртом, резиной, холодным железом – такими привычными для медицинского работника запахами.
Спасённая пришла в себя в операционной, едва ей наложили швы на крупные порезы. Потом, в палате, обессиленно рыдая, гладила малыша, что теперь лежал у неё на груди спокойно, хотя пока обмывали и смазывали йодом пуповину – верещал не переставая. И слушала пожилую акушерку, которая в третий раз перевирала свой же рассказ о чуде на дороге, требуя сразу же, как только молодая мать встанет на ноги, пойти в церковь. Потому что Господь прислал ей в помощь ангела, не иначе: на бывшего главного врача райбольницы весь старый персонал только что не молился. Со слов старушки выходило, что незнакомый спаситель и раны исцелил, и роды принял, и из-под поехавших с лесовоза брёвен едва ли не на руках вынес, а сам принял мученическую смерть в огне.
Грузовик и легковушка сгорели дотла. На маленькой красной машинке оплавились алюминиевые литые диски, а цвет теперь вряд ли угадали бы даже криминалисты. От старого доктора осталась пара фарфоровых коронок и две титановых спицы, которые он носил в правой ноге как память об увлечении горными лыжами в молодости. Давным-давно ушедшей.
Люди шёпотом говорили, что его Бог прибрал на небо живым, целиком, потому и хоронить было нечего.
Сперва пришли запахи. Сырой земли, острый смоляной, горький дегтярный. И старой выгребной ямы, засыпанной свежей травой. Подуло еле уловимым ветерком, что пах дымком и конским потом, и ароматы сортира почти пропали. Почти.
В голове крутились будто два сна одновременно, так бывает, когда уже вроде как пора просыпаться, но ни один из них отпускать не хочет, и смешиваются между собой разные слои прошлого, явь с вымыслом, встречаются те, кто никогда не видел друг друга на самом деле, разговоры какие-то ведут. А ты смотришь, словно со стороны, безучастно.
Вот только в моём случае участие было, причём вполне себе активное. Вот роженица, исходящая кровью, которой я зажимаю артерию на шее. Вот ребёнок, родившийся «в рубашке». Хотя, мамочка-то, пожалуй, тоже везучей оказалась, даже очень. Не то, что я.
А вторая сцена, что воспринималась столь же ярко и живо, была странной.
Я видел со стороны самого себя, как в старой песне Градского: «может, я это, только моложе». Этот я лежал на земляном полу какой-то клетушки с бревенчатыми стенами и без окон. Вокруг стояли на той же самой земле два парня, грязные и заросшие, старшему, крепкому и высокому, лет двадцать, младшему меньше пятнадцати, наверное. Хотя, оба тощие, немытые, можно было легко ошибиться в любую сторону. По лицу младшего катились слёзы, оставляя светлые полосы на серых щеках.
– Не реви, Глебка. Не гневи Богов, – произнёс старший.
– Да как же это, Ромаха? Копьём, как оленя на охоте, из засидки, тайком! Изяслав, паскуда, даже боя не дал! – захлёбываясь, отвечал младший.
– А ну уймись! Помнишь, в сече батьку и железо не брало, и булат миновал? И сейчас спасётся он, верь моему слову, – говорил он уверенно, твёрдо. Но мне было много лет, и я чувствовал, что сам он вряд ли верил в то, что говорил.
– А вдруг у отца от железа да булата наговор есть, а от древа нету? – ещё горше зарыдал младший.
– Видел я, как копья да дубины мимо него летали, знать, от дерева тоже, – ответил старший, но с ещё меньшей уверенностью.
А я смотрел на того себя, что лежал меж ними. Под левой ключицей виднелась рана, не особо большая и страшная, со спичечный коробок, меньше даже. И кровила она мало. А то, что дышал тот я вполне нормально, никак не похоже на виденные неоднократно картины с пневмотораксом, с поверхностным дыханием и одышкой. Это внушало надежду, что старший мог оказаться правым.
– Спаси меня, лекарь. Сможешь? – раздался голос внутри. Хотя, не чувствуя тела, не имея рук и ног, наблюдая за происходящим словно со стороны, трудно было понять, где здесь у меня «нутрь», а где «наружа».