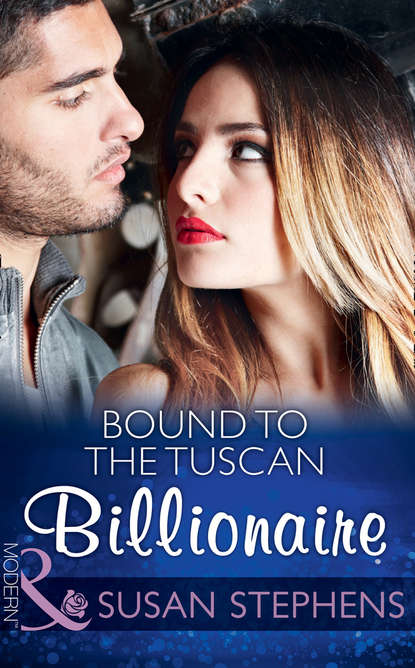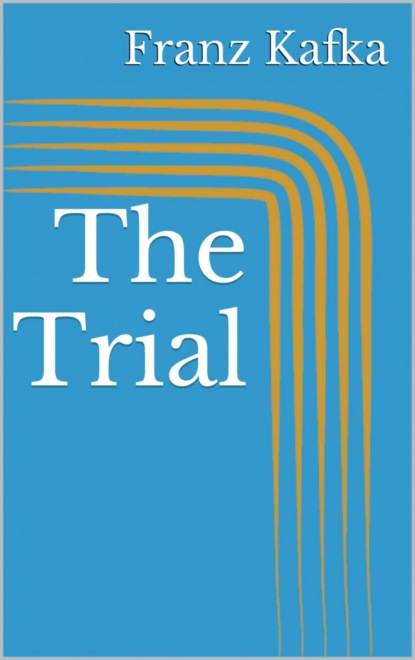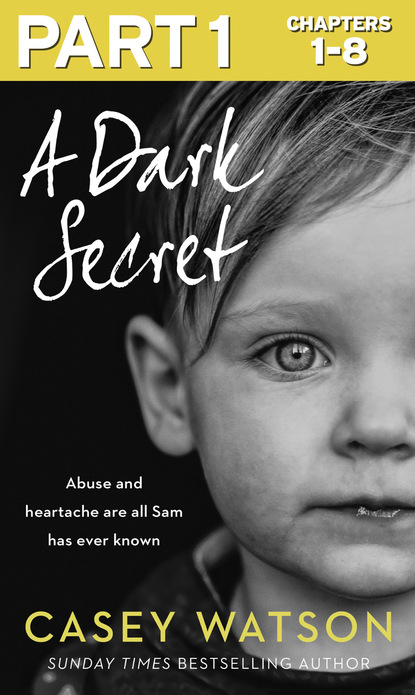Лето, пролитое на траву…

- -
- 100%
- +
А пока перед ними лежало целое лето – бесконечное, как вселенная. Лето, пахнущее лимонадом угасшей страны, горьковатым соком ивы и пылью дорог, зовущих к приключениям.
Вечер медленно опускался на город, размывая краски и вытягивая из дворов длинные, причудливые тени. Пятерка мальчишек, еще полная дневного задора и планов на грядущий поход, с грохотом высыпала на свою улицу. Их смех и перебивающие друг друга голоса звенели в затихающем воздухе. Всё было обговорено, маршрут изучен, роли распределены – лето лежало перед ними, как распахнутый сундук с сокровищами.
Эта шумная компания внезапно замерла у подъезда Глеба. Из-за угла, тяжело опираясь на стену, покачиваясь, возникла знакомая, давящая тень – его отец. Мужчина не замечал их, он был полностью поглощён сложной задачей собственного передвижения. Мальчишки разом притихли, все взгляды непроизвольно упёрлись в Глеба.
Он стоял, смотрел на отца, сжав кулаки. Все его тело, ещё минуту назад расслабленное, вдруг скукожилось от стыда и привычного предчувствия бури.
Мужчина шаркал ногами, что-то невнятно бормоча себе под нос. На секунду он поднял голову, и его мутный взгляд скользнул по притихшей ватаге. Глеб инстинктивно отшатнулся за спины друзей.
– Опять, – выдавил он хрипло. – Пацаны, постойте немного…
Мужчина опустил голову и прошёл мимо. Глеб, провожая его взглядом пробормотал.
– Пацаны, идите по домам. Я… я не пойду. Он сейчас придёт домой, и начнется… – он горько дернул плечом, – Пересижу на лавке, пока не уснет.
В его голосе была такая усталая, не по-детски обреченная покорность. что у ребят сжались сердца. Молчание становилось невыносимым.
– Пошли ко мне, – вдруг просто сказал Ромка, тронув Глеба за локоть. – Мама обещала пирогов напечь. С морковкой. Не с мясом, конечно, но… очень вкусные, сам попробуешь.
Ребята молча разошлись, перекрикиваясь на прощание уже не так бодро. Глеб и Ромка пошли в сторону Ромкиного дома.
Дверь открыл Ромка своим ключом. Из квартиры пахнуло сладким паром от печеной моркови, сдобным тестом и чем-то незыблемо-домашним, чего так искал в своем доме Глеб. На вешалке у входа висела мамина кофта, на полке в прихожей стояли забавные керамические кошки, а из комнаты доносился ровный, убаюкивающий гул телевизора.
– Ну что, воины, нагулялись? – из кухни вышла мама Ромки, вытирая руки о цветной фартук. На её лице была добрая, искренняя улыбка. -Так, мойте руки и мордашки и идите в зал, садитесь, сейчас чаю вам налью, с пирожками. Ромка включай телевизор, что хочешь смотрите.
Глеб застыл на пороге. Эта простая, само собой разумеющаяся забота была для него откровением. В его доме телевизор чаще заглушал крики, а не сопровождал тихие вечера. Он поймал себя на крамольной мысли: лучше бы, как Ромка, совсем не помнить отца, чем жить с вечно пьяным, озлобленным чужаком в собственной квартире. Он молча проследовал в небольшую гостиную, где на стареньком диване лежал вязаный плед.
Ромка, плюхнувшись на диван, взглянул на притихшего друга:
– Тяжело маме одной, конечно, – тихо сказал он, разливая чай по кружкам. – Я как могу помогаю ей… Но ты знаешь иногда так хочется, чтобы и у меня был отец…
Глеб лишь мотнул головой, не в силах подобрать слов. Они ели душистые сладкие от начинки пирожки, смотрели «Дневники НЛО», и Глеб понемногу оттаивал, его плечи наконец-то расслабились.
Посидев около часа, он поднялся.
– Ох Ромка пойду я, наверное. Спасибо тебе… за всё. И твоей маме…
– Пожалуйста Глеб. – послышался мягкий голос за его спиной.
Он обернулся. Мать Ромки стояла в дверном проёме.
– Подожди, – мать Ромки исчезла на кухне и вернулась, держа сверток из газеты «Комсомольская правда». – Возьми с собой. Утром с чаем разогреешь.
Глеб взял сверток, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. Он кивнул, не поднимая глаз, и вышел на улицу.
Ночь встретила его тишиной и пустотой. Фонари отбрасывали на асфальт одинокие круги света. Тёплый свёрток в руке был единственной реальной и доброй точкой в этом внезапно опустевшем мире. Глеб шёл, глядя себе под ноги, и вдруг по его щеке, а потом и по другой, покатились слезы. Он резко провёл рукавом по щекам, но они текли снова, тихо и назойливо, смывая дневную грязь, стыд и горькую зависть к чужому, такому простому и такому недостижимому счастью. Он сжал тёплый свёрток так, что газета смялась. На ней проступили тёмные, мокрые пятна.
––
Как только Роман и Глеб скрылись за поворотом, искусственная оживленность мгновенно улетучилась, оставив после себя тягостную пустоту. Артём, шедший впереди, резко остановился и обернулся. С его лица, только что светившегося улыбкой, будто стерли всё одним движением, и теперь на нём лежала маска раздражения и усталости.
– Видели? – сквозь зубы процедил он. – Выскочил, как чёрт из табакерки. Завтра Глеб явится с синяком, вот зуб даю. Опять его по стенке размажут.
– Ну что ты сразу за своё, – попытался сгладить углы Иван. – Думаю, пронесет. Они к Ромке пошли. Посидят, чай попьют. А его отец, глядишь, к тому времени уже и отрубится.
– Один фиг жалко его, – тихо, но отчётливо сказал Степан. В его голосе не было нытья; звучала неподдельная, острая, почти взрослая жалость. – У нас-то у всех… ну, как ни крути, более-менее. А у него… камера одиночки. День за днём. И конца этому не видно.
Тягостное молчание накрыло их, пока они брели по вечернему двору, погружающемуся в сиреневый сумрак. Воздух остывал, пахло остывающим асфальтом, пылью и густым, сладковатым ароматом цветущей сирени.
Степан, словно решив разорвать гнетущую пелену, неожиданно начал, запинаясь:
–А вы… а вы моих старших сестёр не помните, наверное? Они школу давно закончили.
– Ну и? – подхватил Артём. Любая тема была хороша, лишь бы уйти от мрачных мыслей.
– А то. Со старшей, Ларисой, вообще история. Ей двадцать три, а она надо мной трясётся, как наседка. Помню, лет десять мне было, я на велике гонял, упал, коленку в кровь разбил. Так она, как увидела, вся побелела. Примчалась, бинты принесла, а у самой руки дрожат. Перевязывает и шепчет: «Степашка, ты у нас один, братик, наш единственный. Береги себя». И так это она сказала… что я аж реветь перестал.
– Стёп, вот ты сейчас это к чему сестёр своих приплёл? – озадаченно спросил Артём.
– Да это я так… Девчонки, хоть ты и говоришь, что они дуры, но я думаю, что они хорошие… добрые.
– Ну и телок же ты, Степашка! – Глядя на Ивана, фыркнул Артём.
Иван лишь развёл руками, молча призывая его к снисходительности.
– Ладно, ладно, – Артём подмигнул Ивану. – Продолжай, Стёп. И что дальше?
К этому времени они дошли до подъезда Ивана и устроились на прохладной, отполированной до блеска лавочке. Слушали Степана, лениво улыбаясь. Его простой рассказ был тёплым и уютным, как свежий хлеб.
– А средняя, Таня, – продолжал Степан, оживляясь, – она вообще огонь. Вечно дразнила, подначивала. Но! – он поднял палец, – если кто во дворе ко мне пристанет – она тут как тут. Один раз Витька-сосед мне рогатку сломал. Так Танька к нему во двор приперлась и при всех отчитала так, что он, здоровый лоб, чуть не расплакался. А на следующий день мы с отцом и Таней новую, ещё лучше, мастерили.
– Так, – перебил его Артём, и в его глазах заиграл озорной, оценивающий огонёк. – Степан, у меня два вопроса тебе на засыпку: А где были мы, если за тебя девчонки разбирались и… ну честно, которая из них самая красивая? Объективно?
Степан на секунду задумался, почесав затылок.
–Да мы тогда еще так не дружили… А красивее… Ну, Таня, наверное… – неуверенно начал он. – Она в маму, чернобровая, глаза такие черные…
– Всё! – Артём хлопнул себя по колену, и в его глазах вспыхнул озорной огонёк. – Решено. Женюсь на твоей сестре. На Тане. Буду целоваться с ней при тебе, а ты, как младший родственник, будешь нам тапки носить и борщи варить. Всё, вопрос решён!
Все расхохотались. Степан фыркнул и швырнул в Артёма сорванным стеблем полыни.
– Мечтать не вредно, Робин Гуд! Она за милиционера замуж собирается! А у него пистолет есть, и он самбо знает!
– Ничего, – парировал Артём, размахивая своей деревянной заготовкой, – мой верный лук и самбиста с ног сшибёт!
Степан замолчал, и в наступившей тишине был слышен шум вечернего города. Он посмотрел на Артёма и тихо, но очень чётко сказал:
– Вот потому я и говорю… будь у Глеба сёстры… или брат… ему бы не так тяжко было. Они как… щит.
В этот момент дверь подъезда со скрипом открылась, и на пороге возник отец Ивана. Высокий, подтянутый, в простой футболке.
– А ну, орда, потише! – смеясь мужчина поднёс палец к губам. Стёп, мать звонила, беспокоится. Беги-ка, мужик домой, позаботься о ней.
– Сейчас, дядь Коля, – смущённо буркнул Степан.
Иван, пользуясь моментом, добавил, понизив голос:
– Пап, мы Глебова отца видели. Опять… опять пьяный.
Лицо дяди Коли стало серьёзным. Он вздохнул.
–Так, пацаны, чтоб я больше ни от кого не слышал, что вы отца Глеба обсуждаете. Понятно? Друзей выбрать можно… и то не всегда. А родители – их не выбирают. – он кашлянул – Его отец пьёт – это его беда… А Глеб – мальчик хороший. Вы друзья, так и держитесь друг за друга. А теперь быстро по домам! Завтра день большой, нагуляетесь.
Ребята послушно поднялись. Авторитет дяди Коли был непререкаем. Иван скрылся в подъезде, а Артём и Степан пошли в сторону своих домов.
– Ну так что там с сестрой? – не унимался Артём, подталкивая Степана локтем.
– А вот что, – продолжил Степан, уже без шутки. – Я как-то спросил у Ларисы: «Лар, а почему вы со мной как с писаной торбой носитесь?» А она улыбнулась и говорит: «Потому что ты, дурачок, наш общий ребёнок. Мама с папой на работе пропадали, а мы тебя растили. Ты наш первый и главный совместный проект».
Степан умолк, и на его лице расплылась счастливая, немного глупая улыбка. В этот момент он был не просто одним из пацанов, а центром маленькой вселенной, полной любви и заботы. И этой вселенной он по-детски, щедро пытался поделиться с друзьями.
– Вот, скажи, дуры же.
– Да фиг его знает…
Они дошли до пятиэтажки Степана, окна которой были залиты тёплым светом.
–Ну, ладно, – крякнул он. – До завтра.
–Ага, – кивнул Артём. – Счастливо. Передавай привет Татьяне-красотке.
–Ох и трепло же ты, Тёмка!
––
Артём побрёл один по двору, погружённому в предночную дремоту. Смех друзей остался позади, и его накрыла волна странной, но такой знакомой тоски. Тёплые истории Степана заставили остро, почти физически, почувствовать пустоту в своей собственной роскошной, но безжизненной квартире. Он сжимал в руке заготовку для лука – гладкую, упругую, пахнущую деревом. Единственное, что сегодня было по-настоящему его и … деньги, лежащие в кармане.
Он вспомнил, как вчера отец, ликующий, кинул на стол пачку хрустящих купюр.
– Тёмка, держи! Чтоб без нужды ни в чём. Я в твои годы, бывало, из-за рубля на стадион не мог пойти – все ребята гуляют, а ты дома сидишь. Унизительно это. А ты бери и кайфуй! Все лучшие моменты в жизни – они, сын, когда ты не считаешь копейки.
Мать, не отрывая взгляд от окна, тихо, но отчётливо бросила через плечо:
– Только не трать опять на какую-нибудь бесполезную ерунду. Купи что-нибудь действительно стоящее…
Отец фыркнул:
– Пусть тратит! На всё что хочет! Научится отличать ценное от дешёвки.
Артём взял верхнюю купюру. Сто тысяч рублей. Бумага была твёрдой, почти чужеродной. Он видел, как плечи матери ещё больше задеревенели. Родители не ссорились. Они просто существовали в параллельных реальностях. Отец – в мире стремительных сделок и побед, измеряемых этими хрустящими пачками, мать – в мире бухгалтерских отчётов, где каждая копейка должна быть на счету. Её мир был миром ограничений, его – миром безграничных возможностей. И эти миры сталкивались прямо здесь, на кухне, а их отголоском в кармане у Артёма лежали деньги, которые не могли купить того, о чём так просто рассказывал Степан. Их любовь измерялась в банкнотах, а не в самодельных рогатках или в дрожащих руках перевязывающей разбитую коленку.
Лифт бесшумно умчал его на девятый этаж. Достал ключи. Замок щёлкнул, дверь отворилась, впустив его в квартиру. В прихожей пахло чистотой и застывшей тишиной. Напротив, в гостиной, горела лампа под абажуром, отбрасывая на стены тёплый, медовый круг. В его сонном сиянии застыл силуэт матери в кресле. Телевизор молчал, на столике рядом стоял недопитый чай, а на её коленях замерла раскрытая книга. Она ждала его, но сон оказался сильнее.
Артём на цыпочках прошёл на кухню, щёлкнул выключателем. Вспыхнула строгая люстра, и её холодный свет заиграл на глянцевых фасадах, на стальной матовости плиты. На столе, под стеклянным колпаком хлебницы, белел батон, но плита была холодна и пуста, и от неё веяло нежилым одиночеством. Артём прислонил свою деревянную заготовку к столешнице – тёплое, живое дерево легкой тенью легло на безупречном пластике. Немного подумав, он снова щёлкнул выключателем, погрузив кухню в полумрак, и подошёл к холодильнику.
Свет, хлынувший из распахнутого холодильника, был мягким и безжизненным, он на мгновение вырвал из темноты края мебели и застывшую пыль в воздухе. Вслед за прохладой хлынули запахи – густые, настойчивые: сладкая духота яблок, едкая горчинка зелени, уютный аромат колбасы в вощёной бумаге.
Действуя на автомате, Артём достал молоко. Пошарив в кармане, достал свой складной нож, толстым ломтем отрезал колбасы. Дверца с глухим щелчком закрылась, погрузив кухню в темноту, но ненадолго – её тут же начал размывать до полумрака мягкий свет уличного фонаря. Он пробивался сквозь не зашторенное окно и ложился на стол бледным прямоугольником. В этом призрачном сиянии на полке проступила недособранная бригантина. «Так мы с батей её и не достроили», – с тихим уколом сожаления подумал он.
Артём нарезал хлеб. Процесс был простым, почти ритуальным. И эти бутерброды, собранные его руками в ночной тишине, казались сейчас не просто едой, а молчаливым протестом, его первым по-настоящему самостоятельным поступком в огромном, спящем мире.
Он подошёл к окну. Город внизу был чёрной бездной, усыпанной дрожащими огнями. «Скоро, – мысленно сказал он бездне. – Скоро начнётся наше приключение. Не то, что покупают, а то, что создают своими руками».
Оставалось лишь доесть этот ужин – в одиночестве, но с ощущением, что за стеной в теплом свете лампы спит мать. И от этой мысли ночь становилась уже не такой тёмной. Не такой одинокой.
…
Иван скрылся в подъезде, и тяжелая дверь, захлопнувшись, глухим стуком отсекла шумный мир двора с дневными впечатлениями. В лифте висел спёртый воздух, пахнущий хлоркой, старым железом и чужой жизнью.
Цифры над дверью медленно перебирались, как костяшки счётов.
– Вань, – голос отца прозвучал негромко, нарушая давящую тишину. – Который час? Мать звонила Ромкиной. Целого дня мало вам было?
Он помолчал, глядя на мигающую цифру «четыре».
– Я не в назидание. Сам бегал, забывал о времени. Но всему есть мера. Время сейчас… лихое. И наркоманы, просто шпана, алкаши разные. – Он повернулся к сыну, и свет лифта жёстко выхватил морщины у глаз. – Я сейчас не про отца Глеба. Есть похуже.
– Пап, мы просто заигрались. Не заметили.
– Главное – живы-здоровы. А то мать твоя уже такого напридумывала. Ужин стынет. Картошка с котлетами. Мать поела уже, а я без тебя не садился. – Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки, и большая, тёплая рука легла на Иваново плечо, сжимая его в молчаливом «я рад, что ты дома».
Из-под двери кухни тянуло густым, духовитым паром – сладковатым духом жареного лука и ароматом маминых котлет. Иван, смыв в ванной уличную пыль и липкий, тёмный осадок от встречи с отцом Глеба, прошёл в свет и уют.
Мать, невысокая, в поношенной отцовской футболке и простых шортах, молча поставила перед ним тарелку. Золотистые брусочки картошки лежали рядом с парой котлет, плотных и подрумяненных. От них поднимался соблазнительный, горячий пар словно они всё еще лежали в раскалённой сковороде.
– Садись, Вань. Голодный, поди, как волк. – Голос её был тёплым, но изнутри его подпирала усталость.
– Да мы… Артём всех угощал. Пряниками, «Тархуном». Ему батя сто тысяч дал!
– Что ж, хорошо, когда в доме достаток, – мягко сказала мать, вытирая руки о фартук. – Только помни, сынок, деньги – они как соль. Без неё пресно, а одной ей сыт не будешь. Необходимое – да. Но не главное. – Она перевела свой всепонимающий взгляд на мужа.
–Так, так… – пробормотал отец, вдруг с головой уйдя в тарелку.
Воцарилась тягучая тишина. Отец отложил вилку, и та звякнула о край тарелки.
– А Глеб-то… – наконец произнёс он, впиваясь взглядом в сына. – Опять его… батя?
Иван лишь кивнул, уткнувшись в тарелку, чувствуя, как комок картошки становится безвкусным и тяжёлым.
– Да… Еле ноги волочил. Глеб с Ромкой ушли. К Ромкиной маме.
Мать, стоя у плиты, прислонилась к ней спиной, и её плечи опустились под невидимой тяжестью.
– Господи, помоги ты этой женщине… И мальчишке… Одна пацана растит. В наше время… И Глеб… бедный мальчишка… – её голос сорвался в шёпот, полный бессильной жалости.
– Вань, послушай меня. – Отец положил на стол свою большую, жилистую руку с мозолями от тяжёлой работы. Ладонь легла плашмя, твердо.
– Глеб – друг. Это правильно, что не бросаете. Это по-мужски. Но чужую беду, сынок, в охапку не возьмёшь. Понял? Можешь быть рядом. Накормить. Дверь свою открыть. Но влезать в его семью… Туда без стука не ходят. Там своя война.
– Понял, – тихо сказал Иван, чувствуя, как на него давит груз этой взрослой, непростой правды.
– Его отец… – отец покачал головой, и в его глазах, обычно таких ясных, мелькнула тень чего-то старого и горького. – Он болен. Болезнь такая, что душу выедает. Помнишь, как у Высоцкого: «Ну так ещё б – я пил из горлышку, с устатку и не евши. Но я как стекло был, то есть остекленевший…» Вот это про него. И пока сам человек не опомнится… ничего не сдвинешь. Да я его понять могу… Отсидел он по малолетке… А лет пять назад жена у него умерла. Мать Глеба… – он тяжело вздохнул. – А Глеб… Глебу деваться некуда. Ваша дружба для него сейчас – единственный спасательный круг. Вы – его берег.
Иван слушал, застыв с куском хлеба в руке. Он редко слышал от отца такие пронзительные, выстраданные слова.
– Ты главное – голову на плечах имей, – продолжил отец, и его голос приобрёл металлическую твёрдость. – Если что-то пойдёт не так, если станет по-настоящему страшно – помни, что мы с матерью у тебя есть. За твоей спиной – я. И включай голову. Никакой дурацкой бравады. Геройство – это не про ум. Это риск и безысходность.
Он замолчал, с силой протолкнув во рту не дожёванный кусок, затем снова поднял взгляд, и теперь он смотрел куда-то сквозь Ивана, в прошлое.
– У меня в твои годы друг был, Вовка. Отец у него… не то, чтобы алкаш, а зверь, хуже зверя. Тиранил парня почём зря. И вот однажды Вовка не выдержал, сбежал. Ко мне пришёл. Ночь просидел, ревел в голос. А утром мы с ним и ещё одним товарищем пошли к его отцу. Если бы ты знал, как страшно было. Сердце, Вань, колотилось, будто выпрыгнуть хотело. Коленки друг о друга стучали.
Иван замер, не дыша, представив эту троицу испуганных пацанов, идущих навстречу взрослой ярости.
– Ну, сказали мы ему, собравшись с духом: «Дядя Петя, вы сейчас или убьёте его, или перестанете. А если убьёте – мы в милицию пойдём, всё расскажем. Мы уже не отступим». Он на нас тогда посмотрел… и как рявкнет, слюной брызгая: «Пошли вон!» А Вовке: «Заступников нашёл, стервьё? Весь в мать.» А мы встали и стоим… молчим. Словно вкопанные. И Вовка, весь бледный, к нам подошёл, встал рядом. Его отец постоял, посмотрел на нас и плюнул прямо перед нашими ногами и говорит: «Ну что ж… Пусть по-вашему будет». И ты знаешь, больше он его пальцем не тронул. Словно сломался.
Отец отпил чаю и поставил кружку с твёрдым, завершающим стуком, поставив точку в рассказе.
– Понял, о чём я? Иногда надо не геройствовать, не лезть на рожон с кулаками. А просто встать рядом. И молчать. Чтобы все видели – ты не один. Настоящая дружба проверяется не когда лимонад да пряники, а соль и перец. Вот тогда и надо держаться друг за друга. Потому что если не вы, то кто? – Отец тяжело вздохнул. – Вам, пацанам, сейчас кажется, что вы – племя, крепость. И это правда. Но крепости иногда проверяют на прочность. Вот тогда и видно, где настоящая стена, а где – картонный фасад. Дружба – она не в общем веселье. Она – в общей беде. Запомни это.
Иван кивнул, но не сразу. Словно прожевывая каждое слово. Он смотрел на руки отца – большие, жилистые, с давно въевшейся в кожу машинным маслом – и представлял, как эти же руки когда-то сжимались в кулаки от страха, защищая друга. "Встать рядом. И молчать". Это было страшнее и сильнее, чем любая драка.
– Ну раз понял, давай, доедай и будем закругляться. У тебя каникулы, а нам с матерью завтра на работу.
Иван отнёс тарелку в раковину, где в тёплой воде лежала тарелка, поцеловал на ночь мать, прильнув к её мягкой, пахнущей сдобой щеке, и ушёл в свою комнату.
Он долго лежал в кровати, глядя в потолок, где узор из теней, отбрасываемых уличным фонарём, казался картой неизвестных земель. В ушах гудело, как в ракушке: «Встать рядом. И молчать… Держаться друг за друга…» «Кто если не мы», – с тихой и ясной жутью подумал Иван. Всё внутри него сжималось в твёрдый, несгибаемый комок. Он чувствовал его тяжесть в груди, почти физическую.
Он повернулся на бок, натянул одеяло с байковым запахом детства и закрыл глаза, отгораживаясь от навалившейся ответственности.
«Кто, если не я…», – проговорил он про себя, прежде чем провалиться в сон.
Глава 2. Сборы. (День второй.)
День встретил их зноем, звенящим в ушах и слепящим глаза. Солнце, поднявшееся над крышами, жгло немилосердно. Воздух над асфальтом колыхался, искажая очертания мира, словно они смотрели сквозь дрожащее стекло. В ушах стоял тонкий, высокий звон – казалось, плавится само небо.
План, бурно обсуждённый вчера, был чёток и выверен. Главное правило: ни один из родителей не должен был знать об истинной цели «прогулки». Это была не прогулка. Это была экспедиция.
Первым на условленное место – двор своего дома – вышел Иван. Это был идеальный плацдарм: просторный, заставленный раскидистыми клёнами. Он устроился на скамейке с видом на проезжую часть, достал из кармана смятый листок. «Тушёнка – 4 банки, хлеб – 2 буханки, крупа…» Список был его талисманом, доказательством контроля над ситуацией. Из дома он прихватил кусок сала из морозилки, свёрток с бутербродами, пахнущий маслом и колбасой, пять тысяч рублей оставленные родителями на столе.
Следом появился Артём. Он шёл неспеша, с каменным лицом статуи, готового к любым испытаниям. На плече болтался старый армейский рюкзак на плече, а в руке, он нёс заготовку для лука.
– Прибыл, – буркнул он, швырнув рюкзак на скамейку с таким видом, будто это была амуниция спецназа. – Вань, надо на рынок сходить. За тушёнкой. Дома шмонал – ничего не нашёл.
За ним, пыхтя и волоча огромную, доверху набитую авоську, вошел Роман. Его лицо пылало от натуги.
– Всё, вроде бы всё, – облегчённо выдохнул он, окидывая взглядом свои пожитки. – Верёвка, клеёнка, спички в пакете, чтобы не отсырели, и картошка…
– Молодец, – Иван одобрительно хлопнул его по плечу и снова полез в карман за помятым списком. – Но картошку-то Артём брать должен был.
Роман лишь отмахнулся, давая понять, что не стоит забивать этим голову.
– А ты, – Иван пробежался глазами по списку и поднял голову, – ты должен был взять аптечку.
– Ванька, я забыл! – шлёпнув себя ладонью по лбу, воскликнул Роман.
– Как забыл?! – голос Ивана резко повысился. – Ром, это же одна из главных вещей! Без воды помрешь, а без аптечки можешь остаться калекой! Сейчас же беги домой!
– Да Вань, сейчас… – начал было Роман
В этот момент подошли Степан и Глеб, замкнув круг. Степан, не теряя ни секунды, с деловым видом принялся изучать снаряжение.
Иван, глядя на Ромку буркнул:
– Ладно, завтра не забудь захватить с собой.
– О-па! – радостно крикнул он, щёлкая каблуками и отдавая честь. – Личный состав в сборе! А где знамёна? Где боевой дух?
Неподвижный и молчаливый, Глеб стоял в стороне, сжимая в руке потрёпанную армейскую канистру. Его отрешенный взгляд был устремлён куда-то далеко, за пределы происходящего.
–Так, – Иван обвёл собравшихся твёрдым, командирским взглядом. – План в силе. Глеб, Степан – ваша задача: взять рюкзаки, канистру, топор и всё остальное барахло и скрытно перебазировать в Штаб. Мы с Артёмом и Ромой идём на рынок.
– Тём, выручай, одолжи свой «Викторинокс»! – тут же вступил Степан. – А то Ванькина «Белка» люфтит так, что может развалится.
– Ну Стёп… – Иван покраснел и с досадой отвернулся – Хватит уже мой нож пинать.