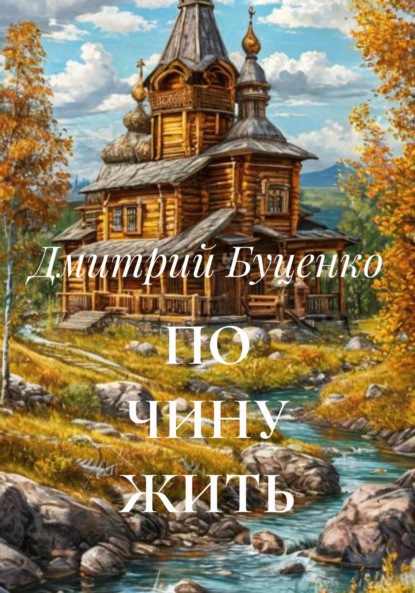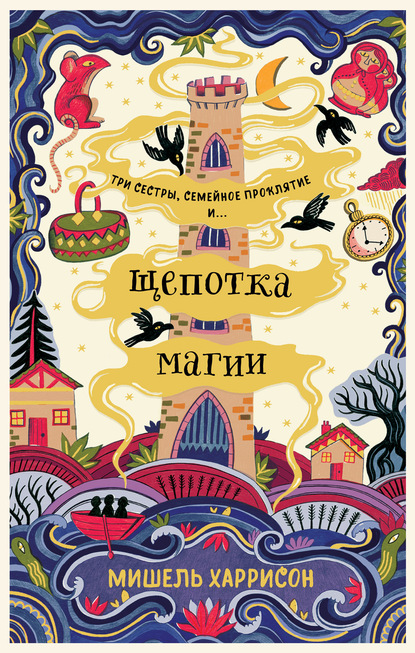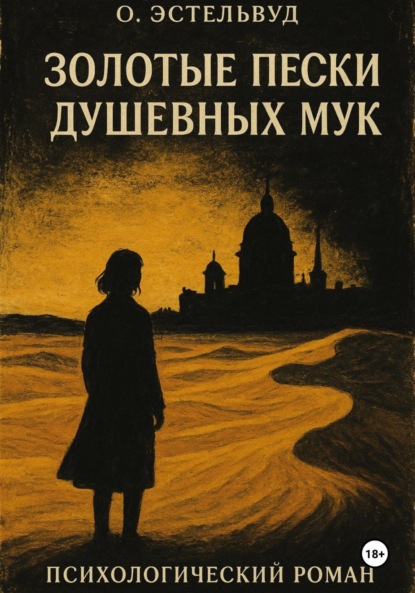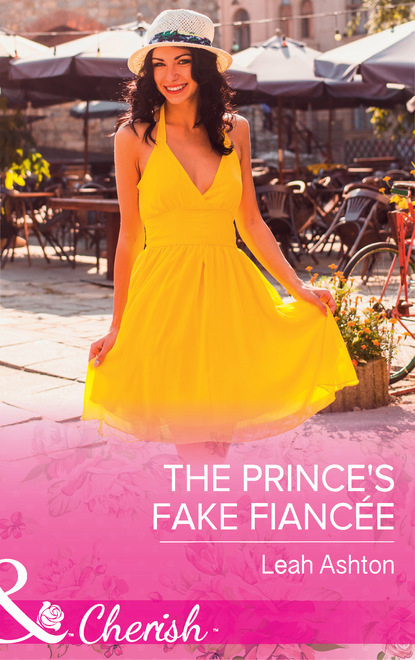- -
- 100%
- +

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Каждое утро, ещё не старый, Андрей Леонтьевич Шубин просыпался до рассвета от собственного сердечного стука. Не надеясь заснуть, вставал, одевался и выходил побродить по безлюдным тёмным улочкам острога. Пройдя от воеводского дома к храму, затем к воротам, он поднимался на стену и направлялся на раскат угловой башни, выходящей на реку. Повелительным жестом отсылал с той башни караульного и, повернувшись к запертой льдом реке, то тревожно вглядывался в окружающие острог белые окоёмы, то внимательно рассматривал ещё крепко спящую вверенную ему государем крепость. Со своего поста ему хорошо видно, как бродят по стенам сонные и продрогшие стрельцы; как загораются лениво в посадских избах маленькие окошки; как кузнец разжигает в горне дрова – свет от пламени вырывается через открытые ворота на снег у кузни и пляшет по нему озорными бликами.
Всего несколько месяцев как он назначен воеводой в Алексеевский острог, но уже видел прилежащие земли собственным наделом – местом для стяжания достатка. К несчастью приходилось мириться с тем, что вся его власть была лишь отражением могущества русского царя на этом отдалённом участке Сибири.
Больше сорока лет, с похода донского атамана Ермолая Тимофеевича, Россия упорно вгрызалась в Сибирские просторы. Перевернувшая всю страну Смута несколько замедлила движение, но с восшествием на престол новой династии и установлением порядка, освоение этих безграничных земель продолжилось. Москва остро нуждалась в средствах, и Сибирь виделась неиссякаемым их источником.
Всё посылались и посылались отряды для «приискания новых землиц». Для контроля и обеспечения изнурительных походов строились деревянные крепости – остроги. И чем дальше заходили отряды, тем больше появлялось и острогов. На какое-то время они становились остриём копья направленного вглубь далёких и опасных земель, но всегда ненадолго – отряды всё шли и шли, остроги всё строились и строились. Одним из них суждено было стать городами, а другие, сгнившие или сгоревшие, забывались.
Алексеевскому острогу было лет семь. Когда-то в этих местах устроил себе спасительную пустынь старец Макарий. К нему подселилось ещё несколько таких же, ищущих успокоения, неприкаянных душ. Недалеко от них, подыскав место повыше, промышлявшие соболем охотники, поставили первую зимовку… И вот уже вместо неё, на левом берегу Енисея, в десяти вёрстах выше устья реки Кемь, недалеко от другой речки – Мельничная, возвышается целый острог. Поначалу его сложили наспех – страшились нападения тунгусов; пяток домишек и стена, всё из непросушенного леса – он быстро гнил, потому пришлось перестраивать. Взялся за это воевода Яков Хрипаков, которого после и сменил Андрей Леонтьевич.
Теперь это солидная крепость с постоянным гарнизоном около ста пятидесяти стрельцов с пищалями и даже шестью пушками. Прямоугольное строение, двести саженей в длину и семьдесят в ширину. Стены, устроенные из двух рядов брёвен между которыми засыпана вынутая из окружавшего острог рва земля, имели три сажени в высоту и полторы в ширину. Две угловые башни с раскатами – площадками для стрельбы на их вершинах. В каждой из длинных сторон также встроены башни с воротами и тоже с раскатами.
Острог стал защитой для местных пашенных крестьян и мастеровых, рыбаков и охотников, промысловиков и торговых людей. Стал местом отдыха от походов и подготовки новых. Стал то́ржищем и таможней. Для всего окрестного люда он оказался всем, чем была тогда Россия в этих диких местах.
Вот бы ещё колокольный звон на всю округу, чтоб на службу звал и возвещал – новая сила закрепилась основательно, а значит пришла сюда надолго!
Высокими бревенчатыми стенами острог врастал в землю остяков – так стали называть немногочисленное местное население пришедшие сюда русские промышленные люди, не делая разницы между остяками обскими, нарымскими и енисейскими. Сами же остяки иногда называли себя кетами или югами, но чаще наматами, алчынами, хонегитами, хетянами, замшатами и другими именами своих родовых князцов. Охота да рыбалка – вот чем жили местные остяки. Ещё железо делали – хоть и плохонькое, оно было в цене и, как большая редкость, для обмена годилось. Понятное дело и пушнину добывали, но в большей части для себя. Правда если выпадала возможность поменяться – не отказывались.
С приходом русских остяки немного повоевали с ними под предводительством князца Намака, после уступили и пошли под могучую руку Белого царя.
Пришельцы сперва в намацких землях поставили острог, чтоб было кому за волоком с Кети на Кемь приглядывать, а через время уже и на берегу Енисея поднялась новая крепость. Остяки смирились с приходом новых людей, расселявшихся по их родной тайге, перекапывавших землю под свою пашню и собиравших всё пушное зверье, что здесь водилось. Ужились, сторговались. Многие крестились. Стали наниматься в отряды для разведки новых земель проводниками или толмачами, да и свой отряд могли собрать для какого выгодного совместного предприятия. Пахать, правда, не умели… и не хотели – так рыбалкой с охотой и промышляли.
Часто, в эти земли приходили из-за Енисея тунгусы. Приходили, чтоб пограбить. Жили те тунгусы несколько дальше: на правом берегу Енисея по берегам его притоков, прозванных Нижней, Подкаменной и Верхней Тунгусками. Так же, как и остяки, тунгусы ловили рыбу, охотились. Ещё кочевали верхом на оленях. Остяков не любили – считали слабыми, потому многократно на них нападали. Русские же взялись защищать остяков, а те им за это соболя и другую пушнину по тайге собирали – ясак называется. С тунгусами же ещё только предстояло договориться.
Андрею Леонтьевичу досталась совсем непростая служба. Не о таком он мечтал, сидя вторым воеводой в солидной Тюмени. Там у него и людишек поболе, и чести от важного места тоже немало, а здесь – Алексеевский острог, его пограничная служба, стала для Шубина пудовым ярмом на холёной шее, требующим не ленивого участия (к которому он всегда стремился), но полного погружения во всё каверзное закулисье, обычно царящее в таких местах. И вблизи большого начальства не радели люди о государевом деле! Что уж говорить – когда до него больше чем полторы тысячи вёрст (и это если по прямой), а если идти по всем, безбожно петляющим речкам – в полгода не добраться! Оттого-то и жили покорители земли сибирской, придерживаясь своих, не всегда согласных с государевыми, законов и правил. Разные люди собирались в далёких землях, разными дорожками приводила их сюда жизнь, но такова человеческая привычка, от всего искать пользу и к любым тяготам приноравливаться. Так всегда и все – кем бы ты ни был, к какому сословию ни приписали бы тебя государевы люди: пашенные, служилые и уж тем более казаки – ищут прибытка и благоустроенности – частенько способны для своих нужд раздавить чужое счастье.
Казаки… Вольный народ, сбивавшийся в бесшабашные ватаги и кочевавший по Сибири в поисках приработка. В казаки не шли, в казаки бежали… от оброка и барщины, от долгов, от притеснений, от безнадёжной бедности. Бежали от преследования за городское воровство и становились ворами лесными; бежали от земельной зависимости и становились зависимы от атамана; бежали от голода, но голодали и мёрзли в тяжёлых походах… Бежали не к лучшей жизни – бежали от той, которая не сложилась!
Не часто бывало, что новая жизнь у них счастьем набралась. Случалось, понятно, казаки и землю, и семью при остроге заводили; землю в наём крестьянину, жену под присмотр, а сам в поход – если он в поход не ходит, то какой он казак? Тогда он крестьянин – будет хлеб сеять да оброк платить! Но чаще так и помирали безземельными бобылями – убитые в бою или драке, загнувшись от раны или болезни. Где-то в России были ещё и городовые казаки – нанятые в специальные отряды в подобии стрелецких. Но то в России, а здесь – Сибирь! Здесь своих стрельцов снарядить бы да прокормить, а потому, чем дальше вглубь необъятных земель, тем меньше казаков городовых и тем больше «воровских», которые и своих торговых потрясут и остяков с тунгусами тоже, а всё, на большой дороге отобранное, стащат в острожные кабаки, да там же и прогуляют.
При Алексеевском остроге прижилась ватага дерзкого атамана Василия Новоторжанина. Нанимались к отрядам сборщиков, в охрану, промышляли мелкими набегами на отдалённо живущие и оттого ещё необъясаченные роды. Силой были большой, плохо управляемой из острога. Поздей Фирсов, стрелецкий сотник и соратник предыдущего воеводы Якова Хрипакова, пока что с казаками справляется, потому как видит друг от друга зависимость – маловато для дальнейшего движения силёнок, без такого удалого народа с государевой работой не совладать! И всё же Андрей Леонтьевич оправданно страшится – придёт время и натерпится он от этой братии! Но до времени приходилось мириться.
В Сибири всегда была беда с людьми, а точнее с их недостатком, потому как бесконечные земли растворяли в себе любое число приходящих, оттого воеводы старались даже с неуёмными казаками договариваться – негоже вооружённым людишкам по тайге без присмотра шататься, надобно их к делу пристроить. Атаманов верстали в службу, назначая им оклад зерном и мехом, иногда монетой. Ватаги же нанимались от случая к случаю для опасной работы. Вот так и становились казачки неотъемлемой частью упорного движения России на восток.
Но одними казаками много дела не сделаешь, с ними бережение завсегда нужно – ну как, разбегутся или своих побивать начнут? Отправлялись в остроги разные государевы люди – служилые. Таких не много всегда, но служилый люд приписывался непременно к каждому новому острогу! Кто бы ни построил его, в какой бы далёкой земле ни заложили крепость – сразу направлялись туда стрельцы да подьячие. Закладывались таможенные да съезжие избы, хлебные и пушные амбары. Да всё под запись, а отписки о сделанном – в Томск или Тобольск посылались. Тут же начинали с окрестных земель ясак собирать и в новые земли отряды для разведки отправлять. Стрельцы острог и обозы охраняли, в походы с казаками ходили (чтоб присматривать за ними и о царском деле радеть) бунты усмиряли. Подьячие всё записывали да считали.
Указами разными служилые определялись «годовальщиками» – место их службы должно было меняться каждые год-два. И снова Сибирь беспредельная диктовала свою волю: чем дальше от большого начальства, тем чаще служилые приживались на одном месте, менять-то особенно не на кого. Воеводы тоже были из «годовальщиков», вот их хоть как-то переставлять удавалось (чтоб разные ходы к мздоимству не узнавали и тем души свои не пачкали), а остальные… уж как придётся!
И вот ещё беда: находившийся на краю земли острог нуждался в пропитании. Доставка хлеба на такие расстояния была трудна и рискованна – на пути через многие остроги, заснеженные леса или бесконечные реки, кои в основном и были предельно удобными дорогами, зерно и мокло, и тонуло, да и разворовывалось тоже. Сподручнее всего выращивать его поближе к острогу. Для того переселялись сюда государевы крестьяне (землю пахать, хлеб растить и промышленный люд кормить). Они и заложили в округе деревеньки, часто совсем небольшие, в три-четыре двора, иногда и того меньше. Те, что побольше, раскинулись под стенами острога и стали продолжением посада, остальные же расположились так далеко, что рассчитывать на скорую подмогу, в случае какой беды, их жителям не приходилось. А что делать? В Сибири землю от скал да лесов большим трудом отвоёвывать надо – вот и приходится крестьянину находить свою пахоту, где случится, хоть и далеко от надёжного острога и поселяться к ней поближе. Очищенную от камня и корней пашню, как водится, подьячий сразу к государевым землям приписывает. Крестьянин же ставит дворик, заводит нехитрый заводишко – сохи да бороны, грабли, вилы, серпы да косы. Животинку разную, огородик нажива́ет. Рядом другой крестьянин поселяется,… Может вот так, неспешно, крестьянским трудом и прирастала Россия Сибирью?
Большое и не простое дело – сибирский острог. Над ним ставили воеводу, по возможности двоих, чтоб приглядывали друг за другом, а коль достойных людей недоставало, то обходились одним. Для Алексеевского острога как раз недоставало, потому, назначенный на смену предыдущему воеводе, Андрей Леонтьевич становился здесь безраздельным властителем – пока и его не заменят.
2
Несмотря на раннее утро у съезжей избы собрались крестьяне. Дело было важное, и они ждали прихода воеводы, зная его странную для большого начальства привычку начинать работу с рассветом. Заметив его, галдевшие, мужики замолкли и, расступившись, пропустили Андрея Леонтьевича к крыльцу. Тот важно прошагал мимо, смиренно склонившихся в поклоне людишек, поднялся по высокой лестнице на крыльцо и скрылся в сенях. Рванувшие было, за ним просители были остановлены в дверях вышедшим навстречу подьячим:
– Куда полезли? – зарычал он, широкой грудью выталкивая мужиков наружу. – Ждите ещё. Позже примет.
Зайдя внутрь, воевода несколько раз топнул, сбивая снег с сапог и, пройдя в угол, грузно уселся на лавку:
– Ты, Максим Максимович, только при мне с самого утра при делах? Или всегда таков? – воевода распахнул шубу.
Печь только начали растапливать, но с утреннего мороза ему уже было жарковато.
– Что за люди собрались?
– Ты ж на той неделе распорядился чтоб из Нижних Подгородень люди в Верхние переселялись – так они не хотят. Пришли просить, чтоб воевода смилостивился и оставил их при своих домах, – уже сидящий за своим столом подьячий говорил тихо, не отрываясь от чтения бумаг.
– Вот народ непонятливый. Один год, что ли их деревеньку затапливало? Яков Ефимович сказывает, что только в прошлую весну Бог миловал, а так постоянно заливает. Всё одно страшатся, что полезное для себя сделать.
– Им бы с осени следовало переселяться. Как хлеб смололи, так и за постройку браться. А ты зимой их с места сорвать хочешь, вот они и бунтуют.
Подьячий по-прежнему говорил тихо, но упоминание о возможном бунте тревожило Андрея Леонтьевича. Бунт в остроге – воеводское упущение. Но в чём же его вина? Он только перед Рождеством до острога добрался.
– Им непременно из-под батогов делать надо? – воевода занервничал. – Сами не думали на другое место перейти? На всё им указ нужен. А хлеба сколько тонет? Потом за ним куда идут? В острог идут. Ещё возмущаются: чего это воеводы всё зерно в амбар собирают? Будто не для них стараемся – государево дело делаем! А скотину поберечь? Половодье начнётся – сколько её потонет! Они же сами скумекать не желают. А теперь что: помилуй, воевода, не гони с насиженной землицы? Оно понятно – прижились, приспособились. Каждый год как-то переживают. Потом недоимок понабирают, землю бросают и в бега. Но ведь есть же средство улучшить положение.
Выговорившись, Андрей Леонтьевич успокоился и, вытянув одну ногу вдоль лавки, кивнул подьячему:
– Ладно. Зови мужичьё. Сейчас я им насыплю.
Подьячий вышел в сени. Оттуда послышался скрип открывшейся двери и его низкий спокойный голос:
– Заходи, мужички. Только не все разом, погодя заходи.
Крестьяне, сняв шапки, крестясь и осторожно толкаясь, втиснулись в избу и предстали, смиренные и подневольные, перед важно сидящим воеводой.
За окном зимнее солнце уже вовсю освещало острог. В открытые ворота входил очередной обоз. Острожные обитатели медленно стягивались к нему.
С полчаса разговора и крестьяне, недовольно поругиваясь, покинули съезжую избу:
– Ишь, ты, – ворчали они, – тягло на этот год поднять! Уж лучше дворишки перенесём.
– Потрудимся робяты?
– А то… вестимо потрудимся.
– Будто его зерно для посева волнует. Крадёт он наше зернишко-то. Крадёт, ей-ей, да вино из него курит и в кабаке нам же сбывает.
– А подьячий, чтоб его черти жарили, подсобляет…
– Да тише вы, курьи головы, со двора бы сперва сошли…
Подьячий смотрел за ними в мутное окно, убедившись, что они покинули двор, повернулся к воеводе и улыбнулся с прищуром:
– Крестьянин хоть и прост, но не глуп. Он половодье не из лени терпит – ему к ловушкам ближе. Вокруг острога соболь давно упромыслился, но один-другой всё одно попадается. Так они из-за этого каждым кулемником дорожат. Без присмотра оставлять не хотят – приработок какой-никакой. В этих местах каждый перелесок меж собой поделили. Вот заставил ты их в другое место переехать, а там тоже давно всё поделено. И что ж им теперь?
– Пусть пашней занимаются, – буркнул воевода, – за соболем есть, кому ходить.
Подьячий не переставал посмеиваться:
– Это ты соболя сорока́ми считаешь, а они если одного вскладчину возьмут, то и радуются.
– И в кабак его тащат.
– Не без того… – кивнул Максим Максимович.
– Ладно-ладно тебе, заступничек…
Андрей Леонтьевич встал и выглянул в низкое оконце:
– Яков Ефимович сегодня уходит?
– Завтра. Вон обоз из Маковского пришёл. Завтра назад – с ним и пойдёт. Фирсова с собой берёт для охраны. Никак не расстанутся – давние приятели.
Подьячий сел за свой стол и вновь уткнулся в бумаги.
Максим Максимович Перминов, много лет назад с отрядом Петра Алексеева и его помощника Богдана Рунина, строил на Енисее ещё первый острог – тогда он назывался Тунгусский. Как поставили его подьячим в те времена, так и остался он на этом месте. Всё что в остроге было записано всё проходило через его ясные очи. Своё дело он знал отменно. Каждая, даже самая незначительная грамотка, вычитывалась им, затем аккуратно укладывалась в одну из кожаных сумок. Не часто встретишь в Сибири даже просто человека грамоте обученного, а уж способного к дотошной бумажной работе и подавно. Правда, внешне Максим Максимович не походил на обычного приказного волокушу. Высокий, богатырского склада, с резким взглядом чёрных глаз из-под густых бровей. Некрикливый, рассудительный. Широкая кисть руки на навершии клыча. Ему бы стоять на носу – несущегося в бескрайние дали – коча, свободной рукой указывая соратникам путь… да как-то не складывалось. Вместо этого Максим Максимович, легко сходясь с любым назначенным начальством, держал под своей рукой всю их деликатную деятельность. Кто, сколько, чего взял, куда направил – Максим Максимович всё знал и умел правильно записать, чтоб всё без изъяна считалось. Из острога выбирался не часто. Один раз в Тобольск большой ясак сопроводил, да ещё на Маковский острог и на Кетский иногда хаживал.
Когда в Алексеевский острог приехал Андрей Леонтьевич, многоопытный подьячий быстро сдружился и с ним: завели делишки совместно. Каждому нужен такой помощник, чтоб все тонкости знал, но не у каждого он есть. У Алексеевских воевод был Максим Максимович Перминов. Тем более, что подьячий не фарисействовал – ну, есть у начальства слабости, а кто ж безгрешен-то? Яков Хрипаков, к примеру, государевы деньги норовил как свои пользовать, а Максим Максимович так над бумагами старался, что и следа не найти, хоть в «друзьях» у Якова Ефимовича и не значился. Правой рукой у Хрипакова был стрелецкий сотник Поздей Петрович Фирсов, человек суровый и отчаянный – Якову Ефимовичу под стать. Оба они любили решить дело хорошей дракой. Если недоимка или ещё что: недолго раздумывая, собирался отряд и силой добивался своего. Подьячий же не просто не мешал Хрипакову «воеводствовать», но и по мере способности тихо его прикрывал.
Андрей Леонтьевич был не таков – в потасовку не лез, стремился договорами дела решать. Да и прямо руку в казну не запускал, но до самой казны деньга могла и не дойти. А Перминов, знавший в остроге все «ходы-выходы» – ему в помощь. Шубин видел его за это, своим главным подручным. Кем считал Перминов нового воеводу?.. Не больше чем очередным начальством… может потому оно сменялось, а Максим Максимович оставался на своём месте.
Андрей Леонтьевич вновь сел на лавку под иконы:
– Яков Ефимович уж задержался в остроге. Если б не этот слух о серебре, то и не спровадили бы его. Носится по округе как чумной, а люди ему не верят. Не идут за ним. Неужто он думает, что в Москве ему отряд дадут? – воевода покачал головой, рассматривая свои холёные пальцы рук. Андрей Леонтьевич, не в пример сибирскому люду, был гладкий, белотельный, чем очень гордился, считая, что именно так должен выглядеть потомок древнего венецианского рода, коим он, несомненно, и был.
Максим Максимович не отрывался от своих бумаг:
– Отряд ему непременно дадут. Серебро в России добывать – дорогого стоит. Он им передаст все, что от Солина услышал – те и возрадуются. И вернётся Яков Ефимович к нам с большой силой! И людей с собой приведёт. Это теперь не идут за ним, потому что он не воевода и припасы своими силами надобно собирать, а когда придёт с обозом, с оружием, запасом, да со стрельцами – вот тогда людишки и спохватятся. Перво-наперво торговые засуетятся. А сейчас что? Сейчас промысел закончится, они все в тайгу рванут – рухлядь скупать подешевле. Им пока никакого резона с Яковом Ефимовичем идти, когда есть пожива вернее.
Максим Максимович имел манеру говорить, не глядя на собеседника. У него как будто всегда был для этого повод – то сапоги свои разглядывает, то словно вокруг ищет чего, то вдаль задумчиво глядит, а чаще свои бумаги перебирает. Прямо он смотрел редко.
– Твоя правда. Пойду я, Максим Максимович, – воевода встал и направился к двери. – Зайду к отцу Ионе. Мы то с тобой всё о делах, а о горнем, когда думать?
– Отец Иона опять жаловаться будет: живёшь ты не праведно, добро зря стяжаешь, не пригодится тебе оно и всё такое…
Андрей Леонтьевич засмеялся:
– И в чём он не прав? Всё по слабости своей, по слабости, но с храмом надо помочь. Это мы теперь в остроге сильные – с нас и спрос. Челобитную о пополнении церковной утвари мы с тобой отправили? Отправили! Вечером ещё одну напишем: теперь уж и от острожного люда. Отправим с Яковом Ефимовичем. Колоколенку думаю поставить рядом с храмом. Тем от грехов и прикроемся – Господь же всех любит? Всех! А праведную жизнь оставим монахам. Пойду уж… – перекрестился и вышел.
Острожный храм был закончен ещё в прошлом году и освящён, в честь Введения Пресвятой Богородицы. В нём уже служил, присланный из Тобольска, чёрный поп Иона, но ни книг, ни икон, ни, тем более, хотя бы одного колокольца, в нём всё ещё не было (звонница есть, а колокола нет). Андрей Леонтьевич, человек в меру своего времени, набожный, увидел в этом храме толику любимой Москвы, и, по мере скромных воеводских сил, принялся трудиться над его устроением.
3
Пришедшие с обозом из Маковского острога стрельцы расположились под стеной у самих ворот. Спокойно, не торопясь, они привычно облокотили на стену пищали, а сами, усталые, расселись каждый у своего оружия прямо на снег. Приведший стрельцов десятник Фомка Федулов, оставив своё оружие под присмотр одного из своих подначальных, высокого седобородого мужика, рванул искать воеводский двор, чтоб доложиться о приходе подмоги. Воеводы считали нужным почаще отписывать в Тобольск о недостатке людей. И по мере возможности приходило пополнение. Все дороги сюда шли через Маковский острог, построенный в землях остяцкого князца Намака. Когда-то именно Маковский острог был главным в этих местах, но с постройкой Алексеевского, он стал помаленьку загибаться. Алексеевские воеводы были немного «позубастее» что-ли?.. Маковский держался только за счёт того, что рядом с ним лежал волок – место, где большие сибирские лодки, кочи да струги, перетаскивали с реки Кеть на реку Кемь. Для этого в удобном месте держали запас обструганных брёвен, верёвок и другого завода, где-то подкапывали, где-то подсыпали. И поставили острог, чтоб за волоком следить и оборонять его.
Острожные жители понемногу подтягивались поглазеть на вновь прибывших, разжиться какими-то новостями. Пришедшие с обозом сани торговых людей уже отправились на гостиный двор.
Зима в этот год уж совсем тёплая. Яркое солнце, отражаясь от снега, слепило собравшихся у ворот людей, которые осматривали новых стрельцов, знакомились с ними, судачили. Послали в кабак за сугревом. Вскоре появилось пара кубышек – стало веселее!
Служивые были в основном свои – сибирские. Кто раньше в Верхотурье годовальничал, кто в Мангазее. Затем всех собрали в Тобольске и уж после пригнали сюда. Один только стрелец, лет тридцати, коренастый, какой-то весь нескладный – кривоногий, немного косолапый, что ли – так он пришёл из самой Москвы.
– А ну-ка подтягивайся к нам, – трепали его подошедшие крестьяне, – угостись-ка нашенской… – и подавали ему украдкой из-за пазухи, видимо, какую-то особенную наливку.
Пили, морщились, смеялись.
Мимо них, в ворота, тащил свою волокушу сгорбленный иночек:
– Все живые-здоровые добрались? Ну и, слава Богу, – улыбнулся он новым острожанам и, не останавливаясь, протащился дальше.
– Отец Иона, – кивнули в сторону уходящего батюшки мужики.
Стрельцы освоились, разговорились.
– Гляди, замо́к какой нарочитый, – кивал подошедшему из слободы кузнецу седобородый стрелец на отдельно стоящую у стены пищаль. – Ты чай такой и не видывал? Да не хватай ты руками – так смотри.