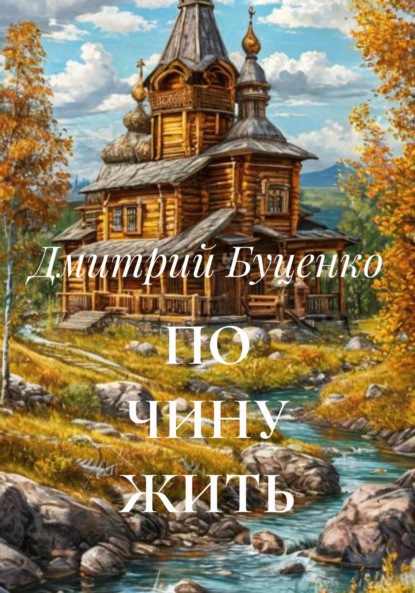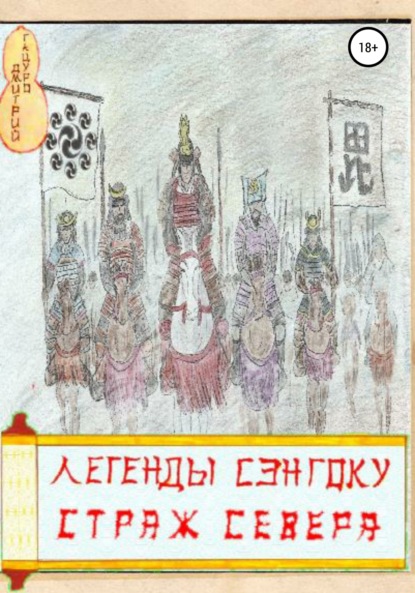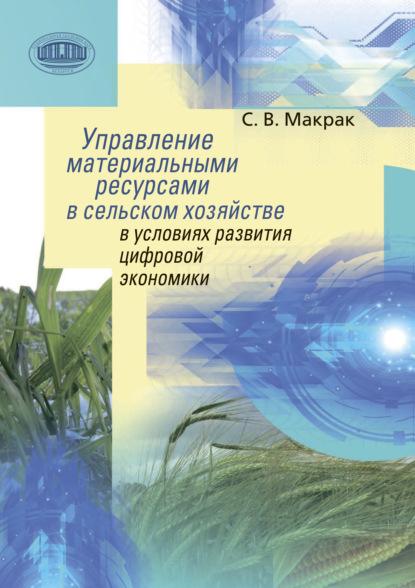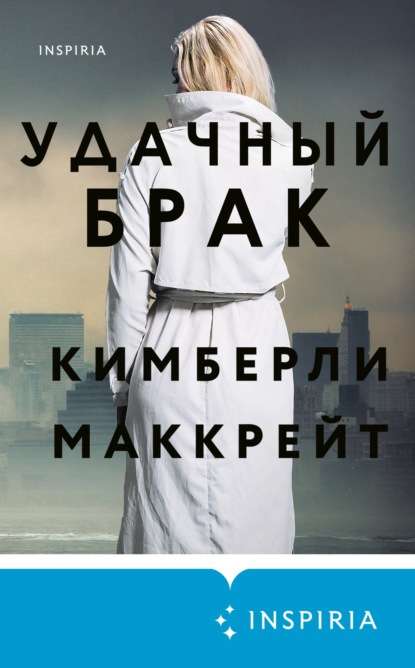- -
- 100%
- +
– Да, что я, замков не видывал? – обижался кузнец. – У нас-от такие стреляла хаживают, почище ваших будут.
– Тоды глянь, вон у Елески на пищальке винт совсем стёрся. Сообразишь поправить? Елеска! – крикнул седобородый тому стрельцу, из Москвы, – А ну, покажь, что за беда у тебя.
Тот подхватил за ствол своё оружие и подал его кузнецу прикладом вперёд. Кузнец осмотрел замок:
– На курке что ль винт стёрся? А как-от ты фитиль зажимаешь?
– Та, вдвое сворачиваю… Иногда и втрое…
– Сделаю! – уверил мастер, – заходи-от ко мне на кузню, поправлю… Ничего!
Так за разговорами и не заметили приближающиеся из глубины острога звуки погони. Какой-то человечишка отчаянно метался между заборами, стараясь, то ли запутать преследовавших его стрельцов, то ли найти выход. Сперва он бежал в сторону церкви, чья маковка возвышалась над всеми строениями острога. Затем, видно поняв, что та находится в углу и ворот рядом с ней не предвидится, рванул вдоль длинной острожной стены к встроенной в неё башне, справедливо полагая, что выход там, но навстречу ему уже, сломя голову, неслись озлобленные люди. Тогда человечишка повернул во дворы. Устремившись напрямик, он забежал в какие-то ворота, оказалось – это стрелецкая изба. Пришлось, не останавливаясь, бежать через двор и перелазить забор уже с другой стороны. Догоняющих становилось больше, а крики преследователей явственнее. Но за последней постройкой виднелась ещё одна башня – ворота там – спасенье близко! Беглец буквально перепрыгнул через очередной забор (в этот раз – забор съезжей избы), помчавшись вперёд, плечом вывалил доски другого и кубарем выкатился на площадку перед воротами острога.
Именно в это момент кузнец Осип Варламов возвращал осмотренную пищаль хозяину. Крики: «…убёг…, держи!». Бегущие с разных сторон люди! Топот караула, сбегающего с башни по деревянной лестнице! Человечишка вскочил. Кинулся к открытым воротам – осталось совсем немного…
Стрелец двумя руками взял поданную пищаль за ствол, сделал шаг назад и, развернувшись, наотмашь, саданул беглеца прикладом точно чуть ниже шеи. «Ы-ых!» – вырвалось у того из груди, и он грузно свалился на спину. На него тут же навалились подоспевшие преследователи, заломили за спину локти и давай их вязать! После попинали немного – может, для порядка, а может, от обиды, что бегать заставил.
Теперь можно и рассмотреть беглеца: черноволосый, безбородое лицо, обычные для местных раскосые глаза и высокие скулы. Нараспашку надетый тулуп из хорошо выделанной светлой шкуры украшали нашитые по бортам раскрашенные деревянные бусы. Под тулупом виднелся странный передник. Не по-остяцки одетый человечишка.
– Это Ялым, – сказал подошедший огромный мужик с перекошенным синим шрамом щекой (на месте шрама борода не росла, оттого здоровяк выглядел ещё уродливее). – Из тунгусов он, в аманатах у нас. Знатный побегушник! За ним присмотр особенный нужен. Глядите, что он с вашим десятником сделал.
Рядом с мужиком стоял Фомка с запрокинутой головой и держался за свой нос.
– Я его просто сразу не заприметил… он из-за угла выскочил и треснулся об меня… если бы я его увидел, вот тогда уж … – гундел Фомка, в своё оправдание.
– Да будет тебе жалобиться, – посмеивался здоровяк, – Ялым сегодня не одного тебя приложил. Васька Сумароков, что ему харчеваться принёс, тоже с таким носом теперь красоваться будет. Вы же стрельцы-молодцы умишком своим кумекайте: аманаты – это тоже ваша забота. Им бежать всегда есть куда.
Пашенные мужики при появлении этого здоровяка тихо-тихо отошли от собравшейся толпы и скрылись за острожными воротами.
– Я здешний сотник. Зовите меня Поздей Петрович, – здоровяк повернулся к стрельцу и, видимо, желая проявить своё расположение, хлопнул его по спине, да так, что тот аж зубами клацнул.
– Ты что ль к нам из Москвы пришёл? Я сам оттуда. В стрелецкой слободе жил, что за рекой. Видел я, как ты его прикладом приголубил. Хвалю! Быстро сообразил! Сибирь соображалки требует. Будешь так дальше служить, может и выйдет из тебя что.
Затем повернулся к десятнику:
– Людей собирай да к Стрелецкой избе веди – там расположитесь. Полусотник придёт, Фёдоров Васька, разверстает вас по службе – кому караул какой, кому ещё куда. Ты, Фомка, Солина Терентия найди. У него десяток без десятника мается, к нему во вторую полусотню и запишешься. Ну, бывайте… – и прямо через пролом в заборе направился в съезжую избу, на крыльце которой Максим Максимович, привлечённый криками, наблюдал за нежданным представлением.
Фомка, одной рукой продолжая держаться за нос, взял в другую руку ту самую пищаль с нарочитым замком и кивнул стрельцам:
– Подхватывайте вещички и айда за мной, – после усмехнулся Елисею. – Видишь, как бывает: в Тобольск тебя в кандалах привели, а теперь вон – сотник хвалит.
– Да ну тебя… – отмахнулся Елисей, навешивая за спину котомку, накидывая пищаль на плечо. Свободной рукой подхватил единственный на весь отряд бердыш (зачем они тащат этот большой, не очень удобный топор с самого Тобольска было не понятно, но Фомка настаивал, что бердыш им необходим жизненно).
Стрельцы разобрали оружие, подняли торбы и зашагали по утоптанному снегу за своим десятником. Осип кузнец проводил их взглядом, вздохнул и пошёл через ворота в посад, где много лет назад он поставил свой двор и кузню в нём. Караульные вернулись на стену, и острог снова зажил своей жизнью.
Сурова и часто неприглядна эта острожная жизнь. Аманаты – случай не особенный. Коль не желали местные ясак по-доброму платить, брали из семей родовой старши́ны людей в тали или иначе в аманаты – заложники. Кого силой в поло́н забирали – детей или братьев иногда и жён, до времени пока князцы на сговор пойдут, а кого те по согласию отдавали. Могли о перемене условиться – в этот год одни в остроге поживут, в другой год новых аманатов подвозите.
«…аманатов… в остроге велети кормити государевыми запасы и беречи накрепко, посадя их на особом дворе, где пригоже за сторожи, чтоб они из ocтрогу никуды не ушли…». Жили такие пленники в каждом месте по-разному. Где – на правах почётного гостя: с достойной стражей, со свободным выходом-входом, и харчем с воеводского стола, а где как шпынь ненадобный – под замком, а то и в кандалах… и прокорм тем, что добрые люди подадут. «Переимали нас, сирот твоих, в аманаты, в твоей государеве избе… и морят нас голодною смертию безвинно…». Здесь уж от воеводской воли и возможностей острога много зависело, да и родне надлежало сговорчивей быть – не подбивать людей на бунт, не стеснять в движении торговые караваны и ясак, чем договорено, давать… Резко? Строго? Не без того, но так и жили – ни себя, ни чужих не жалели. Не для праздности в такой дали крепость возводили – для большого Государева дела!
Поздей Петрович, поднялся по ступенькам к подьячему, остановился рядом и опёрся локтями на ограду крыльца:
– Видал? Ялым уж который раз бежит. На цепь сажать его надобно – почто сняли?
Сотник помолчал, будто ждал чего-то. Затем кивнул в сторону, где в другом углу острога за остальными постройками стоял большой воеводский двор:
– Этот тюфяк думает с его братцем полюбовно столковаться? Что молчишь, Максим? Задумали что? Уж мне бы поведали – не последний же человек.
– Есть мыслишка.
– Сейчас в посад схожу, у Осипа щипцы возьму. Погорячее возьму и стану, этими самыми щипцами, из тебя ответы тянуть. Долго тянуть – вот, сколько ты мне теперь отвечаешь, столько и я буду тебя тиранить!
– Ты ж поутру уходишь? – подьячий, будто не заметил колкости. – Вернёшься, и всё тебе откроем, а пока не готово ещё. Не о чём поведать.
– Вот не знал бы тебя… решил бы, что дурак ты набитый, а так… Верю – и вправду задумали что-то. Я провожу Якова Ефимовича аккурат до Оби и стрелой назад. В две-три недели обернусь – вот тогда всё узнаю. Без меня в остроге неча дела заводить. И ещё вот… Ты уж жди меня – будет к тебе разговор большой… – несмотря на Перминова, сотник положил ему на плечо руку и, спустившись по скрипучим ступеням, прошёл прочь со двора. Мимо него, путаясь в длинных тулупах и ругаясь меж собой, спешили в Съезжую избу острожные купцы.
4
Отец Иона сидел на краю лавки у стола на снятом и подложенном под седалище, потрёпанном, тулупе и медленно попивал предложенный хозяйкой горячий узвар из собранных осенью и высушенных, душистых груш. Стараясь не проронить даже каплю, он осторожно черпал деревянной кружкой из, стоящего на столе и обёрнутого чистой тряпицей, котелка парующий напиток и так же бережно переливал его в маленькую и красивую глиняную тарелочку. Затем, держась за эту тарелочку обеими ладонями и едва приподняв её над столом, робенько сёрбал вкуснейший нектар и, закрывая, после каждого глотка, глаза, наслаждался витающим ароматом.
В доме было уютно и благостно. Где-то в сенях слышны хлопоты, а в натопленной горнице, где блаженствовал этот худенький монашек, было тихо, лишь потрескивали дровишки в печи и иногда слышно, как вздыхал во сне свернувшийся у него на коленях котик. Маленькая, коряво писаная иконка Богородицы в красном углу убрана расшитым цветами и птицами рушником; горела под иконкой лампадка. На каждом окне занавески, на лавках вдоль стены мягкие подушечки. Светлый и тёплый дом. В нём видны радения хозяйки, её забота о чистоте, удобстве и сохранении покоя.
В соседней комнате захныкал малыш, и монашек испуганно поднял голову. Распахнулась в светлице дверь и заботливая мать, бросив дело, спешила утешать своего малютку. Тот быстро затих, и она, пройдя назад в сени, будто извиняясь, улыбнулась по пути отцу Ионе и вернулась к своему занятию.
Дом большой – немало комнат, светлица, горница, подклеть. Это был дом Алексеевского стрелецкого сотника. Стараниями его молодой жены Ольги Андреевны ничто не указывало на то, что именно здесь обитал этот огромный, изуродованный шрамом буян и выпивоха. Всегда сытно, чистенько, в холод – натоплено, в жару – проветрено. Хозяйка весь день старается, работники не балуют – каждый при деле. Хозяин, коль приходит и занимает своей огромностью весь дом, сам бочком-бочком, чтоб полы не пачкать и уют не нарушить, присядет на лавку и ждёт, когда жена выпорхнет и накормит. Ну, уж во хмелю если… а то и с весёлыми товарищами, то всё им будет подано, а опосля за ними убрано. Муж на лавку уложен, тулупом овчинным укрыт, корыто под лавкой на случай какой неприятный… Не узнать Поздея Петровича, при жене!
Сейчас хозяин делами занят, дома к вечеру появится, а хозяйка острожного священника в гости позвала. Муки для просфорок ему собрала, узваром угощает. Дверь в сени снова открылась, и Ольга Андреевна тихо вошла в светлицу. Сперва, заглянула в комнату, где спал её сын, затем вернулась к столу и села напротив отца Ионы, прилежно сложив руки на столе:
– Напрасно вы, батюшка, обедать отговариваетесь. Я уж приготовила – не побрезгуйте, – улыбнулась.
– Нет-нет. Идти надо. Мучицу, что ты сложила, надо к матушке Агриппине занести – ждёт уж.
– Как Ангел ваш?
– Слава Богу! Вы оба у меня в ангелах значитесь!
Улыбнулась сотница, улыбнулся ей отец Иона, встал, снял цепляющегося когтями за поношенную рясу котика, засуетился, собираясь, когда послышался настойчивый стук с улицы в двери, и тонкий женский голос надрывался:
– Ольга Андреевна, впусти меня,… он опять начинает…
Ольга Андреевна спешно вышла в сени, плотно закрыв за собой дверь, и впустила гостью. Отец Иона слышал их тревожное перешёптывание, слышал чьё-то всхлипывание. Он не решался выйти, сел растерянный на лавку и, подложив под себя руки, закачался вперёд-назад, стараясь не прислушиваться к происходящему. Так и сидел, качаясь, когда Ольга Андреевна вошла и, немного помявшись, обратилась к нему:
– Батюшка, простите меня! Давайте вы позже зайдёте, а я к тому времени и вам припасов соберу.
– Да я и вправду засиделся – ждёт же… – отец Иона поспешно встал, вышел из-за стола, быстро втиснулся в свой тулупчик и, накидывая на плечо котомку с собранной хозяйкой мучицей, пошёл к выходу.
Проходя через сени, он встретил Дуню, дочку осевших при остроге промысловиков Чуркиных. Поднялась её семья на соболе: поначалу сами ловушки-кулемники ставили, а теперь уж и доставку ясака с нескольких родов на откуп получили. Глава семейства, Пётр Игнатьевич, набрал-прикормил отрядец из лихих людей – проворачивал с ними свои делишки; жена, Феодосия Досифеевна, большая во всех смыслах баба, не чаяла души в сыночке Фёдоре, диковатом и нелюдимом детине; и младшая дочь Евдокия – Дуня. Она-то и стояла теперь в сенях у Фирсовых, отвернувшись от отца Ионы к стене и опустив голову, тихо всхлипывала. Батюшка, было, остановился, привычно желая утешить страждущего, но под руку его подхватила хозяйка, настойчиво выводя священника из дома и далее за ворота.
– Батюшка, – умоляющим взглядом смотрела на отца Иону Ольга Андреевна и совала ему в руки его же волокушу – позже приходите, я Макара пришлю… – и побежала в дом.
Отец Иона переложил котомку с мукой на волокушу, подхватил её под руки и направился по узким посадским улочкам к речке Мельничной, где матушкой Агриппиной, несколько лет назад, был заложен женский монастырь.
Матушка Агриппина была уже старая, ходила с трудом, но в меру оставшихся сил ещё лепила для церкви просфорки. Безнадёжным делом стала её попытка создать в этих глухих местах женскую обитель – где баб то взять? Те, что были при ней сперва, две убогие вдовицы, быстренько померли, и осталась матушка одна.
А в начале – сколько суеты навела старая игуменья в остроге! Словно ворона, в своей чёрной рясе и таком же клобуке, летала она по окрестным дворишкам да зимовкам, впечатляя рассказами о великих знамениях и грядущих последних временах, ве́домых ей от многих и многих, чтимых за свои духовные подвиги, старцев; о живущем среди людей антихристе, который уж готов явиться в царском обличии и славе неземной и соблазнять ко греху маловерных; об ужасных страданиях телесных и мучениях духовных, что следуют за нечестивцами, отступившими от Слова Божьего; о геенне огненной, где «плач и скрежет зубовный». И пугала немногочисленных Алексеевских бабёнок, что только «отречась от соблазнов мирского жительства и отринув всю телесную суть и скудные мужнины радости» можно спасти свою бессмертную душу, «непрестанной молитвой и трудами иноческими, уязвляя плоть во все дни…».
Бабёнки пугались, набожно крестились, жались друг к дружке, внимая апокалиптическим речам матушки Агриппины, но не спешили попадать в раскинутые ей сети: «Когда он придёт ещё этот конец света? Жди его. У нас и сейчас дел невпроворот. После отмолимся – успеется». Так ни одна девица, ни одна вдовица, не пошли в обитель матушки, громко названную ей «Христорождественской». Порыскав по округе и не найдя отклика на свои устремления, старушка сосредоточилась на собственном духовном подвиге, как и проповедовала: «… молитва и труды иноческие…». Обжила брошенный кем-то дворишко. Поправила ограду-плетень, починила, как смогла, печку. Добрые люди не оставили матушку – подкидывали и пропитание, и дровишки подвозили, а она им от себя вспоможение: помоли́ться за кого или за больным приглядеть… ну, или ещё что. А как храм в остроге вырос, и отец Иона к службе приставлен был, так воспарила духом матушка Агриппина, посвятила себя ещё и прихра́мовым трудам. Только вот старость о себе напоминала всё чаще, ноги подводить стали – находилась матушка по холодной сибирской земле, настоялась на ней коленями. Вот и просфорки уже не при храме лепит, а у себя в обители, потому и спешит к ней отец Иона – мучицу от Оленьки Фирсовой тащит.
Солнце перевалило далеко за полдень – воздух уже слегка подхватывал морозец, а отец Иона, погруженный в свои беспокойные думы, семенил по сияющему серебряным бисером снегу, царапая его своей волокушей. За посадом, на отдалённом пригорочке, показался дворик матушки Агриппины: три укрытых снегом и потому похожих на пряники, домика. К нему уже протоптанные кем-то следы… Отец Иона заторопился, предчувствуя встречу.
Ворота у обители были… такие, как и весь забор, сплетённые из тонких веток. Неудобные – как ограда ещё, куда ни шло, а как ворота… потому когда-то распахнутые, видимо покидавшими двор прежними хозяевами, они так и остались навсегда открытыми, изогнутыми – придавленные временем… а зимой ещё и снегом. Его-то и откидывал высокий тощий мужик в распашном подшитым облезшим мехом (по виду сразу и не понять – то ли волк, то ли собака) кафтане с короткими, но широкими рукавами. Цвет кафтана не разглядеть теперь – что-то тёмное (возможно оттенок бордового или фиолетового), он, по-видимому, и перелицовывался не раз. Под верхним кафтаном другой кафтанчик – не по-русски куцый, тесный, затянутый на многие пуговицы, тоже цветом не пойми что; широкие серые штаны по колено, крупно связанные чулки-ноговицы и нелепые ко всему этому наряду, но обычные для здешнего уклада унты. Мужик, улыбаясь и источая пар, лихо размахивал деревянной лопатой, откидывая от ворот наметённые сугробы. Такой же вязки, как и чулки, серый шарф, намотанный на шею, разболтался и длинными концами путался в руках, мешая работать. Шапка сбилась на затылок, освободив длинные соломенного цвета, намокшие от пота, волосы. А мужик всё грёб – грёб и улыбался!
Из двери пряничного домика, единственного над дымником которого сочился жиденький дымок, то и дело выглядывала матушка Агриппина и причитала:
– Ванька, брось! Умаялся уже! Брось, окаянный! В трапезную иди – остынь! Ванька! – затем снова скрывалась за дверью.
Ванька – Юхан Якобсон Кнорринг, немец из шведских пленников – был непутёвым потомком той линии рода Кноррингов, некогда владевших богатыми поместьями в Курляндии, которая осела в Швеции и получила там баронский титул. Так случилось, что не увлекали его ни военная, ни дипломатическая служба, да и поместьями семейными заниматься молодой Юхан не желал – помноженное на юношеский максимализм желание облегчать страдания людей привело его в Хельмштедтский университет Стокгольма, где он начал изучать медицину. Папаша разгневался, проклял сына, призвав на его голову всевозможные кары, но нежная сердцем мамаша не оставляла его и подкидывала серебряных марок и далеров на оплату профессоров; а он, гордый, брал их с лицом отстранённым, будто и без этих «подачек» обойтись способен. Кроме медицины увлёкся теологией и под влиянием профессора Георга Кликста пускался в пространные рассуждения о бытие человеческом и Божьем. Но бурная студенческая жизнь (та самая – с хмельным разгулом и шпагами) всё же привела его на встречу с рекрутёром славного короля Швеции и Великого князя Финляндии Густава Адольфа. Рекрутёр, видимо впечатлённый тем, что перед ним стоял, покачиваясь, настоящий лекарь, да ещё и потомок известного рода, так расписал ему прелести службы в отряде наёмников, и их нужду в собственном врачевателе, что Юхан сразу согласился на все предлагаемые приключения. Покорение дикого и необузданного народа, проживающего на несправедливо большой территории на востоке, показалось Юхану достойной задачей, а приобщение суровых варваров к цивилизации, делом достаточно благородным и к тому же гуманным. Вот ведь отец гордиться будет, а нежная сердцем мамаша смахнёт платком слезинку, встречая вернувшегося домой прославившегося на чужбине сына!
В июле 1614 года, лекарь-недоучка в войске коменданта Кексгольма Ханса Мунка, отправился из Куркиёки к озеру Пюхяярви, но по пути, в битве при деревеньке Ристилахти, был захвачен и увезён в неволю, по зеркалу Онежского озера, в одной из русских лодий. Затем пешком до крепости Олонец, оттуда в разорённый два года назад ляхами Белозерск… Вологда, Ярославль, Нижний Новгород. И так всё дальше и дальше в самую глубь, теперь уже пугающей своими размерами, России.
Пока его, пленного, таскали по городам и городкам, Юхан Якобсон (или по-русски Иван Яковлевич, но чаще – Ивашка-немчин) по мере полученных за те несколько лет учёбы в университете, медицинских знаний и, поддавшись на данное природой желание помогать ближнему, когда-никогда подлечивал осмелившихся довериться «проклятому вражине» да к тому же «люторцу». Особенно хорошо ему давалось отнятие поражённых конечностей: аккуратно распиливал он кости, заворачивал плоть и сшивал искусным швом – как учили. Аптеки, разумеется, никакой у него не было – собирал травки, варил мази, выпаривал разную плесень, колдовал над настойками. «Так он ещё и колдун!» – пугая его, говорили вокруг. Так и сделался Иван Яковлевич настоящим лекарем – хоть и не так он себе эту работу представлял.
За девять лет переходов по Русской земле, когда он уже потерял представление о своём географическом положении, судьба привела его в Астрахань, а оттуда в обозе нового воеводы Якова Хрипакова он и пришёл в Алексеевский острог.
Стоит добавить, что в этой безумной стране бородатых варваров в теологические споры с ним никто не пускался, а сразу били: «Что этот немчура в Древнем Православии понимать может!», но в Алексеевском остроге Иван Яковлевич, неожиданно для себя, всё же встретил собеседника, да не абы какого, а самого пастора упрямых схизматиков!
– Бог в помощь! – отец Иона осторожно остановился за спиной ретиво размахивающего лопатой лекаря.
Иван Яковлевич дёрнулся от неожиданности, обернулся и, увидев отца Иону, улыбнулся:
– Тратвуй, fader! Што пришёл? – поставил на снег лопату и оперся на неё.
– К матушке заглянул, а тут ты. Как со здоровьем-то? Отчего в храме тебя невидно? – подначивал лютеранина отец Иона.
Тот с удовольствием принял предложенную игру:
– Иконы ваш церков – суть идолы.
– Так откуда у нас иконы-то? Где взять? Нет ничего. Так что, если только иконы тебя пугают, можешь приходить. К тому же, каиновый сын, Лютер иконы не запрещал! Приходи – а?! Хоть на настоящей службе побываешь!
Засмеялись. Немчура положил руку схизматику на плечо, на своё закинул лопату, и по-хозяйски повёл батюшку к дому. На пороге он обернулся, и удовлетворённо вздохнув, осмотрел двор:
– Сё сделал!
Работа проделана знатная – снег долго не чистили, потому его было так много, что откинутый в сторону он закрывал плетень и не видно теперь ограды вовсе.
– Ещё будет, – подмигнул немец отцу Ионе. – Иди дом. Mor Агриппина просит тепер.
Эту, самую маленькую, избушку матушка Агриппина определила под трапезную ещё тогда, когда теплилась надежда на создание полноценной обители. Но когда игуменья осталась одна, пришлось ей сюда переселиться: много ли старухе надо? И вот уже трапезная – это и молельная, и погреб, и сарай… и келья тоже. А когда ноги отказывать стали – стала избушка и просвирней. Правда изнутри она больше походила на дом какой-нибудь лесной ведьмы. Темно – два малюсеньких окошка, под самым потолком, не давали света. Обычные же окна были наглухо заколочены ставнями. Только маленькая, с полукруглым верхом, открытая печка своим огнём освещала один из углов. Вязанки различных сушений: грибы да ягоды, пахучие травы, что насобирала матушка, пока были силы, свисая с потолка, отбрасывали многочисленные тени. Какие-то горшочки, кувшины, ступы и ступки, туески и коробы, заполняли навешанные на стены полки. Можно подумать, что матушка забарахлилась и осудить её, грешным делом, за неопрятность, но вся беда в ногах – ходить было нелегко, вот и стащила старушка всё имущество обители поближе к себе, вот и заполнила им всё пространство своего жилья. Зато большой стол, на котором матушка лепила просфорки, всегда содержался в чистоте. Когда-то он стоял в центре, а теперь, сдвинутый в угол, был единственным не заставленным ничем местом.
Когда лекарь и священник вошли, матушка сидела на низкой и длинной лавке возле печки, помешивала варево из различных круп в котелке. Дым уходил в дымовое оконце – хорошо сложена печка, в правильном месте сложена.
– Отец Иона, ты снова не задержишься? Всё дела?
– Задержусь, матушка. Как стемнеет – пойду.
Матушка улыбалась – не часто к ней люди заходят.
Иван Яковлевич помог занести котомку с мукой в дом, отец Иона, оставив волокушу снаружи, последовал за ним. Внутри Иван Яковлевич домовито суетился: нашёл миски, деревянные ложки. Попробовав на вкус кашу – ту, что матушка помешивала в котелке над огнём, подсолил её, достав из кармана соль, бережно завёрнутую в тряпицу; после чего снял котелок с подвесного крюка и принялся раскладывать содержимое на три миски. Увидев это, матушка схватила поставленную к ней миску и, перевернув её вверх дном, накрыла рукой:
– Ты что ж это, Ванька, делаешь? От Бога меня отвратить хочешь? Ты крупу принёс – тебе и есть. Отца Иону вон, потчуй, а у меня нет на то благословения!
Иван Яковлевич и отец Иона удивлённо переглянулись – они давно уж знали причуды игуменьи, большой подвижницы, но всякий раз согласиться с её пониманием праведной жизни было не просто:
– Матушка, вот зачем себя так истязать? Поберегла бы силы. Я тебя на такую аскезу не благословляю, – сокрушался отец Иона.
– Мне, батюшка, твоё благословение и не надо – меня в Вологде преподобный Иосиф на этот путь наставил, вот по нему я и ковыляю, – отвечала ему матушка Агриппина.