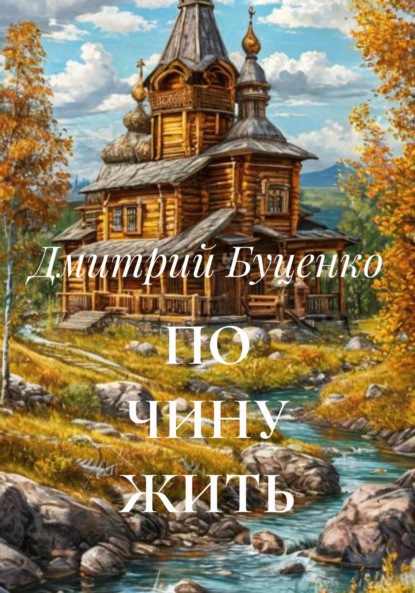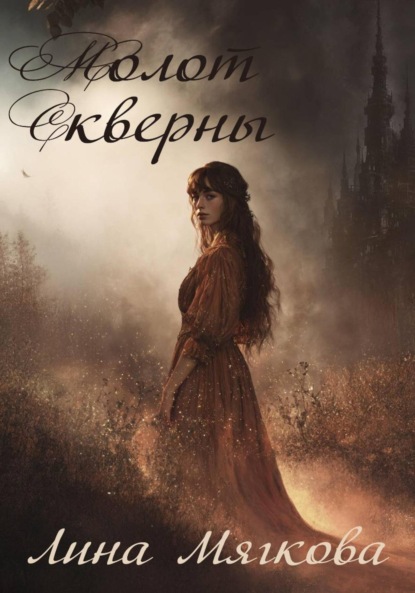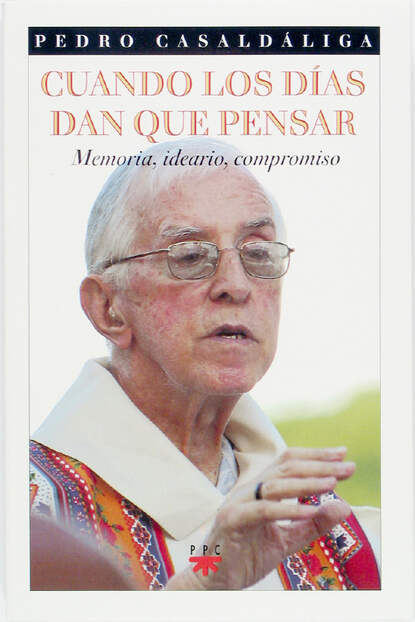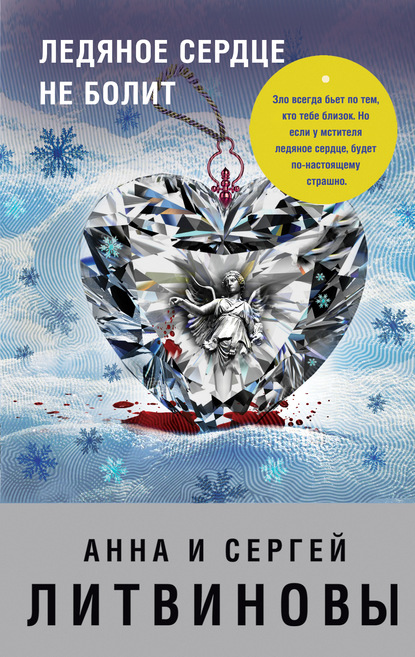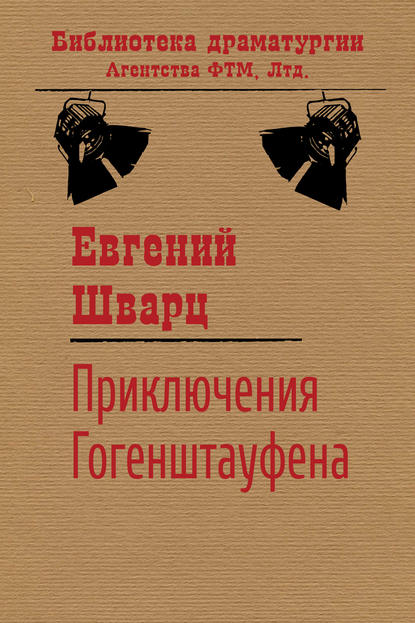- -
- 100%
- +
Вот и Феодосия Досифеевна такова: и в храм как на праздник ходит – разряженная; и молитвословчик свой в красивой, бисером вышитой, сумочке носит; и закладочек в нём заложено – видимо-невидимо. Уж как в церкви себя вести – так всем расскажет и, даже если не просишь, всё одно подойдёт и заставит себя слушать: и перекрестился ты не теми пальцами, да и не столько раз сколь надо, и поклоны не в пол, а в пояс кладёшь. И что, в какой день есть, чтоб пост не нарушать – всё будет говорить, всё она знает, и ответы на все вопросы веры ей ведомы. Но как епитрахилью накроешь, так: «…делом, словом, помышлением…» и нет у человека грехов, только эти пресловутые слова. Но ведь грех – это хворь и если не расскажешь ты священнику, чем душа твоя поражена, как поможет он тебе? Чем полечит? Что подскажет?.. «… Делом, словом, помышлением…». Да, что мамаша, когда сама Дуня… тоже. Её спрашиваешь: «Исповедаться хочешь?» – отнекивается. А когда всей семьёй перед обедней приходят, так всей семьёй и: «… делом, словом, помышлением…». У самих же в доме вон, что творится! Да, и разве одни они такие?!
«Помилуй мя грешного!» – испугавшись своим мыслям, трижды перекрестился отец Иона.
Дуня зашевелилась под тулупом, высунула нос подышать морозным воздухом. «Дитя совсем», – улыбнулся батюшка и поправил упавший узелок, чтоб не мешал ей.
Странная вся эта история – глядишь, и втянут его в какую-то беду. И у Фирсовой вдруг «надёжный человек» появился, которого она, видимо, утаивает, не называя прямо о ком речь. И Дуня, хоть и явно в беде, но не обо всём рассказывает. Но Бог им судья… и ему тоже! А значит негоже страждущему в помощи отказывать. Наверняка это сам Господь его, священника, испытывает!
3
Дед Никита Нифонтов, когда-то хозяин большого подворья и отец трёх сыновей, своими руками умел делать всё, что могло пригодиться в крестьянском быту. Живой был, кряжистый мужик. Всю жизнь во крестьянах. Всю жизнь на земле.
Пахал недалеко от Тобольска, сеял всё что положено: рожь, ячмень, овёс. А когда сыновья отправились на Енисей новые места обживать, упросил воеводу с ними ехать. Всё чин по чину, бумаги написали, землю, избу, тягло другому мужику передали. Само же семейство Нифонтовых, погрузив на подводы первейший для новой жизни заводик, отправилось на восток. Старший сын с женой, два других – бобылями, и глава семейства – Никита Нифонтов.
На новом месте не заладилось. Земля досталась у края леса, и чтоб расшириться пришлось валить высокие и крепкие сосны, корчевать пни. Эта тяжёлая работа забрала среднего сына: придавило его толстенным стволом, поболел недельку, да и помер – бывает! Тут у отца руки стали трястись.
По весне засеяли, по осени собрали. Весной снова засеяли… а как ледоход начался так с ним, и младшенький сынок пропал. Как лёд затрещал – он рванул сеть забирать (хорошая была сеть, большим трудом досталась), что по недосмотру оставили, но между глыбами провалился… так его теми глыбами и раздавило. Согнуло Никиту Нифонтова. Враз сдал – стариком стал. Почернел как-то, сгорбился.
Осенью урожай собрали. Внук родился. Никиткой окрестили – как деда. Правда невестка горемычная при родах померла, но и так часто случается. Поплакали над ней – жить продолжили. Дед Никита при внуке остался, а сын, оставшийся, всё хозяйство на себя взял.
Перед Масленой неделей и он ушёл… в тайгу, кулемники проверять. Там и остался. Может зверь?! В общем, не вернулся из лесу папка Никитки маленького. Остались теперь вдвоём – дед да внук. Землю с двором пришлось снова другому мужику передать, чтоб от тягла отвязаться. Поселились в посаде. В маленькой избёнке. Дед разную обувку шил: унты, чирки. Валенки валял – хорошие получались валенки, плотные. Тайга помогала – грибы да ягоды собирали. Иногда зверушка разная в силки попадалась. Енисей рыбу подкидывал. Жили-поживали. Никитка подрастал, озорной ухватистый парнишка – деду посильная помощь.
Как-то к ним немчура попросился на постой, лекарем назвался – пустили. Хороший оказался мужик – тихий: коль пьяный – не бузил! Никитку сладостями баловал. Что своим ремеслом наживал, завсегда делился – с Никиткой маленьким и дедом Никитой.
Зимой, пока Енисей во льду, кормились рыбой. Впрочем, её добывали всегда, но зимой она всё же чаще шла на пропитание, за неимением особого выбора. К тому же зимой её сподручней было заготавливать да сохранять!
Как только лёд стал, вышли дед с внуком на реку и пробили две лунки. Из одной в другую, сперва пропустили верёвку, затем с её помощью затянули ещё одну, с привязанными к ней крюками. Никитка-маленький во всём помогал деду. В одну лунку, что пошире, дед стравливал верёвку с крючьями и нанизанной на них мелкой рыбёшкой, а Никитка вытягивал её через лунку, что ниже по течению. Травить, понятно, ему было не просто, тут и сноровка, и сила нужна. Тащить же верёвку было как раз по силам. Надрывался, поскальзывался, но упорно тянул. Когда же дед сеть выбирал, чтоб попавшуюся рыбу забрать, заботой Никитки было её с крюка быстрее сорвать. Никитке маленькому уже шесть полных годков. Мужик всамделишный, такой всё сумеет. Он и старался, знает же, что дед его старенький. Кто поможет если не Никитка?
Солнце обыкновенно слепило из-за противоположного берега, когда дед Никита тащил по льду маленькие нарты в сторону своих лунок. Сзади в них, как молодой, барашек упёрся Никитка. Пыхтел, старался, толкал нарты – помогал деду. Дед иногда поддёрнет чуть быстрей – Никитка не удержится и падает. Смеётся Никитка и дед смеётся!
Остановились возле лунок, огляделись. Пока они одни выбирать пришли, но может, кто и подтянется ещё – утро только. Сели в нарты отдышаться. Хорошо! Тепло! Далековато дед Никита в этот год лунки пробил да свои крючья протянул. Да! Дальше всех! Зато никто животку не покрадёт. Животкой называли мелкую рыбку, что наловили осенью. Её хранили в деревянном ковчежце в одной из лунок и употребляли как наживку.
Дед Никита поднял сколоченную из досок крышку, закрывавшую лунку, чтоб не промерзала, и заглянул в неё:
– Вроде не трогали животку-то. Слышь, Никитка? Метки мои на месте значит – целёхонька животка. Как в тот раз оставили, так и лежит!
Никитка деловито разгружал нарты. Доставал пешню – разбивать примёрзший лёд; плетёный деревянный черпак, чтоб этот лёд из лунки отбрасывать; и, конечно, специально приспособленную палку-дубинку, чтоб бить вытащенную на лёд рыбину по башке. Никиткина гордость – он подобрал её весной, обстрогал, обрезал маленьким ножичком сучки́. Где держать рукой, обмотал кусочками, взятой у деда кожи.
– Всё деда, – Никитка поправил на вспотевшей голове шапку, – я на ту лунку пойду – гляну, а ты тутачки пока расколачивай.
«Шустрый» – улыбался внуку дед Никита Нифонтов.
Не хотелось Никитке маленькому просто смотреть, чтоб верёвка не ушла. Скучно! Вбил в лёд колышек, привязал к ней конец верёвки и айда деду помогать. Дед налима на лёд вытягивает, Никитка рыбину своей дубинкой по башке бьёт, чтоб пасть открыла и тогда удобней крючок изо рта рвать. После чего в сторону эту рыбину отталкивает, где она корчится всё медленнее – замерзает, а дед осторожно выбирает нового налима из лунки.
Спорится работа у рыбаков, полные нарты сегодня нагрузят – внушительный запас.
На раскате надвратной башни, что выходит на Енисей, сошлись караульные стрельцы. Поставили прикладами на пол свои пищали – опёрлись на них. Достали флягу с вином и оглядываясь, не смотрит ли кто из старши́ны, подлечивались после вчерашнего захода в кабак. Лбы трещали, души мутило. Стрельцы ойкали, хватаясь за голову, посмеивались над вчерашней своей неосторожностью и обещали друг дружке больше никогда… никогда не позволять себе излишеств. Васька Сумароков даже с треском в непослушной башке не уставал сочинять небылицы:
– Я вчера как с кабака-то выполз так за угол на карачках и пополз, а там псина Филькина вертится. Ну, вы знаете одноухий этот, с бородой ещё. Так я ему из штофа взялся в пасть подливать, а он, видишь, пьёт. Зверь, а винище хлещет – будь здоров. Потом сел возле меня и ну песни орать. Сперва не разборчиво так у-у да у-у, а потом распелся видать и совсем по-человечьи завыл. У казаков видать подслушал, красивая песня – про бабу какую-то. А потом мне лапу на плечо положил и задумчиво так, с оттяжкой говорит: «Эх, брат Васька…»
Стрельцы пробовали посмеяться «Вот ведь придумал!», но боялись трясти свои тяжёлые головы, оттого лишь морщились на его байку.
Елисею было проще, он вчера был благоразумен – пиво с винишком не смешивал, потому его не заботило содержимое фляги. Стоял себе в сторонке, новый Алексеевский стрелец Елисей Юрьев, облокотившись на высокое ограждение башни – «забороло», и любовался ровным, белым полем льда.
Енисей спит, укрывшись закоченелой шубой, срослись его берега. Хоть и режет глаза поднимавшееся с востока солнце, но оторваться от такого незыблемо-величественного вида стрелец не мог. Нечеловеческий простор!
Там, вдалеке, почти у середины реки копошились два рыбака, один покрупнее, другой помельче – с башни больше и не разглядишь. Темнеют возле них нарты. Елисей, прикрывшись от солнца ладонью, увлечённо наблюдал за ними:
– Не далековато они свои крючья поставили? – не оборачиваясь, проговорил он.
Васька Сумароков, пряча под тулуп опустевшую фляжку, подошёл к Елисею. Кивнул в сторону рыбаков:
– Дед Никита с внуком. У них в прошлую зиму наживку таскали. Не так чтоб всю умыкнули, а вместо своей из их ящика помалу тырили. Досадно же – вот на эту зиму они свои лунки подальше от всех и продолбили.
– Далековато!
Елисей силился разглядеть, что происходило на льду. Его беспокоило стремительно приближавшееся с противоположного берега, мутное пятно. Против солнца смотреть тяжело, но пятно упорно двигалось к острогу. Нет! Это не просто пятно! Это явно, одинокие нарты, запряжённые оленями.
– Васька, глянь, – Елисей указал Сумарокову на нарты, – тунгусы ли?
Тот тоже поднял ладонь, защищая глаза от слепящего света:
– Тунгусы. Что им в остроге надо? Летят черти…
На башне забеспокоились. Внимательно вглядывались… и всё поняли:
– Тунгусы! – Заорал в острог Сумароков.
Стрельцы похватали свои пищали – прикладами на пол. Из натруски порох в ствол. Снова грохнули прикладами в пол, чтоб утрамбовать зелье. Стиснули зубы, не давая волнению сбить чёткие, отработанные движения. Натруску назад на пояс. Войлочный пыж из сумки в ствол – достать шомпол, в два удара забить им пыж плотнее. Пулю в ствол. Снова пыж шомполом. Подняли пищали, прицелились. Эх! Далеко!
– Дед! Беги! – Елисей истошно кричал в сторону рыбаков.
Не дожидаясь, когда дед с внуком заметят опасность, он мигом сбежал по лестнице с башни и ломанулся через ворота к реке.
Дед Никита и Никитка-маленький увлеклись рыбалкой и не замечали угрозы. Откуда-то издалека доносились беспокойные крики. Дед Никита с трудом разогнул, по-стариковски закостенелую, спину и посмотрел на острог.
Васька Сумароков направил пищаль в сторону солнца, чтоб не зацепить, кого, ненароком и выстрелил, подавая сигнал.
Дед Никита увидел взлетевший со стены дым. Никитка у его ног, упав на колени и засунув руку налиму в пасть, борется с рыбой, силясь достать крючок. Через мгновение долетел звук выстрела. Никитка поднял голову, посмотрел на деда. Дед оглянулся и увидел несущихся на него оленей. Крикнув: «Беги!», – старик схватил пешню и направил её в сторону врага. Никитка оторопел – не сдвинутся с места! Деду помочь! На несущихся в сторону рыбаков нартах, озверело, заулюлюкали два тунгуса.
– Никитка! Беги же! – отчаянно закричал дед и кинулся к тунгусам.
– А-а-а-а! – истошно завопил мальчишка и бросился к спасительному острогу. Оттуда на помощь бежали люди.
Тунгусы уже рядом. Один из них спрыгнул с несущихся нарт прямо на деда, с чудовищной силой воткнув ему в грудь железное лезвие пальмы. Дед повалился навзничь – на нём убийца – хищно смотрел на убегающего Никитку. Нарты, описывая полукруг, отрезали путь мальчишки к спасению. Покончив с, вставшим на защиту внука дедом, тунгус выдернул из его груди оружие и устремился в погоню. Задыхаясь, Никитка бежал в сторону острога. Пронзительно кричал от страха. Поскальзывался, падал, вставал, не замечая боли от ушибов и снова бежал, но его всё равно настигли. Догнав, тунгус с размаха лупанул Никитку рукоятью пальмы по затылку, тот пролетел вперёд, рухнул, уткнувшись носом в лёд. Пока олени, разворачивались, тунгус схватил Никитку за ногу, поволок его, оставляя на льду яркую кровавую полосу и, закинул в подоспевшие нарты. Подстёгнутые олени рванули в сторону дальнего, ощетинившегося лесом, берега. Не догнать!
Бегущий впереди остальных, спешащих на помощь, людей, Елеска Юрьев, не отрывая взгляд от увозящих Никитку тунгусов, перешёл на шаг. Остановился – пищаль к ноге. Сдерживая дыхание, опустился на колено, сел на пятку. Дыхание ровное… Выпрямился. Поднял пищаль, выбирая цель, открыл полку. Прицелился, нажал на спуск. Фитиль упал на полку, зажигая порох, вспышка ослепила и обожгла лицо – выстрел! Один из оленей рухнул головой вниз, под другого, ломая ему ноги. На оленей налетели нарты, вываливая седоков. Тунгусы, проворно оправившись, выхватили из разломанных нарт лыжи и став на них, спешно, продолжили бегство. Чтоб удрать, добычу им пришлось оставить.
Елисей бросился к нартам, откинул их, откинул шкуры, нашёл Никитку лежащего в нелепой позе. Он был жив и закатив глаза, тихо стонал. Стрелец закинул пищаль за спину, подхватил на руки Никитку и, переступив через бившегося в кровавых судорогах оленя, быстрым шагом понёс мальчика в сторону подбегавших людей. Те уже освободили для него нарты… те самые, которые приволокли сюда утром дед Никита и Никитка-маленький.
На берегу столпились взволнованные острожане. Слух о нападении тунгусов быстро пронёсся по округе. Не часто они осмеливались на такую дерзость, хоть случаи бывали всякие.
– Поджидали! Как пить дать, поджидали, когда они одни на лёд выйдут.
– Точно! Приметили, что их лунки дальше всех пробиты!
– И чтоб солнце с той стороны прямо в глаза било…
– А что, живой хоть кто?
– Кого-то вон, в нартах волокут.
Когда нарты подтащили к берегу, вокруг них собралась толпа. Каждый старался рассмотреть маленького страдальца. Нифонтовых все знали. Судьба их и до того была не завидна, а теперь – вот как сложилось! Что теперь будет с Никиткой маленьким? Да и выживет ли вообще?
Раскидывая людей, при этом немало удивляя их своей силой, лекарь Иван Яковлевич упорно пробивался через это сборище. Добравшись, он упал на колени перед нартами. Никитка лежал на спине хрипло дышал ртом – нос был сломан и сильно перекошен. Лицо залито замёрзшей и местами потрескавшейся кровью. Кровь темнела и на подложенной под голову свёрнутой рогоже. Иван Яковлевич поднял руками Никиткину голову, осмотрел затылок. Вынул из, принесённой и брошенной рядом на снег, сумки чистую тряпицу, плотно обмотал ей голову мальчика. Затем поднялся, строго указал:
– Везти за мной! Быстро!
И направился, своим широким шагом, в острожные ворота.
Вышедший на выстрел воевода, наблюдал за всем со стены. Он видел, как немчура велел везти за ним полуживого мальчика; как следом проволокли на шкуре окровавленного деда; как дорезали оленей и растащили мясо; как сбежавшиеся люди, хвалили стрельца за удачный выстрел; как тот, нехотя, кивал на дружеские похлопывания и растерянно крутил головой – будто кого-то искал.
4
В воеводской избе Шубин и Перминов, сидя за большим столом, разбирали пришедшие вчера с обозом бумаги. Обычно Андрей Леонтьевич с делами не затягивал, но вчера отъезд Хрипакова занял весь день. Только в пушном амбаре проспорили с обеда дотемна. Яков Ефимович всё норовил побольше пушнины с собой забрать, но Андрей Леонтьевич, вооружённый приходными книгами, доказывал, что не так уж и много всего собрано за прошлый год.
– Вот гляди сюда, – совал он прямо в недовольное лицо Хрипакова очередные бумаги, – написано же: «декабря в тридцатый день с князька Окдона Кымзина с ясашными людьми с пяти человек государевых поминков пять соболей. Да ясачных тридцать пять соболей взято». Ты смотри, смотри сюда: «…а донять с князька Окдона с ясачными людьми двадцать соболей ясачных». И вот ещё, тем же днём: «… а донять на князьке Албапете с ясашными людьми государевых поминков семь соболей», да вот главное: «…да ясачных два сорока девять соболей». А ты их донял? А считаешь, будто они уже в амбаре лежат!
Яков Ефимович отбивался:
– Так ты сам с них возьмёшь. И больше возьмёшь. Скажешь, к примеру, что раз задержали, так с лишком пусть дают. Я не раз так делал. А мне на Москве сейчас соболь позарез нужен.
– Вот потому у тебя тунгус и бунтует…
Потом долго ещё ссорились, ругались. Хрипаков всё за саблю хватался. И снова спорили, листая книги со списками мягкой рухляди. В общем, вчерашний день все силы вымотал.
Теперь вот и писем время пришло. Перминов доставал поочерёдно из сумки футляры с документами, разворачивал и зачитывал воеводе – тот сидел, облокотившись на стену и закрыв глаза, слушал:
– «Указ о жаловании Сибирскому, Алексеевского острогу сотнику Поздею Фирсову».
Перминов пробежал глазами по тексту:
– Жалует ему Государь аж четыре рубля!
– И за что жалует?
– «…что он в прошлом 133 году, привёл под Государеву Царскую высокую руку Кипанской волости князка Ильтика, да Пумпокольской волости князьков Урунака да Баитерека.», – зачитал подъячий, – ну и за службу и всё такое…
– А он только ушёл. Не свезло ему. Что ж вернётся так и разберёмся. Раз сам Государь жалует – надо дать. Дальше что?
Подьячий развернул очередную бумагу:
– Из Мангазеи письмо.
– Что пишут?
Максим Максимович внимательно прочитал и положил письмо на стол перед воеводой:
– Жалуются: торговля-де падает, людишки разбегаются. Припасов просят: зелья огневого, хлеба тоже… Пишут, что после того как по государеву указу разрешено стало торговым и промышленным людям ездить кому как выгодно, в Мангазею стали меньше ездить. Просят направлять людей к ним и у себя не задерживать.
– Так кого мы задерживаем-то? Если купчине никакой прибыли в такую даль идти, то он и не идёт. Разве мы заставить его должны.
– Мангазея всегда жила тем, что разным немцам удобно было туда с моря идти. К морю ближе понимаешь? – Максим Максимович, объясняя, чертил руками на столе воображаемую карту, – вот тогда и была выгода мягкую рухлядь к ним свозить. И с Архангельска, и с Пустоозера, и с других мест. Через Камень переваливают, минуя Тобольск. В казну меньше прибыли стало попадать. Вот от Государя и пришла грамота – уже два года как пришла – чтоб запретить торговым и промышленным людям в Мангазею ездить. И чтоб немецким людям тоже там не появляться, и дорогу им до Мангазеи не показывать. А купцы пусть ездят куда хотят, но не в Мангазею. Вот там теперь и воют потому, как никакого резона у торгового человека в такую даль тащиться.
– И что думаешь?
– Когда Алексеевский острог ставили, то Мангазея была в самом сахаре. Мы им тоже писали. И хлеб просили… они не отозвались… – Перминов задумался. – Да, и чем ты им поможешь? Зелье и свинец сами просим. Хлеб… у нас тоже не в избытке.
– Вот так им и отпиши. Мол, сами побираемся и дать ничего не можем. Хотим-де, но… нет ничего.
Максим Максимович понимающе кивнул, вынул следующую бумагу. Развернув, прочитал. Затем раскрытую положил её перед собой, придавив бронзовой чернильницей-каламарём с одного угла и пустой кружкой с другого. После чего, сложив на столе руки и наклонившись вперёд, поднял глаза на воеводу.
– Новости пришли: девку Чуркину поселили на подворье у игуменьи Агриппины.
Андрей Леонтьевич открыл глаза и, посмотрев на Перминова, кивнул на бумагу:
– Это ты из письма узнал?
– Нет, не из письма, но и оно к нашему делу приложится. Теперь можно отправлять туда Катерину с припасами – пусть, всё что требуется, растолкует. Только надо, чтоб блаженный братец её не помешал. Он же, как прознает, где сестрица, так прибежит и домой её потянет, а нам надо, чтоб она под присмотром была!
Воевода поставил локти на стол, опустил голову и, положив её на руки, задумался. Сидел какое-то время молча, запустив пальцы себе в волосы. Молчал и Перминов. Ждал.
– Катерина уже всё знает. Баба сообразительная. Меня другое беспокоит – что там за брат такой? – Андрей Леонтьевич поднял глаза и посмотрел на подьячего, – Может его, вместо Ялыма, на цепь посадим? Неужто управы на него нет? Давай я укажу стрельцам, чтоб прижали его где-то в перелеске.
– Если ты его живота лишать не думаешь, то всё остальное напрасно будет. Отойдёт и снова под ногами крутиться будет. К тому же мать его не меньше блаженная, чем сынок – такой крик поднимет – тошно всем станет. А нам шум в остроге не нужен совсем. И уж подавно, чтоб воевода или ещё кто из больших людей в этом замечен был. Аманатов кормить – твоя прямая забота, не упрекнёшь! В остальном же, пусть всё идёт будто, само собой. Есть на них управа, только не время ещё. Теперь иначе поступить следует.
Воевода откинулся на стену за спиной:
– Предлагаешь особого человека за ними приставить? Надо чтоб смышлёный был, толковый.
Максим Максимович отодвинулся от стола и убрал руки, открывая то самое письмо:
– И, похоже, что человек такой теперь у нас есть. Вот, смотри, – взяв письмо, Перминов протянул его Андрею Леонтьевичу, – что Годунов о нём пишет.
– О ком это?
– О стрельце новом. О том самом, кто вчера Ялыма остановил и том, кто сегодня Никитку-маленького от тунгусов отбил.
Шубин, потянувшись, взял в руку поданный свиток, пробежал взглядом по написанному, отыскивая нужные строки.
– Да. Пишет, мол, просил о нём сам князь Черкасский. Представляет его как человека надёжного. Хм… если подумать, то для князя он может и был надёжный… – Андрей Леонтьевич снова откинулся назад и повернулся к Перминову, – разве такие бывают? Каждый себе на уме, каждый лучше знает, что должен и кому должен.
Воевода бросил на стол письмо, встал с лавки, вышел в соседнюю комнату:
– Катерина! – слышно было, как он сердито закричал. – Где ты там шастаешь? Жрать уже неси!
Вернулся. Подходя к столу, он долго разматывал кушак, освобождая место для будущей трапезы.
– Убирай бумаги. Перекусим маленько.
Сел на лавку, продолжая прерванную мысль:
– Надёжный,… Вот, к примеру, Петька Парабелец. Помнишь? Надёжный человек!
Петька Парабелец был служилым пришедшим из Тюмени с Шубиным – отправлен в Томск с письмом от воеводы. А обратно вместо него было получено, от томских воевод, другое письмо, в котором говорилось, что по пути Петька набрёл на ясачного остяка Таганашку и силой взял у того: «котлишко и соболишка и лыжишка». За это Петьку в Томске били батогами и, когда он от тех батогов окрепнет, его отправят назад в Алексеевский острог.
– Ты понял? Лыжи взял! Ну, не балбес? Ведь надёжный мужик… был, – Андрей Леонтьевич ткнул пальцем в письмо, – вот и князь о стрельце пишет: «надёжный!».
Воевода, набрав в грудь воздух, крикнул:
– Катька, стерва! Ну-ка неси уже – сдохну скоро!
Из соседней комнаты проворно выбежала Катерина, неся огромный, даже при её росте, кувшин, и поставила его перед воеводой. Метнулась обратно и вышла, неся теперь чугун со щами. Грохнула и его на стол. Снова вышла. Теперь уже, сильно отклоняясь назад, притащила большое блюдо с хлебом и мисками, наполненными разной снедью: огурцы мочёные, сало крупно нарезанное, утка, печёная разорванная кусками, всё накрытое белым рушником. Еле донесла. Кое-как на стол поставила, опустила затёкшие руки – отдышаться бы!
– Ну, плошки неси и ложки скорей! – донимал её Андрей Леонтьевич.
– Жди, изверг! – бросила Катерина ему в лицо и нарочно медленно вышла из комнаты.
Воевода оскалился и сквозь зубы:
– Стерва она и есть стерва. Держать её вот здесь надо, – он крепко сжал кулак и показал его Перминову. – Я уж знаю, как с такими быть!
Шубин затрясся всем телом от смеха.
– И рюмки не забудь ещё, – крикнул он сквозь этот смех с хрипотцой и, вытирая слезящиеся глаза, повернулся к подьячему, – пить-то из чего будем?
Катерина всё принесла. Разлила по тарелкам горячих щец: воеводе и гостю. Андрей Леонтьевич, встал, налил полную рюмку, крепкого вина, что Филька курил специально для него, не морщась, выпил и принялся за свою трапезу.
Подьячий ел нехотя – думал о чём-то. Воевода заметил это:
– Слушай, Максим Максимович, раз всё одно сидишь в тарелке ковыряешь, сходи-ка лучше да позови того стрельца. Глянем хоть, что за птица.
Перминов вышел. Через время вернулся и снова занял своё место у воеводского стола. Ещё через время дверь без стука открылась, и в комнату вошёл человек, в расстёгнутом тулупе поверх стрелецкого кафтана из серого некрашеного сукна. Шапка в одной руке, другая – неловко цепляется за болтающуюся на боку шпагу. Андрей Леонтьевич усмехнулся: ещё десяток годов и эти шпаги возами будут закупаться за границей, для вооружения стрельцов, просто потому, что дешевле. Видимо валялась эта диковинка в закромах стрелецкого приказа без дела, вот и всучили её новику, просто «чтоб было»!