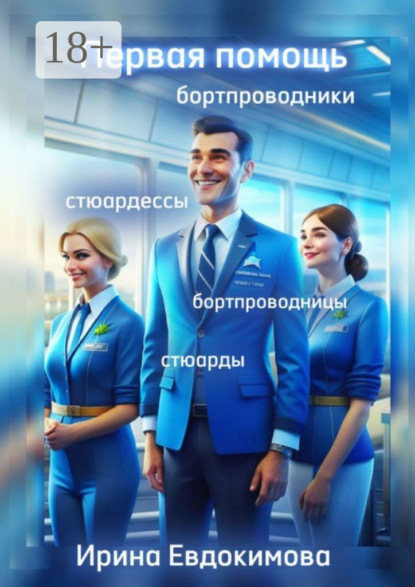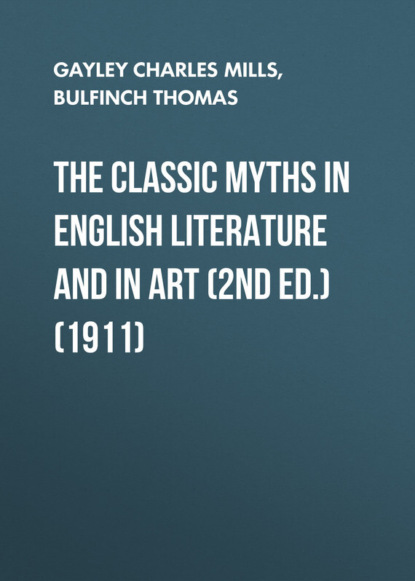- -
- 100%
- +
Стрелец перекрестился на образ и поклонился:
– Звали? – его низкий голос был противоположностью среднему росту и совсем небогатырскому сложению.
– Если ты Елисей Юрьев, то звали. – Шубин оторвался от еды и исподлобья взглянул на стрельца. – Знаешь кто я?
– Воевода здешний.
– Знай, что не с каждым новым служилым я говорю, но о тебе писал сам князь Черкасский, начальник всего Сибирского приказа. Откуда он знает тебя?
– С Москвы ещё. Что пишет хоть?
– Ишь, ты! – удивился дерзости воевода, – Что мне писано – мне и читать. Ты вот что скажи: с какого ляда ты в Сибирь пришёл? Сибирь-то, она сахаром не усыпана.
– Я же теперь стрелец. Моё дело – служба. Послали – пришёл. Выбор у меня небольшой.
– Ладно-ладно. Ты, стрелец, запомни: мы с тобой не в бирюльки играть сюда посланы – дело Государево делать. И потому будет у меня к тебе работа. Ты только в остроге появился, а уже отметиться успел, вот потому мы с Максимом Максимовичем одно дело и решили тебе поручить. Заметь – именно тебе! Справишься – будет от меня похвала и особое к тебе расположение.
Воевода вернулся к еде:
– Максим Максимович, объясни ему.
Встав из-за стола, Перминов легко, из огромного кувшина, налил полную свою рюмку и поднёс её, неловко переминающемуся с ноги на ногу, Елисею. Тот, поднял локоть, принял рюмку. Выдохнув в сторону, разом выпил Филькино вино. Глаза заслезились, дыхание спёрло, «крепка зараза!», но виду не подал. «Молодец!» – подумал подьячий, принимая назад рюмку, а вслух сказал:
– Садись. Слушай, – вернулся и сел на своё место. – Дело тонкое. Говорить о нём не следует никому. Сотника сейчас нет, потому воевода тебя у полусотника твоего, у Васьки Фёдорова, к себе заберёт. Мол, ему служилый человек для поручений разных позарез нужен и всё такое. Васька с воеводой спорить не станет, сам понимаешь.
Стрелец, продолжая стоять, кивнул. Перминов разъяснял с расстановкой:
– С самого рассвета будешь возле подворья матушки Агриппины. Старуха одна, здесь женскую обитель пытается построить. Пока, правда, плохо получается – двое их всего: сама игуменья и девка у неё на послушании. Вот, возле её подворья есть ещё один дворишко – воевода тебе этот дворишко жалует за то, что проявил ты себя дважды. Спустишься сейчас в подклеть, разыщешь Кондрата. Возьми у него инструмент, какой на первое время, потому как на том дворе с избой повозиться придётся. Будешь присматривать за игуменьей и той девкой. К ним ещё воевода Катерину приставил.
Воевода оторвался от трапезы, вытер лежавшим на блюде рушником рот:
– Катерина, – ему как будто доставляло радость звать её истошным криком.
Катерина выглянула из-за закрывавшей дверной проём занавески.
– Вот она, – подьячий указал на высунувшееся её нарумяненное лицо, – будет туда припасы разные возить – воевода у нас человек жизни праведной, потому и монастырю от щедрот своих вспоможение выделяет!
Катерина исчезла за дверью, а воевода привычно поднял вверх палец:
– Господь всех нас по делам судить будет, ибо благ и человеколюбец! Плесни-ка мне, Максим Максимович.
Перминов, наливая воеводе в рюмку, продолжал:
– Тебе надо стараться всё больше поодаль держаться. Если куда Катерина с послушницей из обители направятся, то следовать за ними хвостом, но не шибко рядом. Места у нас не простые. Мало ли кто докучать станет. Тунгусы, опять же, лютуют. Понятно тебе? Да и что стоишь истуканом – сказал же, садись!
Стрелец послушно сел на дальний край длинной лавки.
– Иногда послушница одна будет ходить…
Воевода добавил:
– В аманатскую избу к примеру…
– Ну да, – подьячий подошёл и сел на лавку с Елисеем рядом, – в аманатскую избу. Воевода разным убогим покровительствует и потому даже аманатов подкармливает. Правда сидит там только один Ялым. Ялыма ты уже знаешь! Вот Андрей Леонтьевич его пропитание и поручил обители, – повернулся к Шубину. – Как там она её назвала?
– Христорождественская! – подсказал тот.
– Вот! Христорождественская обитель получается. И уж тем больше надзор требуется, если послушница, величают её Евдокия, одна ходить будет. Ну как, лиходей… ты же шпажицей ему пригрозишь, аль из пищали в небо стрельнёшь – он и одумается.
– Только смотри, чтоб не до смерти, – хохотнул воевода, – чтоб все живы были. И без того в остроге людей мало.
Перминов добавил:
– Это если не тунгус… а коль тунгус, то можешь и наповал разить. Ну, вроде бы всё.
– Ступай, коли всё понятно, – кивнул на дверь воевода, – тебе же всё понятно?
Елисей встал, помял в руках шапку:
– Повсюду следовать за бабами, но держаться поодаль. Коль подсобить чем или заступиться – исполнить. Дело нехитрое… в чём тонкость-то?
– Тонкость в том, – упёрся взглядом в стрельца воевода, – что ни я, ни Максим Максимович, ни о чём тебя не просили! Сам ты, своим разумением и по своим потребностям, то дело делаешь. Ясна тебе тонкость? Справишься?
– Сделаем.
– Вот и ладно. Ступай.
Стрелец поклонился и вышел. Андрей Леонтьевич повернулся к Перминову.
– Что думаешь?
– Думаю, справится – задача для него и вправду не хитрая. Ещё думаю, что Сибирь не большая награда за надёжную службу, – усмехнулся Перминов. – Бежит он от чего-то. Его десятник сказывает, что в Тобольск его, вообще, в кандалах привели, только там и сняли.
– Если б бежал, то бежал бы в казаки, а он видишь – стрелец. Не соглядатая ли нам с тобой прислали? Расспросить бы следовало.
Андрей Леонтьевич с опаской покосился на дверь.
– Да, что расспрашивать? Соврёт же!
– Это верно… ты, Максим Максимович, посмотрел бы за ним.
Воевода окончил свой обед, обтёрся рушником и кивнул Перминову на кувшин, мол, налей. Сам неожиданно тихо сказал, повернувшись в сторону соседней комнаты:
– Катерина, не стой там – покажись.
Та видно скрывалась сразу за дверью, потому что появилась, буквально, через мгновение после слов Андрея Леонтьевича. Не спуская глаз с Перминова, подошла к воеводе вплотную. Тот ухватил её и усадил себе на колени:
– Всё слышала?
– Да, уж слышала.
– Завтра возьмёшь сани – тебе запрягут – нагрузишь, что я тебе указал, и к старухе отправишься, – Шубин взял Катерину пальцами за подбородок и повернул её лицо к себе. – В мои глаза смотри! Найдёшь этого стрельца…
– Елисея?
– Его…
– Имя-то какое – Елисей! – прошептала Катерина на ухо Шубину.
– Слушай внимательно, – воевода больно ущипнул её за бок. Катерина вскрикнула и вскочила, – если он сегодня сам не найдёт, то покажешь ему зимовку, ту гнилую, что рядом с подворьем стоит. Пущай он её поправит, залатает… ну, сделает, что надо и поселится там. Для того чтоб был подле вас неотступно. Всё поняла?
– Да, уж поняла.
И, показав воеводе язык, выскочила вон. Андрей Леонтьевич крикнул ей в след:
– Шубу мою принеси, и шапку! Я по острогу пойду.
Повернулся к Перминову и подмигнул:
– Забирай девку. Пятьдесят рублей всего.
– Не продашь ты её в остроге за такие деньжищи. Рублей десять… может чуть больше – красная цена. А мне самому она не к сердцу.
Воевода расхохотался:
– Да разве ж я её тебе для сердца предлагаю? Она на другое нужна! Что же о деньгах… – прищурился. – И за пятьдесят рублей продам! Увидишь!
Хоть и хотелось Андрею Леонтьевичу, после сытной трапезы часок-другой вздремнуть, но знал, что сердце тревожное не даст ему покоя. Потому и не пытался он прилечь, но надев одёжу свою, не по-местному богатую, шёл он обычно по острогу да посаду слоняться, чтоб за людишками, Государем ему доверенными, приглядывать.
5
Утро игуменьи Алексеевского Христорождественского монастыря подчинялось строгому распорядку. Вставала рано, ещё до рассвета. Молитвенное правило начинала с «Благословен Бог наш…», затем обыкновенно: «Царю небесный…», «Пресвятая троица…» и «Отче наш…». После чего разумеется: «Встав ото сна…».
Далее шли разные псалмы и тропари, разбавленные бесчисленными поклонами. Коленопреклонённая матушка, широко крестясь, всё громче читала свои утренние молитвы, в то время как Дуня притихла на своей лавке, повернувшись к стене, делала вид, что спала – не хотелось присоединяться к молитве.
Только расцвело, как в наглухо запертую избу стали доноситься звуки ударов топором. Возможно, где-то в посаде они были бы и не так слышны, даже спозаранку, но обитель находилась с другой стороны от острога, стояла в одиночестве, только рядом был заброшенный дворишко – кривая изба с дырявой крышей, да остатки ограды, потому, обычно, ничто не нарушало тишины в округе. Но в это утро некто совсем рядом настойчиво подрубал какую-то доску, это заставило матушку прервать свою молитву.
Дуня, воспользовалась тем, что бубнёж прекратился, вскочила и, накинув на плечи тулуп, пулей вылетела во двор. Пробыла там недолго, теперь уже не спеша, вернулась и, бросив на тулуп на лавку, виновато посмотрела на всё ещё стоящую на коленях игуменью.
– Что там? – спросила матушка, с трудом поднимаясь с колен.
– Я не смотрела. С топором кто-то… у соседей.
– Да, нету у нас никаких соседей!
– Может теперь поселился кто?
– Может и поселился…
Матушка подошла к печке, где уже давно прогорели дрова и, задумчиво поворошив кочергой остывшие угли, заметила:
– Нехорошо, милая, без молитвы день начинать – не по-христиански. Раз уж мы с тобой в монастыре обретаемся, то и устав соблюдать должны. Сегодня уж ладно, а завтра я тебя с собой подниму.
Дуня кивнула, затем вскочила, десятикратно перекрестилась на ту стену, куда молилась матушка (Икон в обители не было, потому молитву совершала игуменья просто на восток, благо, что восток был аккурат напротив входной двери!), вбила в пол столько же поклонов и посмотрела на матушку. Та засмеялась:
– Ладно тебе, егоза! Давай, что ли, печь топить.
Дуня залезла на лавку, повытаскивала рогожу, которой на ночь затыкались узкие окна; затем нанесла со двора дров, воды из колодца. Матушка разожгла огонь в печи и повесила над ним котелок – воду кипятить. Дуня схватилась за метлу, начала мести с дальнего угла…
Послышалось покрикивание возницы – на двор заезжали чьи-то сани.
– Пойди, глянь, – указала матушка.
Оказалось, приехала Фирсова. Как всегда, со стариком Макаром. Подбежала под благословение к игуменье – расцеловались. Расспросила о здоровье, послушала жалобы; посетовала, что дела не позволяли заглянуть раньше; поделилась новостями. Заклинала помилосердствовать и позаботиться о Дуне.
Матушка Агриппина, довольная вниманием сотницы, которую считала своей воспитанницей, пообещала во всём помочь. Смиренно приняла от Фирсовой подношение: сушёные фрукты, лепестки цветов для заварки, рукавицы заячьи, и стельки тоже заячьего меха.
Ольга Андреевна долго не задержалась, пообещала ещё заглянуть и, попрощавшись с Дуней, упорхнула.
После Фирсовой, едва не попав под её сани, к матушке забежал Иван Яковлевич. Что-то сбивчиво лопотал на ломаном русском, про маленького Никитку (матушка уже знала о случившемся от Фирсовой), торопливо собрал какие-то мази в склянках, которые обычно хранил здесь, под присмотром игуменьи и, пообещав позже рассказать подробности, выскочил вон из избы.
Матушка и Дуня молча переглянулись и залились смехом – немчин в своей суете Дуню не заметил, хотя один раз даже поднял крышку сундука, на котором та испуганно притаилась… но скоро замолчали, устыдившись своего смеха – Никитку жалко!
– Господи помилуй, – спешно перекрестилась Дуня.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную! – встав, осенила себя крёстным знамением матушка Агриппина.
Дуня вновь схватилась за метлу и продолжила старательно подметать большую комнату. Матушка развернула один из подаренных Фирсовой узелков и, взяв оттуда горсть лепестков, кинула их в котелок, в уже давно закипевшую воду.
– С утра хорошо не утробу свою набивать, но, помолясь, горячего пития принять с благодарностью ко Господу, – поучительно бормотала игуменья.
Дуня не была избалована едой… да и вообще её ничем не баловали, хоть и жили Чуркины в достатке – в семье держали в строгости. Дня не проходило, чтоб не слышала она в свою сторону крика или упрёка. Потому монотонные поучения доброй матушки Агриппины, замешанные на напускной суровости, нисколько не пугали Дуню.
– Какую работу делать умеешь, а? – спросила игуменья.
Дуне не переставала подметать, иногда сдвигая мешающую лавку или тяжёлый сундук.
– Разную, матушка.
– Ну, какую – разную? Рубаху сошьёшь?
– Сошью, матушка.
– А вышить, так чтоб с птицами и зверьми разными, сможешь?
– Смогу, матушка.
– А тесто замесить и хлеб слепить или просфору?
– Слеплю, матушка.
Содержательный разговор прервал скрип, резко открывшейся двери, донёсшийся из сеней и озорной женский смех:
– Ирод ты, а не служилый человек! Мог бы, и помочь из саней выбраться. Стоял там, в стороне столбом.
Затем стук каблучков об пол – хозяйка озорного смеха сбивала налипший на обувку снег.
Матушка всполошилась:
– Господи помилуй! Да что ж это твориться – то неделями никого, а здесь гость за гостем!
Дверь из сеней распахнулась и в полумраке матушкиной избушки объявилась Катерина, наряженная в ферязь на лисьем меху, с такими длинными рукавами, что даже завязанные по обыкновению сзади, они всё одно волочились по полу. На голову платок бархатный намотан, из-под которого выбился шаловливый локон, в руке муфта бобрового меха. Зайдя в дом, она всё ещё топала, сбивая снег с сапожек.
– Что вы здесь в темноте такой, как в гробу? На дворе солнце – аж глаза дерёт, а вы в этой норе.
Катерина вертела головой, силясь со света разглядеть хоть что-то:
– Дуня здесь? Ду-уня!
– Тебе чего надо? – Матушке сразу не понравилась эта разодетая хамоватая бабёнка. – Вошла, не крестясь! Ни тебе здравствия, ни «благослови матушка». Ножищами топ-топ! Кто? Где? Ты сама-то, кто такая будешь?
– Я – Катерина! Меня воевода прислал с припасами для аманатов. Ну, и вообще поспрашивать, в чём у обители нужда. Может, какая помощь пригодится.
Матушка, кряхтя и охая, поднялась со своей лавки, медленно подошла к Катерине вплотную.
– Это ты-то помощница, что ль? Нам бы воды принести, дров набрать, чугунки помыть. Мы тут с Дуней ещё для батюшки новую епитрахиль вышивать задумали, так надо ещё полотно выткать. За что возьмёшься, помощница? И дверь закрой – тепло выходит!
В углу за дверью кто-то хихикнул. Катерина, заглянув туда увидела, девчушку, вцепившуюся в метлу.
– Так ты вот где, – с интересом посмотрела на Дуню посланница, – я тебя едва не придавила.
Матушка одёрнула гостью за длинный рукав:
– Ты погоди с Дуней-то! Что там за припасы? Для каких ещё аманатов?
Пугала старую игуменью, так неожиданно свалившаяся на её голову, новая жизнь. Вроде и искала она важности для своей обители, но уж давно, как перестала о таком помышлять. Привыкла матушка из избы своей только к нужным делам выходить. И заботиться привыкла только о своём житье-бытье. Ну, насельницу-то она ещё как-то потерпит, но нагрянувшие с утра гости ввели старуху в замешательство. Аманаты ещё какие-то…
– Как там тебя? Катерина? Сказывай, о каких ещё аманатах я не знаю?
Катерина вошла вглубь комнаты, нашла лавку, брезгливо провела по ней кончиком пальца, но сесть не решилась, только повернулась лицом к матушке:
– Воевода кормёжку аманатов на обитель возлагает. Харч разный он присылать будет и, если помощь надобна, просит, чтоб обо всём ему сказывали. Меня же особливо просил за Дуней приглядеть. Чтоб первое время сама по округе не шастала.
Матушка направилась на свою лавку и шла при этом так неумолимо, что попавшаяся ей на пути, важно стоящая Катерина, вынуждена была отскочить в сторону – игуменья не преминула бы её оттолкнуть, появись удобный случай.
Сама же Катерина, отскочив, кивком головы позвала Дуню на выход.
– А этот, который с утра за забором топором стучит – не воеводский ли человек? – спросила игуменья, бухаясь на своё место у печки.
– Который? – задержалась гостья у двери.
– Будет тебе из старухи дуру делать! С которым ты вот только пересмеивалась!
– Мужик какой-то. Сосед вроде ваш. Если вы его не знаете, то чёрт его тогда знает.
Матушка схватила стоящую рядом миску и швырнула её в богохульницу:
– Не чертыхайся мне тут! – крикнула успевшей, с визгом, выскочить в сени Катерине.
Миска, упав, разлетелась на несколько черепков. Катерина, вернулась и заговорщицки протянула:
– Ду-уня! Идём помо-ожешь!
Дуня взглядом попросила у матушки разрешения.
– Иди уже – простонала матушка, – будто всё здесь без меня теперь решается.
Помогать не пришлось – воеводский холоп Кондрат, который довёз сюда Катерину, уже снёс все узелки да туески в сени и, забравшись на облучок, нетерпеливо ёрзал, оглядывался на дверь в надежде поскорей вернуться назад. Припрятанная утром, стянутая с воеводского стола солонинка, не давала ему покоя. Как бы не нашёл Терёшка конюх, в чью унту он и сунул наспех ту добычу. Терёшка спьяну не проснётся до полудня (если воеводе лошадь не понадобиться и не разбудит он конюха пинками). Но баба воеводская всё не торопится, а значит – драгоценная солонинка под угрозой!
Катерина вышла на крыльцо, дождалась Дуню, и они вместе направились к саням.
– Ну, как тебе здесь живётся?
Дуня пожала плечами. Она не была знакома с этой высокой прелестницей и немало её смущалась. Так же, как и матушку, её беспокоили неожиданные перемены в жизни. Всегда она знала, что одинока, беззащитна, а сейчас… сколько людей за последние два дня принимают в её судьбе участие! Как это случилось?
– Чего молчишь? Я же к тебе в подруги набиваюсь, а ты меня сторонишься! Боишься меня?
– Боюсь…
– Ну, это глупости! Уж я-то тебя не обижу. Завтра здесь буду с утра. Там в воеводской избе тунгус сидит. Ялымом зовут. Знаешь?
– Знаю, – опустила глаза Дуня.
– Андрей Леонтьевич желает, чтоб впредь аманатов с обители кормили, а матушка, понятно, в такую даль ходить не осилит – не с её ногами. Вот потому эта забота на тебя и ляжет.
– Мне нельзя отсюда выходить – меня назад уведут. Оленька Андреевна обещала, что здесь за мной присмотрят.
Дуня непонимающе смотрела на Катерину. Та, в свою очередь, не сводила глаз с мужика, который подставив лестницу, забирался на крышу слегка покосившейся соседской избы. С того самого, что с утра беспокоил насельниц монастыря своим стуком.
– Оленька Андреевна – это Фирсова? Сотница? – спросила Катерина. – Так она не обманула. Вон твой присмотр!
Рукой в муфте она указала на соседского мужика и крикнула:
– Елисей! А, Елисей! Поднести котомки не захотел, так может, в сани подсадишь?
Елисей, только переставил ногу с лестницы на крышу, задержавшись, посмотрел на зовущую его бойкую бабёнку, затем, опустив глаза, покачал головой и продолжил свою работу. Ему ещё предстояло починить прохудившуюся крышу, а с гвоздями была беда (нашёл в избе с десяток – на две доски) – тоже забота, а тут эта…
Катерина повернулась к озадаченной Дуне:
– Вот, он за тобой и присмотрит. Считай, что Ольга Андреевна, твоя, с ним и сговорилась. Его не бойся – будет рядом топтаться, да по сторонам поглядывать.
Пока Катерина устраивалась в санях, из трапезной вышла матушка.
– Слышь, нарядная! – окликнула она Катерину. – Видала, какая у нас темень-то? Скажи воеводе, что надо бы окна пузырём затянуть что ли. Не то в другой раз к нам заглянешь и ноги переломаешь.
– Скажу уж, – крикнула ей в ответ Катерина и аккуратно, носком сапожка, толкнула в спину Кондрата. – Поехали уже, а то вижу, неймётся тебе!
Кондрат с облегчением выдохнул, дёрнул вожжами и лошадь, тряхнув гривой, стала выворачивать сани вон со двора.
6
Елисей не стал откладывать на потом порученную ему работу. Сперва поспрашивал у людей, разыскал и монастырь, и по соседству с ним жалованный дворишко. Это и вправду скорее была обычная здесь оставленная зимовка – слегка покосившийся небольшой домик, без сеней. Такие во множестве, заброшенные, гниют по округе. Крыша, скорее всего, в дырах – под накрывшим её снегом не ясно. Два окошка заколочены, дверь, сброшенная с петель, прислонена к стене рядом. Зайдя внутрь, он обнаружил сложенную печку – уже хорошо! Изба построена с чердаком – тоже удача – даже если крыша сильно прохудилась её можно залатать, но без чердака сохранить здесь тепло было бы не просто. «Если задержусь здесь – сени пристрою!», – решил Елисей и направился в острог, за инструментом.
С утра, как только посветлело, он принялся за работу. Внутри домика стояла какая-никакая утварь: широкий стол, несколько лавок. Длинная полка, одним краем прибитая к стене, другим краем лежала на полу. Оставив себе одну лавку, всё остальное Елисей разобрал на доски – под крышей они неплохо сохранились – можно использовать их для ремонта. Повынимал из досок гвозди и собрал простенькую лестницу – надо же как-то забраться на крышу и отчистить её от снега.
Суетясь вокруг своего, так нежданно доставшегося, жилища, Елисей не забывал поглядывать на монастырские домики, притаившиеся невдалеке за оградой. Там тишина – ни звука, ни света. Только один раз, когда только начал он разбивать топором лавки на доски, показалось, будто хлопнула дверь, а после ещё раз,… Вот уже и дымок из дымника потянулся.
Обитель оказалась не такой заброшенной, как подумал Елисей сначала. То одни сани подъехали с утра, привезли шуструю бабёнку, то на других пожаловала Катерина – ох, и охальная баба, как её воевода терпит? Живёт монастырь.
Елисей, откинув сгнившую на крыше доску в сторону, закрыл получившуюся прореху, втащенной по лестнице новой доской, прижимая её к крыше грудью, прибил теми гвоздями, что вытащил из лавок. Надёжно не получилось – коротковаты гвозди.
– Не выходит? А, Елеска? – услышал Елисей чей-то голос.
Он завертелся, силясь понять, кто его зовёт, собранная наспех лестница поехала в сторону, и стрелец рухнул вместе с ней прямо в сугроб под стеной.
– Да что ж ты! – воскликнул голос и кто-то, подбежав, принялся вытягивать его из снега.
Елисей выбрался, стёр с лица снег и увидел перед собой Осипа Варламова, кузнеца, что пищаль отладить предлагал. Тот отряхивал с себя снег, притопывая ногами, похлопывая рукавицами и посмеивался:
– Точно в сугроб-от саданул. Ничего. Цел хоть?
– Да, цел. Лестница не ахти как собрана, вот и не устояла!
Стрелец отряхивал свой серый кафтан, чтоб не успел промокнуть. Верхний кафтан, на овчине, он загодя снял – без него работать сподручней.
– Ты вчера по острогу про эту-от зимовку выспрашивал. Так я-от сразу понял, что тебе помощь моя не помешает. Принёс тебе гвоздей хороших, топор-от принёс – знатный топор. Так, по мелочи, всякое ненужное-от в кузне собрал, – он пнул лежавший на снегу тяжёлый мешок, из которого опасно торчали в стороны какие-то железки, – посмотришь потом.
Осип уверенно направился в избу:
– Погляжу, как ты тут устраиваешься.
Зашёл внутрь осмотрел убранство:
– Ну, ничего. Крыша-от есть, печь есть. Ничего!
После вышел, обошёл избу кругом, похлопывал рукой по бревенчатым стенам, приговаривая: «Ничего!». Вернулся к Елисею, стал рядом с ним, по-хозяйски упёр в бока руки и оглядел стрелецкий дворишко: изба чутка, перекошена, крыша дырявая, окон – считай и нет, огорожа – кое-где сохранилась, нужная яма где – непонятно, а может и нет её совсем?
– А что, жить можно – сносный дворишко! Ничего!
Кузнец повернулся к Елисею, сняв рукавицы, почесал себе шею, где-то под густой бородой с проседью:
– Я к тебе, на пиво пока не напрашиваюсь – ты ещё долго-от обживаться будешь. После полудня могу подручного своего прислать. Подсобит, если что. Чего умолк? Оторопел?
– Оторопел понятно. Как-то привык всё сам. Спаси тебя Бог за подмогу и подарки! – Елисей поклонился, сняв шапку, и коснулся ей заснеженной земли. – А подручного не стоит утруждать – справлюсь.
– Будет тебе поклоны-то бить! Я не поп, а мы-от не в храме. Ты вчера хорошее дело сделал. За то тебе-от от меня и похвала,… да и не только от меня, – Осип огляделся ещё раз, осматривая двор. – Идти мне надо… но ты-от заглядывай. Понял? Заглядывай ко мне-от – пищаль твою всё ж поправить надо.
Кузнец, надевая рукавицы, направился прочь с Елескиного двора, осторожно ступая в протоптанные в снегу следы. Возле места, где возможно когда-то стояли ворота, а теперь, так же возможно, появятся новые, он остановился и, повернувшись к, до сих пор стоявшему на месте, стрельцу, громко сказал, погрозив пальцем:
– А ты-от бедовый парень, Елеска Юрьев! Что-то часто во всякую-от бузу суёшься! – так же посмеиваясь себе в бороду, повернулся и сделав с пято́к шагов, скрылся за наваленным на плетень сугробом.
Елисей смотрел ему в спину, затем поднял принесённый Осипом, мотанный-перемотанный разными тряпками, мешок с перевязью и понёс его в дом. Там развязав все узлы, он нашёл в мешке несколько ржавых ножей, топор, наконечники для пешни и багра, пару шильцев и крючков для кожи, отдельно завёрнутые большие гвозди, оковку для лопаты, оловянную миску и маленький котлишко – нежданное богатство.