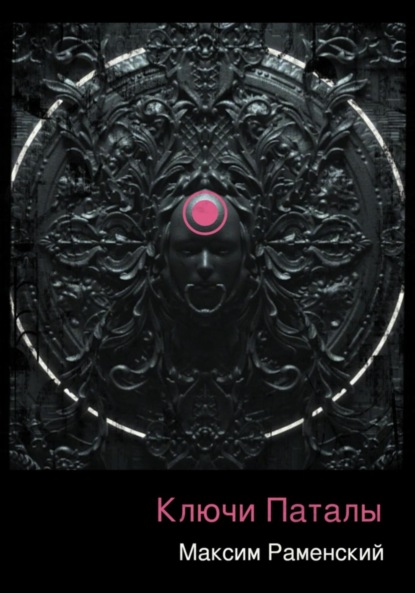- -
- 100%
- +
– Ну раз ты такой патриот, почему ж не на фронте? Не отстаиваешь, так сказать, интересы нашей великой идеи. Разве не хотел бы ты стать миссионером и нести свет «Сокрытия» в соседние, невежественные государства, где правящая технократия медленно губит народ?
– Я не могу выносить войну. Война – это грязь, кровь, болезни, всё самое худшее, что может вообразить здравый человек.
– Так ты выходит, пацифист? Правильно я понимаю?
– Можно и так сказать. В какой-то степени я пацифист.
– А как же тогда теория «красивой и благородной войны», о которой так любил говорить пан Веттинский?
– К сожалению, она не работает. Он не учёл, что если ты ведёшь войну по правилам, твоё правило вряд ли будет соблюдаться противником. Идея провальная с самого начала. Поэтому армия получила карт-бланш, и теперь всё, что за Рыдз-Смиглыйской линией, – полнейшее царство анархии, куда в жизни не сунется уважающий себя человек до тех пор, пока эти земли не будут очищены от скверного.
– Мне кажется, у тебя в голове масса противоречий. Наверное, ты из тех домашних философов.
– Пока думаю – живу. Не помню только, кто это сказал.
– «Cogito, ergo sum». Декарт, кажется.
– Может и Декарт… кто их, этих цитатников, разберёт.
Я заметил, что собеседница уже допила почти до дна, а я, увлёкшись разговором, сделал всего пару глотков. Такое со мной бывает постоянно: увлекаюсь разговором и забываю про еду и питьё. Иногда официанты подходят и спрашивают, всё ли в порядке с тем, что принесли. Надо наверстывать!
– Ян, – сказала она, улыбнувшись, – расскажи про свою работу. Что делает тебя таким…
(она улыбнулась) – изнеможённым?
– Я же сказал, что работаю в канцелярии. Со всей страны поступают заявки, жалобы, доносы, просьбы и прочее. Моя задача – всё это сортировать по нужным отделам для дальнейшего решения.
– Нервная, наверное, работёнка. А что будет, если направить не в тот отдел?
– Будет серьёзная путаница. Государство должно работать как часы. На нас огромная ответственность. Впрочем, я уже давно привык. Всё-таки не первый и не второй год в канцелярии работаю. А заявления всё однотипные. Правда, есть одна вещь, которая до сих пор выводит меня из себя.
– Что же способно вывести из себя такого человека?
– Отсутствие стандартизации. Понимаешь?
– Не совсем.
– Вместо того чтобы выбрать единую форму заполнения обращения, каждый пишет, как ему вздумается. Стоит ввести единый шаблон для заполнения и общий язык, скажем, идиш – его все более-менее знают, – и дело будет продвигаться быстрее. Я ведь писал с просьбой в руководство, но они каждый раз указывают на других работников канцелярии: мол, они спокойно работают, и ты успокойся, работай! А мне нет дела до того, как работают другие, понимаешь? Меня интересует то, какие условия работы у меня… – Я заметил, что мой тон заметно повысился, а Ани сидела слегка растерянной. Видно, пиво, выпитое залпом, слегка ударило в голову. – Извини, я немного разошёлся.
Выражение лица у неё стало таким, будто она что-то поняла.
– Люди у нас не любят изменения. Слишком уж привержены традициям. И ничего тут не поделать! Такова великая идея Государства.
– Так… кажется, я понял, к чему ты клонишь…
Флориан, заметив пустые кружки, вновь подошёл в наиболее неподходящий момент.
– Прошу прощения! Вам повторить?
После недолгой паузы одновременно прозвучало два положительных ответа. Я продолжил:
– Так вот, я понял, к чему ты клонишь! Намекаешь на то, что мы с тобой на одной стороне. Я знаю этот трюк – старый, как сама вселенная. Ты что, из оппозиционных агитаторов? Ты в курсе, что я могу с лёгкостью на тебя донести? Не боишься?
Доносить на неё я не хотел. Хотя, наверное, стоило бы.
– Во-первых, я обычно не намекаю, а предпочитаю говорить всё напрямую. Во-вторых, я просто человек, имеющий своё мнение. Но обсуждая его с тобой, невольно становлюсь агитатором. В-третьих, можешь на меня заявить: терять мне в этой жизни особо нечего!
– Я не стану ничего против тебя предпринимать! Даю тебе слово, что сегодня мы с тобой беседуем в первый и последний раз. Но раз уж ты занимаешь подобную позицию, не могла бы ты поделиться причиной такой нелюбви к идеям, изложенным в Сокрытии?
– О Боже, из всех тем ты выбираешь самые нудные. Неужели нельзя обойтись без разговоров о политике? Ведь мог бы просто поинтересоваться, чем в работе занимаюсь я.
– Извини за прямоту! Но мне правда любопытно, что же всё-таки привело тебя к такому мировоззрению.
– Раз уж на то пошло, я работаю в книжном издательстве. Да, всё вот так предсказуемо. Каждый день я наблюдаю, как раз за разом труды мировой классики проходят через девять кругов цензуры, прежде чем оказаться на полке. Из книг порой вырезают до половины текста – потому что то, о чём говорится на этих страницах, не соответствует должной «эстетичности». По мнению нашего правительства, литература должна нести в себе лишь свет, красоту и эту пресловутую эстетику. Милых дам, беседующих о любви на пикнике, мы, конечно же, оставим, а вот события в задымлённых промышленных районах, где процветает преступность и венерические болезни, мы, скорее всего, вырежем – дабы не омрачить мысли изнеженного читателя.
Флориан принёс новое пиво, и в воздухе вновь повисла тишина.
– Не понимаю, что плохого в цензуре. Литература ведь как скульптура: ты берёшь кусок мрамора и стёсываешь с него всё лишнее. В конце выходит шедевр! Ты ведь не указываешь маленьким детям на смерть. Так вот, это примерно то же самое. Есть вещи, о которых людям знать не стоит. Поэтому цензура – вещь столь необходимая.
– В корне с тобой не согласна! Мы уже давно не дети, и пора бы брать на себя ответственность. Довольно жить в своём мирке. Этот мир полон ужасных вещей, и они имеют право быть.
– Я бы предпочёл жить в мире, где количество таких, как ты сказала, ужасных вещей сведено к минимуму.
– Нельзя просто взять и свести их к минимуму. Всё в мире стремится к равновесию.
– Мне кажется, мы немного ушли от изначальной темы разговора.
– Все мои предки по материнской линии были писателями. Я тоже должна была бы им стать, но что-то не задалось. Моя мать была такой же, как и я. Всегда боролась за правду. Её книги не допускали к печати, каждый раз находя новые причины. Но она не сдавалась. Она не сдавалась до тех самых пор, пока перед ней не поставили выбор: либо отправиться на небеса, либо в вечное изгнание. Хороший нам попался следователь – обычно выбора не дают. Это были самые тяжёлые дни нашей жизни. Мы осознавали, что больше никогда не увидимся. Я пыталась её успокоить, но у меня это всегда плохо получалось. Перед депортацией она дала слово, что найдёт путь для нашего воссоединения. Я жду… и не знаю, как она…
Она пыталась выглядеть невозмутимой. Так, будто рассказывала эту историю уже в сотый раз. Но я понимал: это не игра, ей действительно тяжело.
– Ты сказала, твоя мать была писательницей?
– Да, верно. Как и моя бабушка.
– И какие-то её книги всё же издавались, верно?
– Да. Их было две. Фактически три, но одну быстро сняли.
– Если я правильно помню, по достижении определённого срока ты можешь подать на амнистию для своего родственника. В твоём случае можно опираться на то, что она была известным деятелем искусства. Если амнистия будет подтверждена, её найдут, поверь, и помогут вернуться обратно.
– Мы ведь оба понимаем, что это невозможно. Да и находиться ей здесь не стоит, наверное… как и мне. Но в моём случае что-либо предпринимать уже поздновато. Недавно я вышла замуж, у меня семья. Куда я двинусь?
Слова о том, что она замужем, почему-то вонзились мне в голову. Но я постарался не придавать этому значения. В конце концов, я не собирался заводить с ней роман. Хоть она и казалась мне привлекательной. Причём как-то по-особенному привлекательной. Мне чудилось, что эта привлекательность создана специально для меня. Я продолжил беседу:
– Там, за пределами Государства, всё действительно плохо. Там ужасающие перенаселение. Большинство работяг трудятся на льготных рабочих местах, занимаясь совершенно бесполезной работой – просто ради наличия рабочего места.
При том, работая, будь готова, что большая часть твоего заработка будет мгновенно улетучиваться в никуда. Потому что налогом обложено всё, кроме, наверное, воздуха. Люди там уходят в иную реальность, чтобы не наблюдать всего, что происходит вокруг. А если ты посмеешь хоть в чём-то упрекнуть тамошние власти, тебя мгновенно лишат доступа к твоей личности. Все данные о тебе будут стёрты. Тебя больше не будет существовать. Они закроют твои счета, ты больше не попадёшь к себе домой, твои родные и друзья не смогут с тобой контактировать из страха оказаться на твоём месте. Тебе даже подать никто не сможет. Считай, ты уже прижизненный покойник. А загрязнение воздуха там настолько велико, что без защитной маски и улицы не пройдёшь. Солнце иногда не проглядывает неделями.
– Откуда тебе всё это известно?
– Имел честь побеседовать с военными, вернувшимися с фронта. Да и книгу «Записки с Запада» отметать не стоит, хоть она и изрядно политизирована. Думаешь, у меня не было мыслей заглянуть за занавес? Поверь, там настоящий ад. Соваться туда не стоит!
Взгляд Ани наполнился страхом. Я понял, что лишь усилил её тревогу за мать.
– Впрочем, Ян, наверное, ты и прав. Делать там мне нечего. Я лишь по матери скучаю.
– Понимаю тебя. Я потерял своих родителей в совсем раннем возрасте. Я был взращён в детском доме.
– Удивительно… почему-то я сперва так и подумала. Вы немного иные, это трудно объяснить. А какой именно дом? Я дар речи потеряю, если девятый. У меня оттуда был один знакомый.
– Нет, мой был номер три, имени Станислава Сольского. А что за знакомый?
– Славный был парень. Случайно познакомилась с ним, не помню как именно. Он утверждал, что его детдом – это, наверное, худшее место в мире. Поэтому он постоянно сбегал и ночевал в разных малоприятных местах города. В один день он просто пропал. Больше я его не видела.
– Не могу сказать, что мой вариант хоть сколько-то отличался. Такое же мерзкое местечко. Подобные места пробуждают в людях их самые худшие качества, понимаешь?
– Кажется, теперь, Ян, я тебя понимаю. – Она посмотрела на часы. – Мне кажется, нам уже пора собираться. Как смотришь?
Я посмотрел на свои, а на циферблате было без пятнадцати семь. Пожалуй, действительно пора было расходиться по домам. Подозвав незнакомого официанта, я попросил счёт.
– Рад был с тобой поговорить, Аниела. Сегодня мне совершенно внезапно повезло с собеседником.
– Я, конечно, рада обсудить такие важные и сокровенные темы, но тебе не кажется, что мы расходимся на какой-то грустной ноте? Может, обсудим что-нибудь весёлое напоследок?
– Знаешь… Я всю жизнь делал грог на водке, а его, оказывается, делают на роме.
– Хорошо, это странно.
– Это первое, что пришло мне в голову.
– Неплохо! А знаешь, прочитай-ка ты вот это! – Она достала из сумки книгу в таком же чёрном твёрдом переплёте. – «Без догмата». Я уже её упоминала. Нахожу множество параллелей между главным героем и тобой. Думаю, тебе понравится. Если вдруг вновь свидимся – вернёшь. Впрочем, считай это моим тебе маленьким подарком. Надеюсь, он хоть сколько-то поможет тебе в жизни.
– Спасибо! Бумажных книг у меня не так много, а они весьма приятные.
Выйдя из паба, мы попрощались и разошлись в разные стороны. Бывают, однако, такие неожиданные знакомства. Думаю, Аниела из тех приятных людей, с которыми проводишь время и понимаешь, что больше никогда их не увидишь. Люди момента, как я их называю. Они появляются в твоей жизни, вероятно, что-то в неё привносят, а затем так же внезапно исчезают.
Зажав покрепче в руке новообретённую книгу – как я обычно делаю с ценными вещами в силу своей паранойи, – я двинулся по переулку в сторону Широкой улицы. Назвали её так не с потолка, а именно потому, что она действительно весьма просторная. Местами даже слегка напоминает маленькую уютную площадь. Хотя лично для меня слова «уютный» и «площадь» едва ли совместимы. С самого детства я страдал лёгкой формой агорафобии или, по крайней мере, чем-то на неё похожим.
Я внимательнее пригляделся к тому, что меня окружало. До этого я был сосредоточен лишь на том, как добраться до паба, и совсем не обращал внимания на всю невероятную красоту, сопровождавшую меня на протяжении пути по Старому городу. Домики, будто вырвавшиеся из сказок, стояли, опираясь друг на друга. Каждый имел ширину в три окна и свой неповторимый оттенок. На одной улице могло стоять десяток жёлтых домиков, и каждый последующий отличался по тону от предыдущего. А входные двери – это вовсе отдельная история. Каждая выглядела так, будто мастер посвятил ей всю свою жизнь. Если бы рай существовал, вероятно, одна из этих дверей была бы достойна разместиться на его пороге. Может быть, я излишне эмоционален в своих рассуждениях, и отчасти на это повлияли пару выпитых ранее кружек, но Старый город всегда был для меня местом, где я мог хоть ненадолго почувствовать, что этот странный мир, может быть, и впрямь обо мне заботится.
В одном из домов на Широкой улице располагается ликёрная фабрика «Лосось». Такое необычное название этому увеселительному заведению было дано по довольно тривиальной причине: до прихода Наполеона дома в городе не нумеровались. Для ориентировки на каждый дом вешали табличку с изображением животного. Тому дому, где теперь расположилось производство ликёра, достался лосось. Самым знаменитым напитком, производимым в этих стенах, по праву считается «Złota woda». Золотая вода говорит сама за себя: это крепкий ликёр, в котором содержатся частички золота. Когда ликёр наливают в рюмку, золотые хлопья вихрем кружатся в ней. Считается, что этот напиток появился благодаря художникам, которые, расписывая мебель сусальным золотом, макая кисточку в спирт вместе с частичками золота, однажды, я полагаю, решили, что это можно и даже нужно попробовать на вкус. Сам я золотую воду никогда не пробовал, однако она очень популярна среди недалёких умом толстосумов, верящих в алхимию. Считается, что потребление этого чудесного эликсира, особенно неразбавленного, избавляет ото всех болезней. Видимо, они думают, что сам факт дороговизны ликёра способен отпугнуть любые недуги. Хотя кто я такой, чтобы их осуждать – сами Папы Римские лечились такой водой.
А вот что я действительно употреблял отсюда – так это, конечно же, крамбамбули. Невероятный ликёр из можжевельника и бренди, один из символов студенчества. Даже сейчас, выпивая крамбамбули, я временами на минут сорок с головой накрываюсь этой беззаботностью, и все проблемы кажутся мелкими и недостойными внимания. Правда, потом эффект проходит, и жизнь вновь удушающе сдавливает тебя в своих объятиях.
В Широкую улицу впадает улица Святого Духа. На неё можно попасть, завернув за угол дома с лососем. Она примечательна лишь тем, что на ней родился и, вероятно, когда-то жил Шопенгауэр, мыслями которого я никогда не интересовался. У меня о нём заочно сложилось крайне плохое впечатление. Он немец, а я немцев крайне не люблю.
Я почти интуитивно вышел к площади перед ратушей. Здесь возвышается восьмидесятиметровая башня с очаровательным циферблатом. Раньше её венчала золотая статуя короля Сигизмунда Второго, но лет пять назад её убрали – уже не помню, по каким причинам. Возможно, даже само золото заржавело под гнетом нашей погоды. Эта ратуша была единственной доминантой в Старом городе до того, как перестроили собор Девы Марии и возвели Центральную синагогу. Здесь же неподалёку стоит бывший дом бургомистра – строение, глядя на которое, я всегда удивлялся невероятному количеству деталей на фасаде. Любой самый роскошный королевский дворец позавидует. Но даже сам бургомистр, которому скромность была явно чужда, не решился строить свой дом шире, чем в три окна. Таковы были старые законы. Лица статуй на доме, как полагается, закрыты белыми масками. Таковы правила нового времени.
Пройдя немного по набережной Мотлавы, неизменно переполненной людьми со всего Государства, просаживающими деньги в пабах и янтарных магазинах, путник обычно выходит на улицу Длугу, растянувшуюся от Зелёных до Золотых ворот. Зелёные ворота, к слову, уже много лет как не зелёные. Как и в случае с фабрикой «Лосось», название лишь символ былых времён. На Золотых воротах большими и чёткими буквами написано:
«МЫ СТОИМ НА ЗАЩИТЕ ТОГО, ЧТО БЫЛО СОТВОРЕНО НАШИМИ ПРЕДКАМИ!
МЫ СТОИМ НА ЗАЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!
МЫ СТОИМ НА ЗАЩИТЕ КРАСОТЫ И ПОРЯДКА!».
Пожалуй, точнее и не выразить!
Я остановился перед вратами. Вернее, что-то внутри меня заставило остановиться. Оглянувшись вокруг, я увидел людей, идущих в обе стороны просторной улицы. Каждый из них проживал свою неповторимую историю. У кого-то она была красочнее, у кого-то тусклее. Мы редко задумываемся об этом, воспринимая окружающих не более чем функцией в нашей собственной жизни. Люди проходили мимо – общались, смеялись, молчаливо устремляли взгляд вперёд. А вокруг меня словно возник неосязаемый купол, отделявший от всего остального людского рода. Причины его появления были мне, к сожалению, не до конца ясны.
Я взглянул на свои часы, затем на часы, висевшие над одним из заведений. Либо мои отставали на три минуты, либо те спешили. Надо было сверить с остальными. А время в тот момент было уже без пяти семь. Как бы приятна ни была прогулка по Старому городу, оставаться одному в людном месте мне не хотелось. Я двинулся к автобусной остановке.
В ожидании призрака я кинул взгляд на стеклянное здание, удачно вписанное в историческую застройку. В своё время такие градостроительные решения вызывали бурю негодования среди горожан, хотя я, например, всегда это поддерживал. Лекарства лечат, но если выпить их слишком много – со здоровьем можно распрощаться. Так же и с новоделами в центре: несколько таких зданий лишь придают городу шарма. Другое дело, если враг прорвёт линию фронта и доберётся сюда. Тогда с красотой этого города можно будет проститься окончательно. Каждый домик сравняют с землёй. Статуи переплавят или, в лучшем случае, выставят на аукцион, где их купят зажиточные бюргеры для своих спален или прихожих. Всё это великолепие, без сомнения, будет уничтожено, а на его фундаменте возведут убогие многоэтажки, подобные той, в которой живу я. Людей за пределами нашего Государства не волнует ничего, кроме личной выгоды, что закрывает им глаза и лишает души. Как же хорошо, что нас уберегли от ужаса, накрывшего мир в начале прошлого века. Теперь нам остаётся лишь бороться за свою свободу и культуру, вызывая зависть и, вероятно, крупицы надежды у всех вокруг. Таков наш крест – и мы его несём.
Между тем подъехал новенький S2, и свой внутренний монолог я закончил уже в нём. Мы довольно быстро покинули пределы Старого города, и череда оранжевых черепичных крыш осталась позади. За окнами тянулся пригород, заполненный однотипными четырёхэтажными домами. Четырёхэтажными – потому что это предельное количество этажей, на которое можно подняться пешком без вреда для здоровья. Эти дома, прозванные в народе «французскими», были приняты как единственно верные для застройки после множества экспериментов. Они стали верхом оптимальности. Даже площадь ванной комнаты рассчитывалась так, чтобы взрослый человек мог спокойно после душа вытереться полотенцем, не упираясь руками в стены.
Экспериментов было много. Собственно, в одном таком экспериментальном районе жил и я. Те дома, что в итоге заполонили пригороды, представляют собой проект французского архитектора Ле Корбюзье – отсюда и название.
Лично для меня всегда было оскорбительно, что наш город застраивается по проекту какого-то приглашённого француза. Но, с другой стороны, я понимал: наши архитекторы, воспитанные на ренессансе, барокко и ампире, просто не умели создавать массовое жильё. Их дома изобиловали архитектурными излишествами и имели огромные помещения. Государство, при всём своём желании, просто не могло позволить себе такую роскошь. А когда от наших архитекторов требовали что-то более практичное они махали рукой и выдавали нечто невнятное и совершенно убогое. Приученные же к суровым условиям жизни иностранцы старались использовать каждый сантиметр жилья. Именно поэтому тысячи домов Пана Корбюзье покрыли собой город. Наши же энтузиасты, несмотря ни на что, решили не оставаться в стороне и выдвинули собственную идею того, каким должно быть идеальное жильё для гражданина Государства. Так появился ужаснейший район Борково.
Борково расположено на южной окраине города и застроено так называемыми Топлхойзами. Эти строения представляли собой два дома двухэтажных частных дома, соединённых воедино и имеющих общий двор. По одним версиям это было сделано для экономии места, по другим – чтобы удобнее подслушивать соседей и при случае совершать донос. Разумеется, идея, как и многие другие, дальше экспериментального района не продвинулась. И неудивительно: подражая иностранным архитекторам, наши умельцы возвели белые коробки с хаотично врезанными маленькими окошками и плоской кровлей. Своя эстетика в этом, конечно, есть, но уловить её трудно.
А вот и въезд в мой район – полная противоположность Старому городу. Если в Старом городе я бывал редко, но любил его безмерно, то дорогу, соединяющую основную часть города с моим районом, я ненавидел всей душой. Здесь проходила значительная часть моей жизни, и ни одно место не вызывало у меня такой глубокой неприязни.
Жил я в большом пролетарском районе. Только вот тот, кто его проектировал, оказался великим шутником: вела сюда всего одна двухполосная дорога. Два раза в день – перед рассветом и перед закатом – эта дорога превращалась в мёртвую пробку. Приходилось вставать на час раньше, чтобы хоть как-то успевать на работу. Сколько лет минуло, а недосып продолжал меня изводить.
В тот вечер, приехав позже обычного, я пробки не застал. Одной из немногих радостей было то, что автобусная остановка находилась неподалёку от моего дома. Мой дом представлял собой тридцатиэтажное здание, напоминающее столб посреди поля. Его окружали такие же четырёхэтажные строения в форме квадрата с внутренними дворами. Дом этот было решено отвести под социальные нужды. Здесь селили реабилитированных преступников, бездомных и сирот. Я принадлежал к последней категории. Когда мне исполнилось восемнадцать, мне «великодушно» пожаловали однокомнатную квартиру на двадцать первом этаже. Число двадцать один я всегда любил – не из-за карточной игры, а по какой-то другой, самому мне непонятной причине.
Лифт медленно поднял меня до моего этажа в гордом одиночестве. Я позвонил в дверь, потом ещё раз. Никто не открыл. Странно: Марта уже должна была вернуться. Я достал из кармана когда-то подаренную ключницу, которая одновременно служила и домом для нескольких купюр.
Квартира представляла собой комнату, совмещавшую в себе спальню, кухню и рабочее место. Благо, санузел всё же вынесли в отдельное помещение. Несмотря на скромные размеры, квартира оставалась наполовину пустой – в этом была моя заслуга. Я терпеть не мог захламлённые пространства. У нашего народа есть странная привычка занимать каждый сантиметр площади. Кажется, дай им дворец – и через месяц каждая его комната окажется заставленной мебелью и вещами. Я же при первой возможности избавлялся от всего, что хоть немного походило на «лишнее». Для меня чем больше свободного пространства, тем лучше. Жаль только, что руки никак не доходили разобрать шкафы и тумбы. Годами они простаивали в ожидании наведения порядка. Но ничего – всё равно никто, кроме нас с Мартой, туда не заглядывал.
Рядом с рабочим столом стоял небольшой пятиуровневый стеллаж. На одной из полок лежала стопка книг. Всего их было четыре – вся моя бумажная библиотека, собранная за жизнь. Первой в очереди стояло, конечно же, «Сокрытие». За ним следовал сборник рассказов Франца Кафки. Трагична была судьба у Кафки: эмигрировав за границу, он так и не сумел найти себя в новом обществе. За недолгую жизнь он издал всего несколько сборников коротких рассказов. Я слышал, что оставшиеся его труды по завещанию были сожжены после смерти, и писатель так и остался известен лишь в крайне узких кругах. От этого мне всегда становилось печально: его стиль письма мне по душе.
После Кафки на полке стоял жуткий нуарный детектив о пятерых следователях, решивших раскрыть мистическое и запутанное преступление до рассвета. Я так и не смог дочитать эту книгу до конца, но знал, что в финале никто из них не останется в живых. У меня есть странная привычка: открывая новую книгу, первым делом перелистываю на последнюю страницу и читаю её.
И последним стоял «Этюд в багровых тонах» Артура Конан Дойла. Тоже детектив, кажется, первый из серии о Шерлоке Холмсе. Когда-то давно мне его подарили.
Теперь и труд Пана Сенкевича занял своё достойное место на полке. А почему бы, собственно, и не почитать? Я не был особо голоден, дел у меня не было. Сначала я отодвинул стул за рабочим столом и уже собирался включить красивую лампу, стилизованную под старину, но вдруг понял, как сильно ослаб и устал. Лучшем решением было читать на кровати.