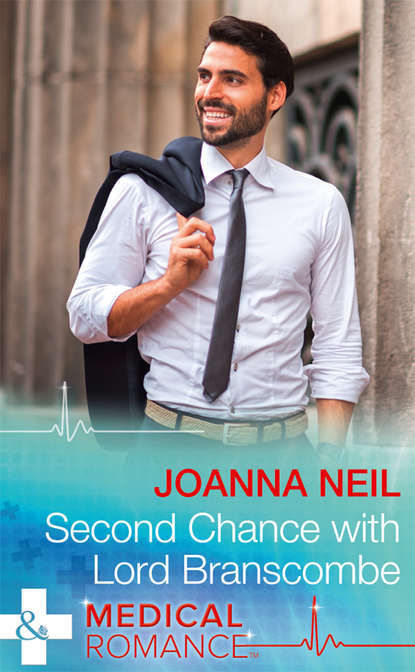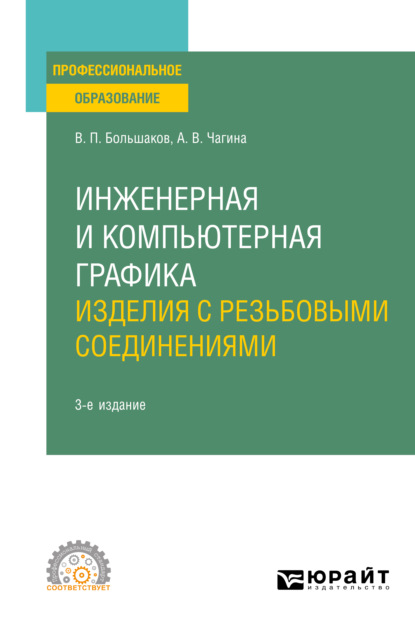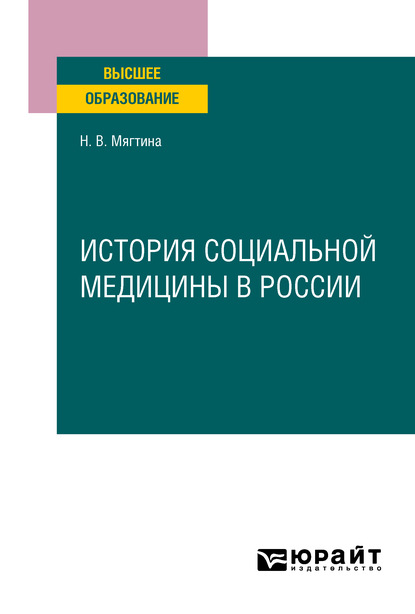Марсианский курьер

- -
- 100%
- +

Глава 1
У моего кофейного автомата есть принципы. У меня – график. Мы оба считаем, что правы, поэтому каждое утро начинается с переговоров.
– Отказано, – сообщил экран тёплым янтарным светом. – Нарушение протокола чистоты. Код 04.
Я прижал лоб к прохладной панели и на секунду позволил себе роскошь не думать. В жилом модуле пахло озоном, старым пластиком и чуть-чуть – чаем из вчерашнего термоса. На Марсе этот запах означает «дом»: не романтика, а исправно работающая вентиляция и фильтр, который ещё не просит внимания.
За окном висел грязно-рыжий туман, а над ним – тонкая пылевая радуга. Красиво ровно настолько, чтобы не хотелось открывать лишние окна в настройках собственного настроения.
– Сомелье, – сказал я, стараясь звучать уважительно, но с достоинством. – Это не грязь. Это патина. Благородный налёт вчерашнего пуэра.
Автомат тихо гудел, обрабатывая аргумент. Модель «Бариста-7» с поведенческим модулем была капризной, как оперная дива на пенсии: если ты просто нажмёшь кнопку, получишь кипяток со вкусом горелой проводки. Если ты вежлив – получишь кофе. Если ты слишком вежлив – он начнёт воспитывать.
– Вино в мыльный бокал не льют, – высветилась надпись.
– Это арабика, а не Шато Марго, – сказал я, но всё же взял тряпку.
Протереть керамику – десять секунд. Сказать «пожалуйста» – ещё две. Я не люблю лишние движения. Я люблю кофе. Это основа моей профессиональной этики: делать ровно столько, сколько нужно для комфорта, и ни джоулем больше. Комфорт – это когда техника работает, и мне не приходится геройствовать.
Я протёр чашку. Потом ещё раз – на случай, если Сомелье сегодня в философии. Поставил под носик, посмотрел в камеру чистоты и, не моргая, сказал:
– Пожалуйста.
Сомелье смягчился. Раздалось уютное бульканье, и в чашку полилась густая чернота. Запах был правильный: синт-корица, лёгкая горчинка и честный марсианский металл. На Земле бы сказали «дефект воды». На Марсе это называют «характером планеты».
Я сделал первый глоток и проверил вторую важную вещь – ботинки. Сухие. Если ботинки сухие, значит, день ещё не решил шутить грубо.
Комм на запястье пискнул – коротко, без театра. Разнарядка.
Обычный контейнер. Сектор 12. Забрать с «Северного Хранилища» и сдать на узловой станции «Каналы-3» с актом и пломбой. Окно – до 08:20.
Я нажал «Принять» и, чтобы день не начал думать, открыл связь с диспетчерской. Ерунда в эфире – как смазка: без неё всё скрипит.
– Даша, – сказал я в микрофон. – Жива?
– В процессе, – голос диспетчера был привычно сухим, но без металла. Даша умела говорить так, будто она лично придерживает небо над куполом, чтобы оно не упало на наши маршруты. – Тим, задача простая, не усложняй.
– Я не усложняю. Я разглаживаю.
– Тогда разгладь так, чтобы без заявок. У тебя в пакете будет бумага. Много.
– Бумага не спорит.
– Спорит, если её печать слишком красивая, – сказала Даша и сделала паузу ровно на пол-дыхания. – Ладно. Едь. И не опаздывай к окну.
– Принял.
– И чай не забудь, – добавила она уже человеческим голосом. – Ты без чая становишься философом.
– Я без чая становлюсь участником обсуждений. Это хуже.
Связь щёлкнула и оборвалась. Я допил кофе одним глотком. Плохая привычка. Хорошие привычки у меня только те, что экономят время.
Термос я всё-таки взял. Чай – это страховка от собственного характера.
Грузовой терминал встретил меня привычным лязгом и запахом смазки. Тут всегда пахнет так, будто у Марса есть суставы, и их регулярно смазывают, чтобы планета не скрипела. Мой вездеход стоял в доке – старый, обшарпанный «Мул» с характером и не любящий обновлений. Он подрагивал на холостых оборотах, как собака, которая уже видит поводок.
Дверь отъехала в сторону чуть быстрее обычного. «Мул» узнал меня. Это не мистика, это пилот-профиль в модуле: старые машины помнят тех, кто не заставляет их доказывать свою правоту каждую минуту.
– Привет, старик, – сказал я, хлопнув по панели. – Сегодня без гонок. Просто ящик и чай.
«Мул» мурлыкнул – негромко, но с достоинством. Я люблю, когда техника разговаривает так: без крика, без отчётов и без «обновите прошивку для повышения безопасности». Повышение безопасности – это увеличение числа экранов, которые надо подтвердить. Я и так знаю, что я в опасности: я живу.
Контейнер ждал на платформе. Синий куб, трёхтонник, полезная нагрузка – «неопасный, но капризный». Такие любят считать себя центром мира. Я развернул манипуляторы, зацепил магнитные захваты и потянул.
Стрелка нагрузки прыгнула в красную зону. «Мул» кренило влево – аккуратно, но упрямо, как будто он показывал мне, где у него граница терпения. По накладной вес был распределён равномерно. На деле – нет.
– Ну чего ты начинаешь? – сказал я в боковое окно, глядя на синий бок. – Мы же не на свидании, чтобы драматизировать.
Контейнер, разумеется, молчал. Это был «ревнивец» – модель с активной гироскопической стабилизацией. Если ты не уделишь ему внимания перед погрузкой, он будет вести себя как мешок кирпичей на льду всю дорогу. А потом ты приедешь, и кто-нибудь спросит, почему подвеска стала грустной. И начнётся.
Я выключил двигатель. Вылез из кабины – медленно, чтобы не дать ревнивцу почувствовать победу. Подошёл и провёл ладонью по холодному ребристому боку. Металл был гладкий, а под ним, где-то внутри, жил тонкий гул гироскопа – как тихое возмущение.
– Хороший ящик, – сказал я. – Крепкий. Поедешь в тепле, на мягкой подвеске. Никакой тряски. Обещаю. И я не буду разговаривать с другими контейнерами. Сегодня только ты.
Это обычно работает лучше любых команд. Железо на Марсе любит ласку больше, чем смазку. И, если честно, мне тоже проще считать, что у него есть характер. Так меньше приходится объяснять миру, почему я разговариваю сам с собой.
Гул внутри стал тише и ровнее. Я вернулся в кабину, снова потянул рычаги – контейнер поднялся легко, словно был набит пухом. «Мул» удовлетворённо вздохнул. Этот вздох – отдельный язык: «ладно, Тим, я согласен жить сегодня без приключений».
У выдачи стоял кладовщик – седой мужчина с глазами цвета марсианской пыли. Он протянул мне планшет и бумажный пакет документов.
– Подпиши.
– Опять бумага? – поморщился я, беря ручку. – Сеть же работает.
– Работает, – спокойно сказал он. – Но бумага не ломается от плохого настроения.
Я люблю, когда люди говорят простыми словами. Это редкость. Обычно они говорят канцелярскими формулировками, и у тебя сразу возникает желание спрятаться в склад и жить там вместе с коробками.
Бланк был обычный: номер, маршрут, вес, класс – нулевой. Я расписался, забрал пакет и, прежде чем убрать его, быстро пробежал глазами нижний край. Привычка. Бумага – как обувь: лучше проверить сразу, чем потом выяснять, что где-то что-то натирает.
Нижний край был нормальный. Печать выпускающего контроля – обычная, слегка уставшая, с крошечной «соплёй» чернил на букве. Я даже почувствовал облегчение, будто кто-то подтвердил: мир ещё помнит, что он живой.
– Пломба? – спросил кладовщик.
– В пакете?
– В пакете.
Я достал пломбу. Маленькая, номерная, в футляре. Металл холодил пальцы. Я люблю вес пломбы: это маленькая честность в мире, где всё любят называть «процессом».
Я подошёл к контейнеру, щёлкнул пломбой на петле и пару раз потянул. Держит. Потом, не удержавшись, протёр датчик замка рукавом: пыль у нас умеет быть юридически изобретательной.
– Всё, – сказал я контейнеру. – Мы официально вместе.
Контейнер промолчал. Но «ревнивцы» молчанием тоже разговаривают. Если он не качнул массой в ответ, значит, принял.
Я упаковал документы в нагрудный карман. Бумагу сложил вчетверо – люблю этот плотный хруст настоящего документа – и прижал ладонью сгиб, как будто успокаивал не лист, а собственный мозг.
– Тим! – крикнул кладовщик вслед. – Не опаздывай.
– Я не опаздываю, – ответил я. – Я просто иногда приезжаю вовремя не в то место.
Он хмыкнул. «Мул» мурлыкнул. Я выехал на трассу.
Первые пять минут я всегда еду без радио. Это ещё один ритуал: дать машине и себе «сойтись» в одном темпе. Если включить музыку сразу, «Мул» начинает выбирать треки «под настроение», а его настроение иногда слишком бодрое для моего графика.
Ревнивец держался спокойно, но я всё равно чувствовал: он слушает. Не ушами – массой. Как кот, который делает вид, что ему всё равно, но знает, сколько раз ты моргнул.
Через пару километров я остановился в кармане у дороги – там стоял сервисный столик с набором ремней и перчаток, такой обычный, что его даже не считают инфраструктурой. Просто место, где люди делают вид, что всё контролируют.
Я вышел, обошёл контейнер, проверил крепления. Ремни были натянуты ровно. Но один карабин чуть-чуть «дышал»: не опасно, просто неприятно – как пуговица, которая держится, но просит внимания.
Я подтянул ремень на два щелчка и остановился. Иногда самое важное в работе – вовремя остановиться на два щелчка. Потому что если не остановишься сейчас, потом остановишься на три часа.
Ревнивец не шелохнулся. Это было хорошим знаком. Я положил ладонь на холодный бок, не для мистики – для уверенности.
– Спасибо, – сказал я, хотя мне никто не обязан. – Давай без сюрпризов, ладно?
В ответ внутри, очень тихо, стал ровнее гул гироскопа – или мне так показалось. Мне вообще часто кажется ровнее всё, что я заранее попросил быть ровнее. Это удобное суеверие: экономит нервы.
Я проверил карман: бумага на месте, сгиб плотный, хруст честный. Пломба на контейнере цела. Пара секунд – и уже легче дышать. Бумага делает мир плоским и понятным, и в этом её главный талант: она не спорит с твоим представлением о реальности.
Я залез обратно в кабину, сделал маленький глоток чая – не потому что хочется, а потому что так положено, как отметка «проверка выполнена». Потом включил радио.
Дорога до «Каналов-3» обычно занимает сорок минут, если пустошь вежливая и ветер не просит внимания. Сегодня пустошь была приличной: пыль висела в воздухе тонкой мукой, свет от неё становился мягким. Кабина «Мула» мурлыкала, подвеска работала ровно – ревнивец, похоже, оценил обещание не изменять ему с другими грузами.
Радио заиграло «джаз пустошей» – ветер, который научили быть вежливым. Я люблю эту музыку за то, что она не требует участия.
Я сделал уже нормальный, человеческий глоток чая. Чай был тёплый и чуть горький. Утро без тёплого – это не утро, это рабочее мероприятие.
На подъезде к шлюзу комм пискнул: сообщение от Даши. «Окно держат. Поторопись. Не спорь с охраной».
Очередь была небольшая: две машины и один человек, который стоял рядом со своей дверью и нервно теребил ремень. Он смотрел на створки шлюза так, будто те сейчас вынесут ему вердикт.
Я притормозил рядом.
– Первый раз через «Ласкового»? – спросил я через приоткрытое стекло.
Человек вздрогнул, как будто его поймали на мысли.
– Ага… – сказал он. – Я… я опаздываю. Они меня не пустят?
– Пустят, – сказал я. – Если не будете выглядеть так, будто вас сейчас вынесут в протокол на руках.
– А как я выгляжу?
– Как человек, который заставит шлюз «обнимать» вас дольше, чем надо. Он реагирует на нервных. У него это… забота.
– Издевательство, – буркнул человек.
– Забота всегда слегка издевательство, – сказал я. – Смотрите. Дышите медленнее. И не делайте резких движений, когда створки пойдут. Он не любит, когда его пугают.
Человек попытался дышать медленнее. Получилось плохо, но лучше, чем было.
– Вы курьер? – спросил он, заметив мой знак.
– Тим, – сказал я. – Курьер. Профессионально ненавижу очереди.
– А я… я просто… у меня бумага, – он поднял папку, как щит. – Мне сказали, что без неё обратно.
– Бумага полезная, – сказал я. – Её хотя бы можно положить ровно и знать, где она. С людьми так не работает.
Он неожиданно улыбнулся. Улыбка вышла кривой, но человеческой. На Марсе это всегда хороший знак: значит, человек ещё не превратился в функцию.
Охранница тем временем смотрела на нас так, будто мы устроили тут кружок общения по интересам. Я поднял руку в знак «всё под контролем» и въехал вперёд.
– Документы, – сказала она, когда подошла моя очередь.
Я развернул акт на стойке. Бумага шуршала сухо и приятно. Охранница пробежалась глазами по строкам.
– Тим, – сказала она, будто проверяя слово на вкус. – Ровно держишься.
– Я стараюсь, – ответил я. – Это дешевле ремонта.
Она вернула бумагу и кивнула на створки.
– Проезжай.
Когда я въезжал, я краем глаза увидел, как тот нервный человек тоже перестал дёргать ремень и чуть-чуть выпрямился. Пусть это будет моим маленьким вкладом в экономику времени: если шлюз обнимет его на минуту меньше, у меня появится минутой больше шанс успеть к чаю.
Шлюз вздохнул, створки начали закрываться. Я подвёл «Мула» к рамке и вполз внутрь со скоростью улитки. «Ласковый» любит, когда его не пугают. Если влететь на скорости, датчики решат, что это аварийная разгерметизация, и устроят тебе длинный разговор с процедурами.
Внутри пахло озоном и стерильностью. Лампы сменили цвет с тревожного на спокойный зелёный. Где-то в механике прошёл тот самый глубокий вздох металла – как будто кит на глубине решил, что можно жить дальше.
– Тише, дружок, – сказал я негромко. – Мы в графике. Я хороший.
«Мул» мурлыкнул в ответ. Контейнер не дёрнулся. Шлюз выпустил нас с тем чувством, будто обнял ровно настолько, чтобы можно было потом не вспоминать.
На узловой станции «Каналы-3» было тихо. Слишком тихо. Тишина, как дисциплина: чистая, ровная, без лишних звуков. За стеклом у канала лежал туман – настоящий, неровный, с дырками, как мысли у человека без чая. И именно поэтому туман казался единственным живым.
Я выгрузил контейнер. Ревнивец не скрипнул, не дёрнулся, даже не попытался показать характер – будто понимал, что сейчас лучше не спорить, иначе его назовут «нестабильной единицей». Техника тоже умеет делать вид, что она примерная.
Принимающий менеджер был молод, безупречно причёсан и очень рад тому, что всё в его мире можно измерить линейкой. Он просканировал код на борту и протянул руку.
– Пломба? – спросил он, не поднимая головы.
Я наклонился к замку, показал номер. Менеджер сопоставил его с экраном, кивнул и протянул мне одноразовый резак – такой маленький, что кажется игрушкой, пока не понимаешь, сколько им перерезали чужих «мелочей».
Я щёлкнул пломбой, металл сухо звякнул о лоток. Царапинка на боку мелькнула и исчезла в его аккуратном мире. Менеджер подвинул лоток в сторону, будто убирал не железку, а лишний шум, и только после этого снова посмотрел на бумагу.
– Документы.
– Вот, – сказал я и положил акт на стойку. – И ещё один лист, чтобы вы почувствовали себя нужным человеком.
Он не улыбнулся – он просто принял это как должное. Люди с линейкой внутри редко улыбаются: улыбка неровная.
Менеджер развернул бумагу и довольно кивнул.
– Отлично. Сейчас поставим отметку.
Он достал печать.
Я увидел её ещё до того, как она коснулась бумаги, и внутри у меня что-то неприятно щёлкнуло. Это была не новая печать и не аккуратная. Это была печать, у которой будто отобрали право на человеческую ошибку.
Круг – идеально круглый. Чернила ложились ровным слоем, без микропробелов. Буквы – геометрически выверенные, холодные. Даже там, где у обычного штампа есть крошечная дрожь от руки, у этого была уверенность инструмента, который никогда не торопится и никогда не устает.
Менеджер шлёпнул оттиск и поднял лист, любуясь.
– Красота, – сказал он. – По новому стандарту. Наконец-то одинаково.
Слова были простые. И от этого становилось хуже: простые слова легче принимаются.
Я посмотрел на оттиск ближе. Чернила не пахли. Вообще. Ни намёка на тот слабый запах, который у живой печати всегда остаётся – как память о пальцах, о краске, о том, что кто-то здесь был и хотел домой.
– Очень ровно, – сказал я.
– Так и должно быть, – менеджер был доволен собой, как человек, который сделал мир чуть правильнее. – С этим меньше вопросов.
– С этим меньше людей, – сказал я уже громче. Не как лозунг – как наблюдение, которое случайно вырвалось.
Менеджер поднял глаза.
– Что?
Я пожал плечами.
– Ничего. День такой. Пыль в горле.
Он, кажется, решил, что я из тех курьеров, которые любят философствовать в рабочее время. Это обидное подозрение. Но спорить с чужими подозрениями – тоже работа, а у меня сегодня другой маршрут.
Он протянул мне ручку.
– Подпись.
Я расписался. Моя подпись вышла живая, чуть кривоватая, с крошечной спешкой. Я даже не пытался исправить. Пусть будет видно: здесь был человек.
Менеджер расписался в ответ – быстро, небрежно. И эта небрежность вдруг оказалась утешительной: значит, не всё в нём отдано линейке.
На планшете загорелся зелёный огонёк: «Доставка выполнена». Репутация чиста. График соблюдён. Задача закрыта. Это лучший вид счастья: короткий и без свидетелей.
Я забрал свою копию, сложил её вчетверо и сунул в карман. Бумага приятно хрустнула. Я провёл пальцем по сгибу – ритуал, который успокаивает. Бумага – вещь благодарная: ей всё равно, что ты думаешь о мире, она просто лежит там, куда ты её положил.
Я сел в кабину «Мула» и, как всегда после закрытия задачи, снял ботинки на секунду – проверить, не предал ли меня день. Носки были сухие. Значит, можно считать, что утро прошло без катастроф.
Я достал лист и ещё раз посмотрел на идеальный круг печати. Край был гладкий, как стекло. Чернила не пахли. Оттиск был настолько правильным, что казался наклеенным поверх реальности.
Идеальный круг на бумаге почему-то казался тяжелее трёхтонного контейнера.
– Ну и красота, – сказал я в пустую кабину. – Такая, от которой хочется протереть стол.
«Мул» мурлыкнул, будто соглашаясь. Я включил радио, и ветер снова стал саксофоном. Я сделал глоток чая. Чай был чуть горче, чем утром. Это нормально: день уже успел кого-то выровнять.
Я положил бумагу обратно и поехал дальше. Впереди было сорок минут пути и абсолютное отсутствие необходимости совершать подвиги.
Только вот эта идеальная печать на моём маршруте почему-то не хотела отпускать.
Я проехал пару сотен метров, прежде чем понял, что держу руль слишком крепко. Это был тот редкий момент, когда задача закрыта, а внутри всё равно что-то осталось «не закрыто».
Я снова достал лист – не потому что надо, а потому что пальцы сами ищут подтверждение, что неприятное настоящее. Бумага шуршала так же честно, как и всегда. Сгиб был плотный, как маленькое обещание: «всё на месте». Внизу, под строками, сидел идеальный круг. Он не смазывался, не цеплял палец, не оставлял на коже запаха. Слишком чистый.
Я убрал лист обратно, прижал карман ладонью и прислушался. В кабине всё было как всегда: лёгкое мурлыканье «Мула», мягкое дрожание дороги, музыка ветра. Вещи, которые работают, когда ты с ними разговариваешь нормально.
За стеклом бокового окна туман у канала снова лежал неровно, как будто его рисовали рукой. Пылевая радуга уже почти растворилась, оставив только намёк. Я поймал себя на том, что ищу в ней кривизну – и радуюсь, когда нахожу.
– Поехали, – сказал я «Мулу». – У нас впереди чай. А с красотой разберёмся потом.