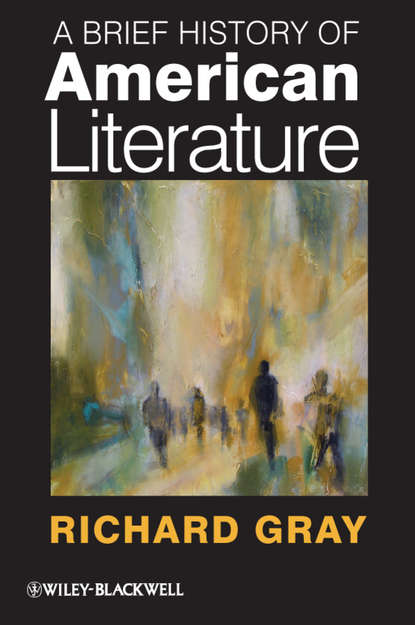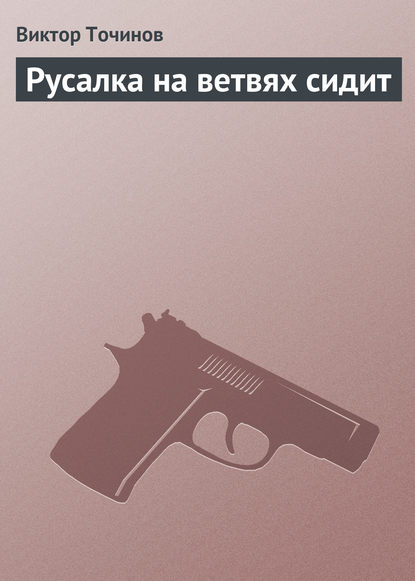Город-герой

- -
- 100%
- +
8
Понимая и осмысливая всё случившееся и всё настоящее, город беспокоился о грядущем. Как и люди, живущие в нём. Как беспокоилось и всё живое, бывшее в нём. Составляющее его.
А в нём всё было живое. Он не признавал в себе никаких мёртвых материй и энергий. Во всём была жизнь, в каждом человеке и в каждом камне.
Сама жизнь на Земле обладает поистине бесконечным множеством форм – в любой материи. Природой заложено так, что нет в мире нигде неживого пространства, всё живёт и излучает свою энергию. Сама Земля была призвана излучать в этот мир своё особое тепло, умножая потоки энергии радости, мира, а главное – любви. А без любви любая материя в этом мире становилась мёртвой.
Беспокойство, растущее в нём, было совсем другого рода, не такое, каким оно обычно проявляется у людей. Над городом грозно нависала предопределённость.
Он чувствовал через колебания и вибрации земли и воздуха, как в суетной жизни людей ревели и рождались в дыму и грохоте железные механизмы, моторы, оружие и материалы, несущие ему смерть. Как в бесконечном океане вспышек и энергий причудливыми волнами и потоками, огибающими планету, пробуждались замыслы и намерения людей, нацеленные на уничтожение всей накопленной в нём любви и жизни.
Он мог увидеть и осознать своё будущее. Но, в отличие от того, как это происходит у людей, будущее, сгущающееся над ним, не имело той власти неотвратимого и неизбежного рока, которого никак нельзя было избежать. Он был способен спрятаться от этой страшной силы, угрожающей ему. Уйти на время в другие, более тонкие и менее материальные, слои бытия. Он мог предотвратить это страшное грядущее, отвести от себя и пустить стороной все ожидающие его испытания – испытания болью, разрушением, гибелью и последующим возрождением.
Но город остро чувствовал необходимость всего того ужасного, что должно было с ним произойти. В этой необходимости скрывался выход на совершенно другой, новый уровень и смысл его существования.
В ближайшее время ему предстоит сделать выбор. На чашах весов лежало с одной стороны будущее, с другой – настоящее. Он мог либо избавить себя от такого будущего, которого он страшился, не хотел, чтобы оно наступило. Тогда его настоящее могло спокойно жить дальше, почти так, как и жило. Либо – принять грядущие испытания и пожертвовать своим безмятежным настоящим ради великого будущего. Выбор этот, недоступный и неподвластный никакой человеческой воле на этой земле, мог сделать только он сам.
Город знал, что разрушительные силы всё равно отыщут выход. Они не могут по своей природе, родившись, не иметь точки своего приложения, своего пути. Поэтому если город отведёт все грядущие беды от себя, то они, эти силы, перегруппировавшись и распределившись, найдут себе новую жертву.
Ход истории и ход времени, сделав тогда на нём небольшую петлю, пойдут хоть и немного другой дорогой, но дальше и прямо, подминая и изменяя всё, что будет стоять у них на пути. Ибо никогда город ещё не видел, чтобы время и история останавливались и топтались на месте. Они могли ускориться, могли замедлить своё движение, но остановиться – никогда.
Город знал, что в разные времена другим достигшим определённого уровня городам приходилось делать такой же выбор и менять свою уже предопределённую историю на новую.
Но он также понимал, что уничтожение его настоящего рождает его новое будущее. И главным здесь была живая память.
Не столь важно, какое земное имя он будет носить в будущем. Та память, которая останется на земле о нём в его будущем, всё равно будет неотделима от живой сути его настоящего.
И ради этого, ради памяти, ради будущего, ради возрождения в бесконечной борьбе жизни со смертью, он сделал свой выбор.
Город решил, что всем своим настоящим он вступит в бой с грядущим – за своё будущее. Что весь этот готовящийся чудовищной, небывалой до сего момента на земле силы удар он примет на себя.
9
Прячась от направленных, как ему казалось, прямо на него ударов рвущихся снарядов, отчаянно петляя, старший лейтенант ускорил бег.
«Жить! Что угодно, только жить!» – стучало в его голове.
Изрядно пробежав в сторону, шарахнувшись от очередного разрыва в двадцати шагах от него, продравшись сквозь заросли кустарника, цепляющегося за его липкую от пота гимнастёрку, словно чьи-то крючковатые пальцы, старший лейтенант забрался на какой-то бугор. Бугор оказался бруствером. И он свалился в окоп, чуть ли не на голову сгрудившимся в нём солдатам.
«Неужели немцы?» – испуганно пронеслось в голове.
Но он успокоился, разглядев, что в окопе были незнакомые ему, но однозначно наши бойцы. До него донеслось насмешливое, сказанное в сторону, вроде и не к нему относившееся:
– До чого ж гарно драпав, с…чий сын. Як шалений заец![2]
Это сказал усатый здоровяк, недобро разглядывающий его теперь. На его словно сажей перемазанном лице как-то неестественно ярко выделялись блестевшие белками глаза. Так же нестерпимо для старшего лейтенанта на этом закопчённом лице белели зубы, которые здоровяк скалил, нагло ему улыбаясь. По знакам различия старший лейтенант определил в нём старшину.
В окопе было пятеро, все какие-то неимоверно чумазые. Трое рядовых чуть в стороне возились каждый со своим оружием. Ещё двое – этот старшина и высокий молодой боец, младший сержант. Старший лейтенант как раз и свалился в окоп между этими двумя. Он стоял меж ними, тяжело дышал и разглядывал их.
Что-то чувствовалось не строгое, не военное в этой странной группе. Какая-то не армейская независимость и скрытая лихость читались в их фигурах и поведении.
«Не бойцы, а банда какая-то, – мелькнуло у старшего лейтенанта. И тут же его осенила догадка: – Разведка, похоже…»
– Товарищ старший лейтенант, – обратился к нему младший сержант, – вы не заблудились? По-моему, вы не в ту сторону бежите.
Несмотря на всю недвусмысленность сказанного, это получилось у него совсем не дерзко, а как-то предупредительно.
«Почему они себя так ведут? Я ведь самый старший по званию здесь. Они не имеют права и не смеют так со мной обращаться. Подозревать меня в чём-то, намекать, спрашивать о чём-то в таком тоне», – крутилось у него в голове.
Вспыхнув, старший лейтенант хотел повысить голос, свой замечательный, густой, командный голос и урезонить этих наглецов.
Но, посмотрев в какие-то бездонные, отдающие холодной синевой и затаённой, неведомой силой глаза этого младшего сержанта, старший лейтенант понял, что не сможет ни соврать ему, ни притвориться.
– Бежать надо туда, – продолжал меж тем младший сержант, показывая в сторону балки. – И мы туда побежим. Вы с нами?
Неожиданно для себя старший лейтенант с жаром возразил ему:
– Туда не надо. Там же немцы, там их танки.
Усатый здоровяк при этих словах громко хмыкнул.
«Что я такое говорю? – лихорадочно завертелось в голове старшего лейтенанта. – Они же сейчас всё поймут. Надо взять себя в руки».
Но вслух он почему-то жалобно прошептал:
– Мне нельзя туда, меня там убьют.
– Да ну его к лешему! – взорвался вдруг старшина. – Ты что, не видишь, товарищ не в себе…
И, подойдя вплотную к старшему лейтенанту, он бесцеремонно потянул того за пояс, завозился там чего-то, приговаривая:
– Вам оно и не надо, пожалуй, а нам сгодится.
Старший лейтенант не сразу понял, что здоровяк по-хозяйски отвязывает с его пояса вторую противотанковую гранату. Он вспомнил, что гранаты выдавали одну на двоих, а он зачем-то взял себе сразу две и был очень горд этим. Про вторую гранату он совсем забыл. Здоровяк сунул её себе за пояс.
Младший сержант что-то говорил ему, но старший лейтенант ничего не понимал. Кровь прилила к его лицу, в глазах туманилось. Стыд гнал его прочь. Он начал пятиться, полез спиной из окопа, а поймав, как ему показалось, сочувственный взгляд замолчавшего младшего сержанта, резко развернулся и побежал прочь. Прочь от этих насмешливых, наглых и злых не то солдат, не то разбойников, которые, один за одним перемахивая через бруствер, устремлялись вперёд. Туда, где безраздельно хозяйничала смерть. Туда, куда он никогда уже не побежит.
Он помчался от этого окопа наискось, в сторону КП[3] и исходных позиций. Когда он, сделав большую дугу, пробежал приличное расстояние, совсем рядом с ним усилились свист и протяжное завывание, потом очень кучно забухало. Земля начала взрываться, вспениваясь буро-зелёной массой дёрна и песка. Старший лейтенант остановился. Потом в испуге заметался на месте, не решаясь бежать дальше.
Рвануло совсем рядом. Его оглушило проникающей до всех внутренностей упругой и горячей волной. Слух выключило. Падая, будто сквозь густую, непролазную вату, старший лейтенант почувствовал, как чем-то тяжёлым ударило в голень, потом в бедро. Нога сразу онемела. Потом, словно разогретой докрасна ручной пилой, его наотмашь шоркнуло сбоку, по виску. Погас свет, и пустая темнота поглотила его полностью.
10
Темнота и тоскливая пустота постепенно отступили. Пожилой врач, осматривая его сегодня, отметил, что восстановление «идёт очень прилично» и что «рана теперь очень хорошая». Но главное, он сказал:
– Такими темпами, товарищ младший сержант, вы скоро отправитесь на фронт.
Иван не мог сдержать своей радости:
– Скорей бы!
Хотелось к своим, хотелось туда. Драться! Его город держится из последних сил. И ему надо защищать его.
Иван вспомнил, как он первый раз отправился на фронт.
В холодном ноябре сорок первого, в самом конце месяца. Младшего сержанта он получил по окончании курсов в Астрахани. В Сталинград приехал в новой форме. Он не застал Ольгу дома, когда заезжал домой перед отправкой. Тогда он успел попрощаться только со своими домашними.
Всегда шумная Варенька стояла очень тихо и с удивлением разглядывала его военную форму, не узнавая в ней брата. Он обнял её, поцеловал в макушку и серьёзно обратился к ней:
– Присматривай тут за родителями, а мне письма пиши почаще.
– Хорошо. Я за ними присмотрю, – тихо, подрагивающим голосом пролепетала Варюша. – Я тебе много-много писем отправлю. Только ты мне тоже пиши.
Сергей Михайлович ободряюще улыбался ему, и только в глубине его глаз прятались боль и беспокойство за сына. Александра Ивановна хоть и крепилась, но не смогла сдержать слёзы. Иван обнял их всех сразу. Старался успокоить маму, шутил, что он упрямый и вредный, а с такими на войне никогда ничего не случается. Говорил, что обязательно вернётся и ещё заставит их всех плясать на своей свадьбе.
При упоминании свадьбы лицо у мамы чуть просветлело. Она улыбнулась и сказала:
– Какой ты у меня ещё мальчишка несерьёзный! На войну собрался, а всё о свадьбе думаешь.
– Как это несерьёзный? – в шутку обиделся Иван. – Да что вообще может быть серьёзнее свадьбы после окончательного разгрома врага!
– С Олей-то увиделся? – спросила мама.
– Нет. Уже и не успею. Её в городе нет сегодня. Только папу её, Сергея Васильевича, застал у них.
– Очень жаль, – озабоченно покачала головой мама.
– Ну всё, мне пора, – заторопился Иван, поглядев на часы.
Лица родителей сразу стали совершенно по-детски растерянными и беспомощными. Они начали суетиться, пытаться что-то собрать и сунуть ему с собой. Видно было, что они никак не могут справиться со своей растущей в этот тяжёлый час расставания тревогой. Острой тревогой всех родителей на этой земле за своих детей. Тревогой вечной и постоянной. Тревогой, глубоко скрытой в повседневной жизни, незаметной, укрываемой заботами и хлопотами, но извлекаемой из этой глубины в минуты расставаний. Особенно когда будущее так неясно и так грозно.
Во все времена нестерпимо страшно родителям провожать детей своих на войну. И нет таких слов, чтобы описать, как холодеет и сжимается сердце матери, вырастившей сына и отдающей его в эту неизвестность по немыслимому требованию слепого и злого рока, по внезапно осознанной необходимости и неизбежности. С той минуты, когда уйдёт их ребёнок туда, не будет для родителей покоя. Всё их время превратится только в горячее и беспокойное ожидание возращения сына домой. И соткано это время будет только из отчаянной надежды.
– Какие же вы у меня всё-таки маленькие, – глядя на родителей, с нежностью сказал им Иван.
Он и сам не смог бы объяснить, почему назвал родителей именно «маленькими», но их это вдруг очень рассмешило. Блестя мокрыми глазами, мама улыбнулась и обхватила тёплыми ладонями его голову, наклонила к себе и расцеловала в обе щёки. Отец крепко сжал ему руку и, глядя в глаза, твёрдо произнёс:
– Бей врага, сын. Защищай и береги нашу Родину, достойно исполняй свой долг. Будь настоящим мужчиной.
Отец говорил ему это так торжественно, как это часто звучало в те дни. Но Иван понимал, что, несмотря на такие высокопарные и общепринятые слова-лозунги, отец был искренен. Он обнял отца. Сергей Михайлович, не сумев сдержать дрогнувший голос и скрыть повлажневшие глаза, добавил:
– Но и себя, Вань, пожалуйста, сбереги… Вернись к нам, сынок…
Потом был вокзал, и переполненный шумными новобранцами вагон повёз его на запад. Рота, в которую Иван попал с пополнением в декабре сорок первого, до этого, ещё летом, участвовала в составе своей дивизии в боях за Киев. Потом осенью дивизию переформировали, так как в октябрьских боях под Вязьмой, попав в окружение, она погибла почти вся.
С декабря сорок первого по июль сорок второго они уже воевали на Юго-Западном фронте. В июле сорок второго их дивизия ещё была в составе 64-й армии, а с августа сорок второго перешла в состав 62-й армии.
Лёжа в тёплой палате-землянке госпиталя, Иван думал о том, как порой им приходилось туго. В самые первые его дни войны они дрались с немцами в страшнейшие морозы, бывало, по грудь в снегу.
Он никак не мог отчётливо выделить из памяти свой первый бой. Когда он был? Когда он в первый раз попал под бомбёжку? В тот день их поезд с новобранцами, почти приехав на пункт распределения, подвергся атаке с воздуха.
Поезд резко затормозил и остановился, и Иван с другими солдатами каким-то чудом под невыносимое завывание, треск и оглушающие разрывы успел выпрыгнуть из вагона. Его спас Юрка Рогов, знакомый, учившийся, как и Иван, на автотракторном механического, но в параллельном потоке. Они случайно столкнулись на вокзале и очень обрадовались друг другу.
Когда Иван застыл, стоя на месте и слушая, как воют самолёты и взрываются бомбы, Юрка первый опомнился и потянул его из вагона. Они вдвоём и ещё несколько солдат отбежали в сторону до того, как их вагон накрыло фашистской бомбой. Никто из оставшихся в том вагоне людей не уцелел.
Нет. Та бомбёжка не могла считаться его первым боем. Это было совсем не то. Никакого боя не было. Только безотчётный страх, парализовавший его полностью. Только смерть вокруг. Он впервые увидел её так близко от себя. А ему просто повезло. Он выбежал из вагона, тем и спасся. Они решили с Юркой, что всегда будут стараться держаться друг друга. Им казалось, что только так им будет везти в дальнейшем, как повезло в тот день остаться в живых.
Но, увидев так близко от себя смерть, он всё же тогда её не почувствовал. Теперь он вполне понимал, что это такое. Впервые он увидел и по-настоящему почувствовал, что такое смерть, не там – под первой своей бомбёжкой, а перед своим «настоящим» первым боем.
В тот день они готовились идти в первую свою атаку на немецкие позиции. Без артподготовки, без поддержки авиации, по голой степи. Зато немцы их расстреливали как в тире – и с земли, и с воздуха. Лежали рядом с Юркой, вжимаясь от разрывов в холодную твёрдую землю. Оба жалели, что не успели выкопать себе укрытие поглубже. Потом – тишина, хотя в голове у Ивана продолжало шуметь. И вроде прозвучала команда подниматься в атаку. Цепь наших бойцов уже была впереди. Юрка подскочил и побежал за ними. Иван поднялся и побежал за Юркой. Вот уже показались зигзаги немецких траншей, когда весь шум в голове Ивана перекрыл нарастающий вой летящей мины. Показалось, что воздух вокруг него наполнился свистящим и воющим металлическим скрежетом. Совсем рядом, чуть впереди, где бежал Юрка, – взрыв! Прямое попадание. И вот она, первая смерть, которую увидел и почувствовал Иван. Это была смерть Юрки. Сначала всё заволокло дымом. Иван упал, потом резко поднялся. А после увидел, как впереди из дыма и вспенившегося снежного фонтанчика вылетают какие-то лохмотья. Когда всё осело и улеглось, Иван осторожно приблизился к воронке, по краям которой на снегу горели розовые пятна. А в самой воронке лежало нечто бесформенное. До пояса почти был Юрка, вернее, угадывался. Ивану показалось, что он даже почувствовал его запах. Это был запах пота, смешанного с дымом и мёрзлой землёй. А потом, ниже пояса, – ничего не было… Рядом раскуроченным прикладом вверх валялась Юркина винтовка. Иван медленно обошёл воронку, не в силах оторвать глаза от этого ужасного бесформенного комка. От того, что ещё несколько секунд назад было Юрой.
Его охватила нервная дрожь. Хотелось развернуться и побежать прочь от этого страшного поля. От этой ужасной воронки. От того, что осталось от Юры. Но мимо него пробежал красноармеец с винтовкой, направленной штыком вперёд, со стороны всё сильнее накатывало «Ура-а-а!».
Всё это невольно подсказало Ивану да и многим другим не обстрелянным ещё новобранцам, что нужно делать. Иван побежал вперёд. Он бежал, совсем не разбирая, куда бежит, не пригибаясь и не смотря под ноги. Потом свалился, кувыркнувшись в немецкую траншею, штыком зацепился за лежавший в траншее труп. Когда падал, наткнулся ещё на одно тело убитого – нашего или немца, он так и не разобрал.
«Тогда и начался мой самый первый бой», – подумал Иван.
Он на самом деле очень плохо помнил подробности того своего, именно первого для него, боя. Когда был бой, помнил. А каким он был, этот бой, не мог вспомнить. Прошло столько времени. И столько всего с ним произошло уже после.
В этом первом, совсем безотчётном бою у него всё лихорадочно запрыгало перед глазами, как будто он понёсся куда-то в немыслимой свистопляске. Он совсем ничего не соображал от возбуждения и страха. Но именно тогда ему показалось, что им впервые овладела какая-то неведомая сила. И это был не страх. Эта сила, действуя отдельно от него, соединила всего его, с головой, руками, ногами и с его винтовкой, в одно целое. Это уже был не он, а совершенно другой человек. И этот начавший отдельно от его воли действовать другой человек нёсся вперёд. Выбрасывал на бегу короткие вспышки выстрелов, дико размахивал руками и бешено что-то вопил. Заколол ли он кого-нибудь штыком, застрелил ли он тогда хоть одного немца? Вряд ли. Скорее всего, он просто стрелял и лупил в пустоту да по появляющимся перед ним неясным теням, а может быть, и по телам убитых. Он холодел сейчас при одной только мысли, что в той горячке вполне мог пырнуть штыком или выстрелить и в своего.
Более-менее он помнил только, как закончился для него тот бой. Когда стрельба и разрывы начали стихать, что-то с силой ударило его по каске. Он упал, потом вскочил. Сорвал каску и увидел на ней глубокую вмятину.
Вечером в переполненной бойцами, наполненной махорочным дымом землянке, которую ранее занимали фрицы, Иван начал осознавать, как ему сегодня повезло. Не убило, не ранило, не покалечило. Уже засыпая, он пытался понять, как всё же сумел преодолеть свой страх. Да и сумел ли? Преодолел ли? В этом Иван не был уверен и теперь.
Тот первый его бой стал для него тяжёлым, но необходимым испытанием. Тогда он понял, что надо уметь вовремя брать себя в руки. На войне только это и зависело от него самого. А на всё остальное он никак не мог повлиять.
Ночью, придя в себя, Иван сам вызвался идти на место гибели Юрки, чтобы похоронить его. Вызвался и сразу испугался, подумав: «Как же я там, в этой тьме кромешной, буду рыться в том, что осталось от Юрки, искать его документы? Смогу ли?» Старшина не разрешил этого сделать. Стыдно об этом вспоминать, но он тогда обрадовался, что старшина не разрешил.
«Стоит ли считать своим первым боем всё это?» – думал Иван.
Или первым его боем стоит считать тот, который был позже, когда они, проталкивая себя через глубокий снег, бежали, не чувствуя обжигающего холода, по перекошенному белому полю? Бежали прямо на бивший по ним пулемёт. Прорубались через красный от крови снег, перемахивая через упавших. Тогда он так же, как и в первый раз, свалился во вражеский окоп и тут же разрядил, наверное, треть диска своего ППШ в живот выскочившему ему навстречу из серого тумана немцу.
Немец завыл от боли, выронил автомат и, схватившись двумя руками за изодранный пулями живот, согнулся, осел и повалился на бок. Прислонившись к стенке окопа, он весь скрючился и, поджав к груди ноги, затих, вздёрнув вверх заострившееся, совсем ещё мальчишеское лицо.
Как страшно, больно и одновременно противно стало Ивану в тот момент! Впервые он отнял у человека жизнь. Пусть это была жизнь врага, который сам, своими ногами пришёл сюда, чтобы растоптать нашу Родину, и не задумываясь лишил бы жизни самого Ивана. Но горечь и понимание бессмысленности и неправильности любого убийства человека навалилось в тот миг на него и долго не отпускало. Да и отпустило ли?
Тогда ему не дали об этом долго раздумывать. Сбоку, вплотную к нему, выскочили ещё две тёмные фигуры немцев. Иван с ходу, вложив всю силу, двинул прикладом своего ППШ ближайшего к нему прямо в переносицу. Немец, не успев вскрикнуть, опрокинулся на спину. Второй напрыгнул на Ивана, обхватил его за шею и, сопя, как паровоз, прямо в лицо, начал его душить. Невыносимое зловоние ударило Ивану в нос. Падая и увлекая за собой противника, он вывернул и, крепко перехватив обеими руками руку немца, заломил её. Он тянул и тянул немцу руку, а сам совершенно не представлял, что будет делать с ним дальше. Немец взвыл от боли, но завозился под Иваном, выворачиваясь. Только тут Иван увидел, насколько фашист был крупнее и, очевидно, сильнее его. Всё могло бы кончиться в тот день очень печально для него, если бы не подоспевший их старшина, богатырь Николай Охримчук, разведчик. Старшина на бегу чётким ударом сапёрной лопатки успокоил немца. Это слово, «успокоил», Иван потом часто слышал от самого Охримчука. А тогда, цепко, оценивающе оглядев Ивана и валяющихся рядом в окопе фрицев, старшина буркнул ему:
– Жив? Ну добре… – и побежал вперёд.
После этого боя Иван и попал в разведку, в группу к Николаю Охримчуку. Потом это многое определило в его военной судьбе.
Но всё это было потом.
А вспоминая всё это сейчас, в госпитале, Иван так и не смог себе ответить: каков был его первый бой?
Может быть, его первый бой так и не закончился по сей день и ещё долго-долго ему продолжаться?
Был ли в нём тогда страх и есть ли он в нём теперь?
Конечно, он был и никуда не делся. Но Иван решил для себя, что он не будет больше бояться своего страха. Он старался использовать свой страх, перегоняя его в азарт, злобу, оживление и быстроту реакции.
Конечно, страх на войне может быть разный. Бывает тупой и безотчётный, захватывающий человека целиком, парализующий его волю. Люди, подчинившись такому страху, в минуту опасности уже не могли вести себя достойно. Такой страх мог привести к несвоевременной смерти, приводил он и к предательству, и к дезертирству, и к самострелам.
Последнее особенно сильно поразило Ивана, когда он в первый раз увидел таких «раненых». Их было четверо. У троих отрублено по одному пальцу, у одного пулевое ранение в руку. Они говорили фельдшеру: «У нас над окопом разорвалась вражеская граната, и всех нас ранило, нас надо в госпиталь». Фельдшер, обработав им раны, взял линейку и тщательно замерил входное отверстие тому, у которого было пулевое ранение. Он, видимо, всё понял, потому что сразу позвонил в штаб дивизии и попросил прислать военного следователя. Следователь, когда пришёл, определил состав преступления – членовредительство. Приговор здесь был обычный – расстрел. Но его часто заменяли отправкой в штрафную роту.
Иван думал, что его страх смерти всё же был не такой слепой и безотчётный. К нему добавлялось что-то злое и упрямое, заставлявшее его перешагивать этот свой страх.
Ещё в школе, когда он читал и перечитывал потом любимые батальные части «Войны и мира» Льва Толстого, ему врезалось в память описанное великим писателем отношение русских солдат к опасности во время войны с французами. Перед боем им было «страшно и весело».
Только потом он смог понять, как это, когда «страшно и весело». Он часто, думая об этом своём любимом необъятном романе, который был весь пропитан особой глубиной и правдой, примерял на себя описываемые в нём события и поведение главных героев: «А как бы я сам повёл себя в той или иной ситуации? Не струсил бы?»
Особенно он выделял в романе князя Андрея Болконского. Смог бы он так же, как князь Андрей, приказать себе: «Я не могу бояться», когда тот невозмутимо, не обращая внимания на пролетавшие над ним пушечные ядра, шагал под страшным огнём французов между своими орудиями и спокойно делал свою ратную работу?