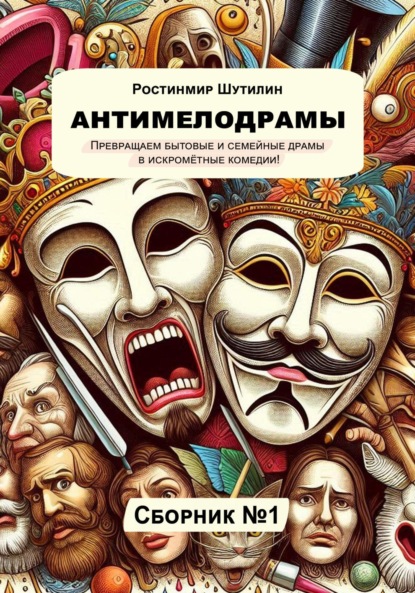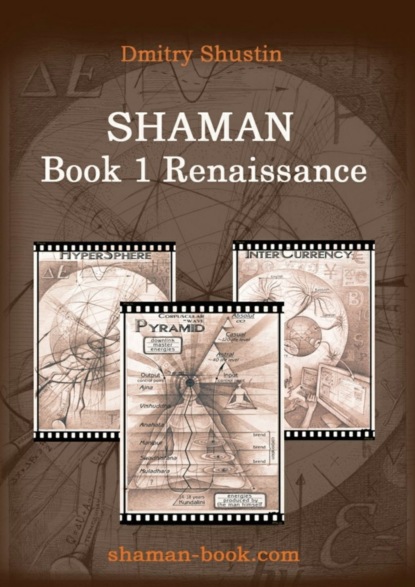Ноябрь в Париже

- -
- 100%
- +

Глава 1
Субботним вечером Макс шёл по набережной. Ветер возле Сены был пронзающий, тонкий, почти колючий, и вместе с ним моросил дождь – будто кто-то сверху посыпал город мелкой ледяной пылью. Листья на деревьях ещё не опали. В Париже осенью они приобретают особый оттенок: не яркое золото, не тёмную медь, а мягкую, чуть приглушённую смесь, словно нарочно созданную слиться с серостью неба, с влажным холодом, с камнем мостов. Он никогда не думал, что листва может быть такой гармоничной с дождём. Раньше он вообще не любил дождь. Но в Париже город будто раскрывается именно в такие дни, дышит глубже, медленнее, честнее.
«Интересно, это я стал тем, кто способен видеть в этом красоту, или это сам Париж так устроен, что даже сквозь мрак умеет быть эстетичным? Раньше я не замечал этой атмосферы», – подумал он.
Даже запах жареных каштанов из тележки Ашана странным образом вписывался в эту картину. В другом городе он бы назвал это дешевым уличным ароматом. Здесь то же самое становилось частью ритуала – как будто город сам держал в руках невидимую кисть и наносил последние штрихи на вечер.
«Кажется, я не смогу жить в другом городе. Он стал слишком родным. Словно прирос ко мне, стал частью моего характера, моих реакций, моих мыслей», – продолжал он размышлять.
Париж со всеми своими недостатками был единственным местом, где все казалось на своем месте. Город умел толкать в одиночество, но делал это так, что ты не протестовал. Наоборот, принимал этот холодный комфорт, даже если периодически он начинал раздражать.
Одиноких людей здесь было видно постоянно. На набережных сидели мужчины и женщины с багетом под мышкой, с книгами Камю, читающие будто бы специально медленнее, чем можно. Вечерние бегуны неслись по мокрым дорожкам, слушая аудиокниги, не желая перегружать ум ничем поверх реальности. В Люксембургском саду кто-то мог часами просто сидеть под деревом. Но никто из них не выглядел потерянным. Это было одиночество другого рода – не как отсутствие людей, а как способность быть с самим собой без истерики, без попыток заполнить пустоту чем угодно.
Где-то вдали звучала румынская музыка. Чуть громче обычного. Из-за поворота вырывались крики велорикш:
«Такси, такси!»
Он всегда замечал, что они включают музыку в первую очередь для себя. Туристам от этого было ни холодно ни жарко. «Не думаю, что кто-то прилетает в Париж слушать румынские мелодии», – усмехнулся он про себя. «Если бы они ставили Эдит Пиаф, жизнь у всех была бы проще. Туристы получили бы свою легенду о старом Париже, а эти ребята – больше клиентов».
Но ни у тех, ни у других не было времени вдумываться в такие тонкости. Каждый крутил свои педали. Буквально и метафорически. Наверное, вечером этот работник вернётся домой, откроет банку пива и станет рассказывать другу забавные истории о туристах, которые кричали, смеялись, путались в направлениях. Вряд ли он будет рассуждать о нуждах клиента или о том, как увеличить средний чек. Чтобы об этом думать, нужны амбиции, нужна рефлексия. А если их нет, вполне достаточно крутить педали до заката и раствориться в темноте вместе с городом, так и не поняв, зачем вообще была эта поездка. Сколько людей живут так же – не понимая маршрута, но неизменно движутся вперёд.
Так размышляя, Макс остановился на мосту Pont Neuf. Он всегда останавливался здесь в такие моменты, будто его мысли сами выводили его на этот самый участок камня. Мост был как точка проверки, к которой он возвращался, чтобы сравнить самого себя прежнего и сегодняшнего.
Он долго смотрел на Сену, на воду, которая в пасмурные вечера казалась тяжелее обычного, плотнее, глубже. Дальше, над серыми крышами, виднелась башня – будто одинокая игла, указывающая направление в небо, даже если никто не спрашивал.
И в такие минуты у него возникало странное чувство.
С одной стороны – благодарность. За то, что он здесь, в Париже. За то, что смог выстоять, закрепиться, пробить себе место под дождливым небом города, который редко принимает в семью новых людей.
С другой стороны – тихий холод одиночества. Нота сомнения: стоило ли это всего, чего он лишился по дороге? Он уже почти забыл, что значит быть по-настоящему в компании, быть частью чьего-то мира, а не наблюдателем собственных мыслей.
И всё же он стоял здесь и смотрел на город, который стал его испытанием и его домом одновременно.
Макс продолжал стоять на Pont Neuf. Ветер с Сены пронзал лицо острыми иглами, а лёгкий дождь превращал брусчатку в блестящие зеркала, где отражалась ночная жизнь Парижа. Свет от фонарей дробился на лужах золотистыми и серебристыми бликами, будто город разбрасывал по воде мелкие монеты, прося внимания, но не слишком настойчиво. Вдалеке угадывались мягкие очертания Эйфелевой башни, немного растворённые в тумане, и Лувр светился так, словно его окна были не источником света, а глазами огромного, думающего о вечности здания.
Он прислонился к каменному парапету. Камень был холодным, как будто держал память о дожде и истории одновременно. Мост казался живым существом – старым, спокойным, терпеливым. Pont Neuf. «Новый мост», который давно перестал быть новым, но сохранил в себе ту уверенность, которая появляется лишь с временем. Его арки видели столько, сколько не увидит человек за несколько жизней: королевские кареты, толпы мещан, бурлящие революции, дуэли на рассвете, встречи любовников под редкими фонарями XVIII века. Макс вспомнил, что здесь когда-то устраивали шумные рынки: продавцы книг, художники, мастера без мастерских собирались на ступенях моста. Здесь рождались разговоры, которые никто не записал, картины, которые никто не сохранил, и стихи, которые рассеял ветер.
Каждая плита под ногами была словно страницей книги, по которой прошлись тысячи. Он чувствовал, что если провести ладонью по камню, можно ощутить слабый отклик прежних голосов. В этих плитах жила наслоённая память: шаги студентов XX века, шёпот влюблённых XIX, тяжесть солдатских сапог времён Империи. Всё это лежало слоями, как краски на полотне, на котором каждый век добавлял свой штрих.
Слева вдоль Сены тянулись лодки-кафе. На их палубах вспыхивали фонари, будто маленькие островки света на чёрной воде. Откуда-то изнутри доносилась приглушённая музыка, вплетаясь в звук реки. Ветер нес запах мокрого камня, влажной древесины лодок, слабый аромат кофе и дыма от уличных фонарей. Макс вдохнул глубоко, почти резко, как человек, который хочет удержать в себе момент, чтобы потом, в одинокие дни, достать его из памяти и почувствовать снова.
Мост казался метафорой слишком очевидной, но оттого ещё более точной: соединение двух берегов, двух времён, двух состояний человека. Прошлое и будущее, боль и принятие. Он стоял на этой линии, понимая, что здесь можно позволить себе быть честным – хотя бы на время. Жизнь текла, как вода под арками: никто не мог остановить её, но каждый мог попытаться понять направление.
Он поднял взгляд на Лувр и башню. В этот момент память, будто открытая дверца, выпустила несколько образов: улицы его детства, запах дешёвых подъездов, первые успехи, первые провалы, те, что режут, как снег по щекам. Здесь, на Pont Neuf, у него возникло ощущение, что его путь оказался похожим на структуру самого моста: слой за слоем он соединял себя прежнего с собой будущим. И всё это было частью одной архитектуры.
Он заглушил в себе волну сомнений и пошёл дальше. Движения были плавные, но не ленивые. Скоро ему исполнится тридцать четыре. В ноябре.
Возраст странный: прошлое уже не держит, выпустило, как птицу из клетки, а будущее перестало быть тем пылающим горизонтом, что манил, когда тебе двадцать. Оно стало более ровным, спокойным, как дорога, по которой идёшь без иллюзий, но и без страха.
Худощавый, с прямой осанкой, в классической одежде – Макс выглядел человеком, который заставил себя собраться. Не потому, что хотел произвести впечатление, а потому что понял цену распущенности. В походке была уверенность, выработанная годами контроля, но внимательный взгляд мог заметить кое-что ещё: остатки старой пластики, чуть вороватой, будто когда-то он двигался иначе. Это не походка преступника, а человека, привыкшего к настороженности, к жизни там, где расслабленность дорого стоит. Такие следы не исчезают. Они как шрамы – не портят, но напоминают.
В глазах у него была усталость. Не от возраста. От количества прожитых жизней. Некоторые люди проживают одну, осторожно и методично. Он прожил несколько, одну поверх другой, и каждая оставила свою выжженную отметку. Он просто выгорел раньше срока – тихо, без спектаклей.
Ветер снова коснулся его лица. Холодный, влажный, парижский. И на короткий миг ему показалось, что внутри стало тише.
Как будто город сказал ему: «Ты ещё здесь. Этого достаточно».
По старой лестнице он спустился на набережную Сены. Каменные ступени были неровными, отполированными тысячами шагов, и дождь сделал их скользкими, будто время само решило предупредить его: идти нужно медленно. Макс ступал осторожно, слушая тихий, почти еле уловимый звук собственных шагов, словно этот звук был единственной нитью, связывающей его с реальностью. На воде покачивалась старая зелёная лодка с надписью «Hendrika Johanna», и в свете фонарей она выглядела так, будто пришла сюда из другого века, не спеша вписываться в современность.
Полупустой катер проходил мимо, волны мягко били по борту, и несколько туристов, укрывшись от ветра тонкими плащами, слушали экскурсовода с напряжённым вниманием, как будто надеялись ухватить за эти полчаса Парижа что-то, что изменит их жизнь. Чужие попытки понять город всегда казались Максу трогательными: Париж открывается только тем, кто остаётся надолго и не ждёт от него чудес.
На соседней лодке кто-то пил горячий чай. Густой пар поднимался над кружкой и, смешиваясь с холодным воздухом, формировал странную дымку, будто над водой висел маленький тёплый призрак. Макс вдохнул этот аромат, и неожиданно вместе с ним поднялись мысли о Родине. Раньше он умел обходить такие мысли стороной, словно они были опасной тропой, ведущей назад. Казалось, что новый город, новая культура, новая жизнь смогут перекрыть всё, что когда-то болело. Но чем старше он становился, тем настойчивее эти воспоминания возвращались – как шёпот, тихий, но неумолимый.
Он шел, наблюдая, как огоньки фонарей дрожат на поверхности воды, будто кто-то невидимый касался их лёгким пальцем. Мысли о годах, городах, попытках начать всё заново накатывали медленно. Каждое новое место давало ему шанс стать другим, но каждый раз он улавливал в зеркале всё тот же взгляд – чуть настороженный, будто он всегда где-то между. Волны Сены негромко били о деревянные борта лодок, и этот звук был похож на затянувшийся разговор, который он ведёт с собой много лет. Вечер снова задавал тот же вопрос, который время от времени возвращался: стоило ли это всё?
Ветер с реки драл лицо прохладой, под ногами мокрые листья тихо шуршали, и город жил своей параллельной жизнью – смех туристов, дальний звук мотора катера, раскатистое эхо колёс велорикши, переезжающей по мосткам. Макс шел дальше, погружённый в собственный поток мыслей, и ни один звук снаружи не мог полностью отвлечь его.
Он проходил под арками Моста Искусств. Камень над головой казался тёмным, плотным, словно хранил чужие истории. В мыслях у него развернулся тихий, бесконечный спор: две культуры сталкивались внутри него – та, что воспитала, и та, что приняла. Старую он не мог забыть, даже если бы захотел. Она была частью его костей, его жестов, его выбора слов. Но Францию он тоже не мог отпустить. Город давно стал близким, настолько, что иногда казалось, будто он дышит вместе с ним. Эти мысли приходили редко, раз в несколько месяцев, но каждый раз возвращались с одинаковой силой – как прилив, который нельзя остановить.
Он шел вдоль Сены, минуя мосты, под которыми в палатках спали бездомные. Синие, тусклые, промокшие палатки шуршали под ветром, и Макс снова подумал о странной вещи: город умеет хранить величие и бедность в одном кадре. Справа, через реку, возвышался Лувр – огромный, величественный, со своими каменными крыльями, будто раскрывшимися над водой. Вечером фасады музея казались почти живыми: неровный свет фонарей подчеркивал каждую скульптуру, каждый карниз, и казалось, что здание смотрит на прохожих сверху вниз, но не с высокомерием, а с терпеливым любопытством.
Макс вспомнил строки из книги о революции. В те времена Лувр был не музеем, а символом монархии, и толпа, ведомая идеей свободы, приходила сюда не смотреть картины, а грабить. Он представлял, как в залы врывались люди, с красными лицами, с тяжёлым дыханием, хватали всё, что блестело: золото, фарфор, полотна мастеров. Как мебель ломали, картины сворачивали наспех, а стены казались потрясёнными от шума. Трудно было представить этот хаос сегодня, когда там царила тишина и воздух пах маслом и лаками. И всё же что-то от той эпохи осталось. Лувр будто хранил память обо всех, кто пытался понять себя через искусство или через бунт.
Набережная заканчивалась под раскидистой одинокой ивой. Её ветви свисали почти до воды, и редкие огни фонарей пробивались сквозь листву, оставляя на лице Макса мягкие золотистые тени. Он постоял под деревом несколько минут, глядя на медленно плывущие листья и на отражения огней, которые иногда искривлялись течением. Это было место короткой передышки, словно город позволял ему на секунду спрятаться.
Потом он поднялся обратно на улицу. Домой спешили прохожие, машины стояли в пробках, водители нервно переключали передачи, а букинисты складывали зелёные коробки с книгами, открытками, плакатами – закрывая длинный день. Всё вокруг казалось близким и одновременно далёким. Макс шёл, чувствуя, что находится в городе, но будто наблюдает за ним через тонкое стекло. Мир жил по своим законам, а он, как всегда, чуть в стороне.
Он подошёл к музею Орсэ, и взгляд непроизвольно остановился на огромных круглых часах на фасаде. Они светились тёплым янтарным светом, выделяясь на фоне серого неба. Когда-то здесь был вокзал Gare d’Orsay: шум людей, запах угля, паровозы, суета. Теперь же здание стало домом для искусства XIX и начала XX века. Пространство изменилось, но память осталась. Макс смотрел на эти часы и думал о том, что города меняют своё назначение, судьбы меняют направление, но что-то неизменно остаётся внутри – как тихий, но упорный свет за стеклом.
Макс шёл дальше, оставляя позади фасад с огромными круглыми часами. Город дышал историей ровно, без усилия, будто каждое столетие лежало под кожей мостов и набережных. Прошлое здесь не требовало внимания. Оно просто присутствовало, соединяя камни и воду с тем, что он уже прожил, и тем, что ему ещё предстоит.
Он давно понял: ходить по городу одному – единственный способ действительно его увидеть. В компании люди смотрят друг на друга, на свои жесты, на отражения в витринах; будто всё время заняты ролью, которую примеряют на себя. В одиночестве взгляд освобождается. Можно разглядеть изящных старых львов над арками Орсэ, узнать женщину с газетой, которая тихо улыбается чужой собаке, заметить нервный рывок плеч велосипедиста, чьё движение прервал турист с мокрым зонтам. Можно увидеть те ракурсы, что фотографы ищут годами, уловить мелкие движения мира, которые обычно исчезают в общей спешке.
Так он дошёл до Национальной ассамблеи. Статуи, стоящие перед фасадом, смотрели на него сверху вниз – каменные, беспристрастные. Было в этом что-то от старой человеческой мечты: остаться. Но кому это нужно, когда сам человек давно перестал быть частью времени? Максим вспомнил строки Марка Аврелия, в которых жизнь и память размываются, как след на воде. Даже те, кто помнит, исчезнут, и камни, кажущиеся вечными, однажды повернутся в пыль.
Рядом возвышалось министерство иностранных дел. Там он бывал пару раз, и каждый раз его поражало внутреннее спокойствие этих залов – будто дух Наполеоновской эпохи не пожелал покидать стены. Люстры, мраморные лестницы, зеркальные залы – всё напоминало о временах, когда власть выражалась в архитектуре и блеске поверхностей. Он представлял шёпоты коридоров, документы, меняющие политические линии, лёгкий запах старой бумаги. Мир менялся, а здание продолжало жить, впитывая в себя новые эпохи, словно очередные слои лака.
Макс оглянулся на набережную. Дождь превращал брусчатку в карту из отражений: огни фонарей дрожали в лужах, чьи-то шаги исчезали прежде, чем успевали появиться. Холодный воздух проникал под куртку, но не мешал; наоборот, прояснял мысли. Он позволил себе остановиться и замереть в этом звуке города: тихий говор, плеск воды о борта лодок, редкий визг тормозов на мосту.
Мысли о прошлом – о детстве, о потерях, о медленных победах – не приносили тяжести. Они просто были. Этот город, его мосты, пар и свет – всё одновременно вечное и мимолётное. И среди этого хрупкого равновесия он понимал, что именно здесь остаётся собой. Одиночество перестало быть пустотой; оно стало способом видеть яснее.
Погасив сомнения так же спокойно, как человек тушит сигарету о перила моста, Макс направился к станции RER. Ветер с Сены снова коснулся лица. Дождь скользил по брусчатке, превращая её в россыпь маленьких зеркал, в которых город отражал самого себя.
Глава 2
Он пришёл вовремя. Сел в кресло, машинально взглянул на часы, потом – в окно.
– Вы хотели поговорить про детство? – спросила она.
На этих словах внутри что-то сжалось. Не из-за боли. Из-за того, что делиться оказалось труднее, чем вспоминать. Макс сделал короткий вдох, но лёгкий ком всё равно не растворился. Странное состояние: тяжесть без горечи, как воспоминание из другой жизни, которая вроде была твоей, но словно бы прошла мимо.
– Да, думаю, стоит, – сказал он, хотя сам не был уверен, зачем снова туда возвращаться. За годы он привык к холодной собранности, к прагматичной оболочке, в которой слабость выглядела чем-то чужим. Казалось, он уже сто раз поставил точку в этой истории, но почему-то всё равно периодически возвращался туда, будто оставил в прошлом что-то незавершённое.
– Хорошо. Тогда начнём с простого. Что вы помните светлого из детства? Какие приятные моменты?
Макс пожал плечами. Хорошего он почти не помнил. Он так и не понял: это последствия тех событий или так было всегда.
– Ну… дедушка учил меня кататься на велосипеде. И мы бегали по гаражам с пацанами.
Она кивнула.
– А что вы чувствовали тогда? Когда дедушка учил?
Вопрос оказался неожиданно точным.
– Наверное, спокойствие. Всё было понятно. Был кто-то рядом. Какая-то опора.
Она слегка улыбнулась.
– А потом это чувство исчезло?
Макс посмотрел в окно. Мимо проходили люди: кто-то спешил, кто-то смеялся, кто-то ругался в трубку.
– Да. Думаю, после его смерти. Тогда всё и началось.
– Вы были близки?
– Да. Он не требовал от меня быть кем-то. Просто заботился.
Повисла тишина. Психолог не спешила.
– То есть рядом с ним вы могли быть собой?
Макс кивнул. Он задумался, пытаясь хотя бы что-то ещё вытащить из глубины памяти. Ничего. Словно фотографии без контраста: лица есть, но не за что зацепиться.
Он пытался вспоминать и раньше, но хорошее либо отсутствовало, либо было спрятано так глубоко, что глаза туда не дотягивались.
– Когда вы пытаетесь вспоминать, что чувствуете? – спросила она.
Макс чуть развёл руками.
– Ничего. Как будто смотришь на старое фото. Вроде ты, а вроде нет. Всё без запаха и без звука.
– Без чувств?
– Да. Как будто это была жизнь другого человека.
Она снова кивнула.
– Иногда память вытесняет не только боль, но и всё, что лежало рядом с ней. Даже хорошее. Это способ выжить.
Макс усмехнулся сухо, без настоящей улыбки.
– Похоже на правду.
– Возможно, – сказала она. – Но то, что когда-то помогло выжить, потом может мешать жить.
Он посмотрел на неё. Ком в горле вернулся, будто кто-то внутри слегка подтянул невидимую нить. Когда-то, много лет назад, он уже пытался говорить об этом. В юности, с другом, когда ещё можно было сидеть до рассвета и вытаскивать наружу всё подряд – с тем наивным ощущением, что мир не ударит в ответ, что уязвимость не будет использована против тебя. Тогда им было по восемнадцать, и честность казалась естественной, как воздух.
Теперь всё иначе. Но он понимал, к чему она ведёт, и понимал, зачем пришёл сам. Рост начинается там, где перестаёшь прятаться от очевидного. Многие вещи в его жизни вообще невозможно было пройти бесследно.
Он молчал. В голове начали всплывать обрывки – будто фрагменты старой пленки, чуть смазанные, с выцветшими краями. Двор, где всегда пахло пылью, бензином, железом. Базар, окружавший дом с трёх сторон. У первого подъезда продавали животных: клетки, запах сена, смешанная с сыростью летняя духота.
Он помнил, как шёл там с матерью и собакой. Она внезапно остановилась, легким движением указала куда-то вперёд.
– Видишь его? Вон тот мужчина в тельняшке. Это твой отец.
Мужчина весом под сотню килограммов, грубые плечи, широкая спина. Они пересеклись взглядами. И в этом взгляде не было ничего: ни узнавания, ни попытки понять, ни даже смущения. Просто обычный взгляд прохожего у супермаркета – пустой, равнодушный, мимоходом.
На этом всё закончилось. С тех пор они не виделись.
Он и мать часто гуляли с собакой. Потом однажды собака исчезла. Потом… и она.
Макс вспомнил, как поймал себя на мысли: «Как и все».
В кабинете на секунду повисла тишина. Город за окном шумел так же ровно, как и всегда, но сейчас его звуки будто ушли на второй план. Только секундная стрелка на настенных часах уверенно чеканила время, делая тишину ещё плотнее.
– Вам тогда было сколько? – тихо спросила она.
– Шесть. Может, семь. Я не уверен.
– Расскажите о ней. О вашей маме.
Он посмотрел на свои руки. Пальцы чуть напряглись, едва заметно, как будто тело реагировало раньше мысли. Вслух он это не произносил десятилетиями, но внутри разобрал по кусочкам уже тысячу раз.
– Хорошо, – сказал он, медленно выдыхая.
Он искал, с чего начать. Первой всплыла сцена: он сидит на бордюре у пятого подъезда. Внутри пусто. Никаких рыданий, никаких истерик. Просто холодная ясность: надо что-то делать дальше. Тогда он ещё не понимал, насколько всё изменилось. Только чувствовал, что назад уже нет.
– Мама… Я мало что помню. Только то, что она не работала. И… – он замолчал, будто примеряя слово к памяти. – Она не выдержала тех времён. Многим тогда было тяжело. Не все выстояли.
Он прикрыл глаза. Всплыли другие фрагменты: путешествия, редкие семейные сборы, какой-то праздник у бабушки с дедом.
Бабушка рисовала картины – он помнил запах её мастерской, знакомую смесь красок, лака и старых полотен. Её работы уходили в Европу, и он однажды видел каталог с её фамилией.
Дед – инженер. Спокойный, аккуратный, с рабочим столом, на котором всё стояло как будто выверено линейкой. Однажды дед повёл его в свой кабинет, показал чертежи, инструменты.
«Смотри, – сказал он тогда. – Мир держится на деталях».
Макс снова взглянул на свои руки, словно проверяя, помнит ли тело то, что память не доводит до конца.
– Расскажите про те времена, – продолжила она мягко, словно предлагая открыть старую, покрытую пылью книгу.
– Давай в деталях, – подумал он, словно самому себе проговаривая. – Я родился в небольшом постсоветском городе, когда Союз уже распался. Девятиэтажный дом, девять подъездов. Беспризорное детство. Почти всё свободное время на улице.
Он замолчал, и взгляд его скользил по невидимым этажам, коридорам и дворам, которые давно уже существовали только в памяти. В голове мелькали обрывки: облупленные стены, старые мусорные контейнеры, пятна ржавчины на дверных ручках. Каждый угол дома хранил запахи: сырая плесень, сырой асфальт после дождя, отголоски жаркой батареи в холодный зимний день.
– Помню, как зимой мы с ребятами бегали по пустым лестничным клеткам, искали старые газеты и звонили в двери на каждом этаже, убегая, – сказал он тихо. – В подъезде пахло сыростью, плесенью, повсюду валялись шприцы. Иногда на полу виднелись пустые бутылки или старые газеты с обрывками новостей. Однажды вышел гулять – а под дверями в тамбуре спала семья циган. На улице – холод, снег, серый асфальт, ледяной ветер, щипавший щеки.
Он продолжил спокойно, словно воспоминания сами шли по венам.
– Родители вроде были дома, но их присутствие почти не ощущалось. Скандалы, крики, драки – это слышалось постоянно. Мама с бабушкой нападали на деда, он на них. Соседи ничего не могли сделать. Мне казалось, что весь мир – это эти девять этажей, гаражи, двор и детский сад во дворе, где мы бегали, играя, прячась от взрослых и от времени, которое казалось вечно медленным и одновременно бесконечно жестоким.