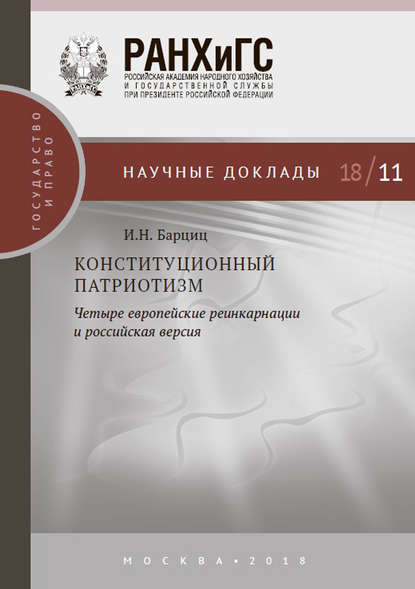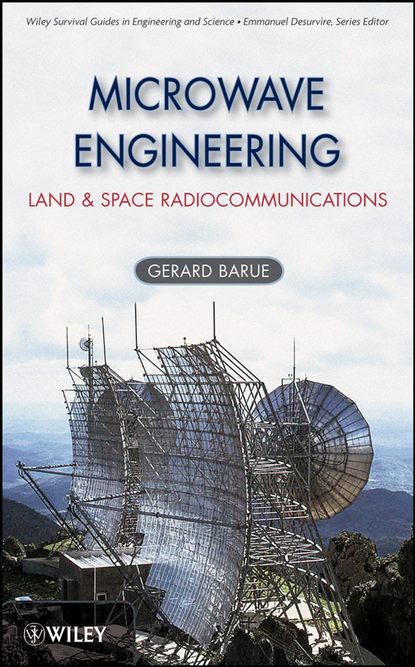Мысли по дороге на пенсию
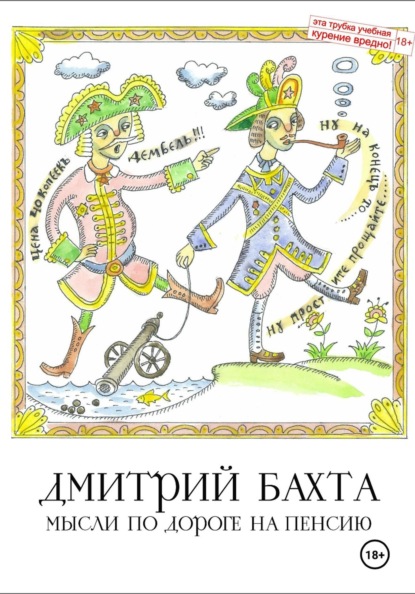
- -
- 100%
- +


Глава первая
Потери и находки
«Ущербное становится совершенным, кривое – прямым, пустое – наполненным, ветхое сменяется новым. Стремясь к малому, достигаешь многого; стремление получить знания, ведет к заблуждениям».
В некотором царстве, в некотором государстве, жил был старый солдат. Долго ли коротко, дослужился он до пенсии. Верой и правдой служил, а иногда и вовсе геройски. Временами и как бог на душу служил. То есть, мягко говоря, хреново. Но вот, пришел день, и писарь с капралом вызвали солдатушку и говорят: «Вот мол, сукин кот, так и так, – дослужился ты до пенсии. И за двадцать пять лет и два ранения, с вычетом за утопленную пушку, ложит тебе царь батюшка, рупь да полушку. Да в месяц сорок копеек содержания и грамоту похвального содержания. Для нее кожаную папку и с хвостом волчьим шапку». Хмыкнул старый солдат, поклонился, сплюнул табачной слюной да повинился: «Ну, простите, прощайте. Раздражения, вспоминая, не ощущайте, коль придет воевать пора, позвоните, мол воевать пора».
Развернулся да пошел вещички собирать. Идет, да и думает: «Смешно … В первый раз стихом заговорил! Вот что значит, Вы ко мне вежливо – и я Вам куплетом». Подумал так и перестал рифмы продуцировать, начал по-простому, по привычному думать. А тут и казарма родная, и вовсе думать перестал, даже по-простому. Когда ж тут думать, надо вещи собирать. А все сослуживцы, бравые ребятушки, так и норовят хлопнуть по чему ни попадя со всей дури, и поздравительно гаркнуть что-нить неприличное. Много их, солдатушек-сослуживцев, аж бока заболели. Хорошо вещичек, всего то нажилось: сидор солдатский, трубочка, да кисет. Много чего видала эта трубочка! Почитай двадцать лет мыкал холод, голод, драку и дисциплинарные взыскания. Трех отцов командиров пережил, переслужил, а трубочка все рядышком. Про кисет вообще отдельная история. Прислала его заочница – молодуха по переписке, грит: «Вышивала для суженого, да беда, ушел суженый в общину бабаджистов. И ходит с барабаном и лысый, кармические пирожки продает, поет на басурманском языке. А любушку свою, типа и не знал никогда …» Вот и достался кисетик старому солдату в знак протеста. А еще в вещичках имелся карандаш антигерпесный, да кафтан многоцелевой, старый и привычный. Ну, с кафтаном понятно: спасал и от холода, и от дождя, и подушкой был, и одеялом, и в карты ставкой, и в ломбард залогом, нужнейший был кафтан. Да и памятный: Эта латка – в штыковую атаку на Капказе заработана, эта – у костерка уголек отскочил. Не кафтан, а история, мемуар. С карандашом и того чудней. Спер его солдатик у подвыпившего мериканского офицера, когда тот брататься лез. Прочитать то, что он антигерпесный, прочитал солдатик, а вот что это значит, не ясно было. И неясность эта карандашик сделала ценным и таинственным – вдруг, например, волшебный он, или, еще, чего доброго, деньжищ стоит бешеных?
Собрал солдат вещички и побрел на пенсию. Надо отметить, что старый солдат, на самом деле, был еще хоть куда мужичок! Старостью там и не пахло, а пахло лучком молотым, опять же табаком трубочным и привычкой редко менять портянки. И на психическое здоровье армейские годы повлияли тоже положительно. Психопатии и следа не было. А была, идеологическая зрелось, житейская сметка и удивительной силы стрессоустойчивость. Силен был солдатик, как конь полковой. Красив, вот нет, не был. Скорей корявоват, что, однако его не расстраивало. Да и когда расстраиваться – занят был службой. В перерывах, иногда мародерствовал и охальничал. В дни получки выпивал и поигрывал в шашки на денюжку, а остальное время служил. И не то, чтоб расстраиваться, а и вообще – думать было некогда!
Вот идет он на пенсию и думает: «Вот, блин, десять минут уж на пенсии, а сколько мыслей навалилось. И все зудят, как мухи в полковой кухне… Надо отметить пенсию-то, выпить чего покрепче, глядишь и беспокойство пройдет». А, определив четкую цель, приободрился солдатик, шаг чеканить стал. Дым из трубочки потянулся ровным столбом, как у японского крейсера Хагуро. Глаз стал блескучим и магнетическим. Скоро ноги сами привели его в харчевню. Осмотревшись, старый солдат понял, что веселья и выпивки тут хватает, понтов лишних нету, и организм его гармонично подстроился под интерьер и арт-концепцию, и требует водки. Сел в уголку, за небольшой столик. И пока не затупил восприятия едой и разговорами, пока лабухи местные в перерыве притихли и что-то там трескали и булькали, забыв про музыку, хлопнул сначала чарочку водки, поднесенную местной девкой, и тут же девку ручищей по заду… Водка была крепкая и холодная, зад у девки тоже крепкий, но очень горячий. Старина подумал: «Диалектика, мля!» – и заказал простой, вкусной и вредной еды. А, поевши, штоф опробованной водки. После чего, в процессе неспешного замахивания рюмочек, покуривания, стал оглядываться и осматриваться. Местечко оказалось похабным, люд по большей части вороватым, развлечения – примитивными и привычными. В центре залы, били шулера. Били давно, азартно, но без особого умения (в этом солдатик разбирался – школа!). За соседним столиком, все свидетельствовало о том, что тлетворное влияние басурманщины доползло до глубинки. Осознано или нет, две девицы занимались консумацией, подливая и похохатывая, дразня молоденькими оскалами полноватого купчика. Музыканты тихонько скандалили, деля монетку, которую за последнюю разбойничью песню им подметнул пьяненький служитель культа. По углам мрачно ели мясо подозрительные типы. Природа, отдохнула, создавая их черепа, к радости, Ламброзо, для мозга места там не было запроектировано. Сей недостаток, маргиналы попытались щедро компенсировать огромным количеством наколок и украшений из желтого металла. В общем, скукотища и обыденность. Лишь одна деталь лучилась чужеродностью, и как тефлоновая сковородка, не позволяла липнуть к своей шикарной поверхности местным сальностям и отвратительным выжаркам кабацкой жизни. Эта деталь была монументальной бабищей, одиноко сидящей за центральным столиком. Вид пивной кружки, теряющейся в пухлых, наманикюренных пальчиках словно наперсток, а также локтей, мраморно белых, и мощью своей напоминавших совсем не о Давиде, а, напротив, о богатырском Голиафе, абсолютно исключал даже мысли о лишних контактах, не укладывающихся в общепринятые рамки клиентоориентированого подхода у всего местного общества. Прямая офицерская спина, чисто вымытая шея, присутствие всех пуговиц на платье и их однородность, лишь сильней подчеркивали социальную пропасть, разделяющую всех и эту божественную даму. «Где наше не пропадала!» – подумал солдатик, – «Подкачу, все едино еду не несут».
«Разрешите представиться: отставной особого назначения крупнокалиберной роты градовой артиллерии, заслуженный ветеран» – без пауз, грассируя, развернув лицо шрамом к даме, пропел старый солдат самым низким тоном. (Это всегда действовало, даж на замужних жен, даж высшего офицерства!!!). Ответ был шокирующим: «Эт ты что ж, ко мне яйца подкатываешь? Ко мне?! Крупнокалиберный мой! Садись за стол, коль не боишься». Шевельнув грудью, достойной флагманского корабля имперского флота, бабища, уже чуть тише продолжала: «Садись. Здешняя мелочь людская, как бахтерии безмолвные, – скука могильная, а ты хоть и портяночный, но вроде не пропащий мужичок. Только вот тон этот гусарский брось – покалечу…». Оробел солдатец наш, и до трех стаканов, слова не вымолвил. А после вымолвил: «Жил, служил, и думы не знал. На пенсию пошел, тож не думал, а увидел Вас и вдруг понял – не знаю, для чего я живу? Какой след оставлю? Что мне делать?». «О как тебя торкнуло, – сказала бабища. – Про то ведать нельзя! Надо завтра выходить на дорогу, она покажет и приведет. Ты, главное, иди! Раз есть в тебе божья искра, живи себе с яйцами. А я пойду от греха другому кому яйца рвать – своя у меня дорога…»
Встала и ушла как бригантина, молча степенно покачивая кормой. Посидел солдатик в оторопи, и сказал сам себе: «Да, мечта должна оставаться мечтой, а яйца жалко, поди, оторвала бы легко… Везучий я! Выпью вот и пойду спать. Дорога меня ждет, а так как не знаю куда, то и опоздать не могу. Значит вот, как проснусь, так и выйду». Подозвал солдатик девку, что подносила ему, дал ей денежку, да попросил ночлег показать. Девка оказалась сговорчивой, сдобной, не смотря на службу кабацкую, наивной: заработала гривенник, а солдатик заработал яичницу и квасок утром. Вышел затемно еще, поправил сидор и побрел. А чтоб нескучно, начал думу думать: «Вот ведь французишки – народ мелкий со зряшними понтами и причудами, бивали мы их легко и давно уж, а смотри-ка, любая девка деревенская про французскую любовь знает. И ведь хорошо знают, хоть вчерашнюю возьми. Не поймешь, кто кого любил, по-французски. Так все повернула: вроде старый солдат, пенсионер, а поспать не пришлось, уестествлял неоднократно и при малейшем послаблении был превращен в дудочку. А один раз и вовсе, не известно во что. Вот так вот, тихим сапом, нас и побеждают. Хранцузы – любовью, немцы – каретами, китайцы – тапочками. Хотя французы, пожалуй, пусть. Кабы не французы, до сих пор у бобиков бы любить учились, а так все ж люди. Опять же приятно и в старости подмога. Молодому-то мне это не к чему было, помню молодой-то, хоть куда пристроить был готов, помню даж бабке-поломойке. Нет, это вспоминать не следует… Дорога у меня к смыслу жизни, и бабка-поломойка – это неправильно, не красиво. Некрасиво, и все тут». И пошагал солдатик дальше молча, то есть, не думая ни о чем.
Тут грозища грохнула, молнии засверкали, дождичек полил. Припустил бегом солдатик, бежит и одновременно убежище высматривает. Вдруг, словно кто за штанину хватил, остановил. Оглянулся, прислушался, а где-то рядом крики, шум. Перешел солдатик на режим тихого подкрадывания, осторожненько шажочками, а там ужиком, по-пластунски. Добрался. Видит – на полянке лежит на боку карета, рядом челядинцы, порубанные в камзолах бархатных. Кто на смерть, кто в средней тяжести, однако боеспособность полностью потеряли. А кричит паренек малой, вроде барчук. Трое оборванцев, сапоги с него тянут, да голову мешком накрывают. Вдруг видит солдатушка, что не только сапоги с барчука сняли оборванцы, а и с себя штаны рвут и гогочут как-то странно. И тут понял старый солдат, что происходит то, смекнул, что обидят мальца, в особо извращенной форме… Не то чтобы сам он был против этой особо извращенной формы (всякое в армии то бывало), но не мог он, будучи экс-имперским солдатом и даж изредка геройским, остаться в стороне от несправедливости. Налетел как кондуктор на безбилетников, раздавая тумаки и дико рыча, для психологической дестабилизации противника. Заплел, развернул всех троих варначин, столкнул меж собой, запутал. Не убивая, ввел в замешательство и страх, но тут все изменилось. С ужасу, один разбойничек, потянул ножик из-за голенища – солдатика будто подменили: оставил мысли, и мир сузился до кромки острия. Забыл о своем теле и прилип, присоединился к ножу засапожному. Да просто стал он этим ножом. Нету голоса, а только «вжик» – и пальцы вражины разжались, «свисть» – и другой враг кожу, со лба отвалившуюся, с криком на место приклеить пытается, «угм» – и тепло стало у третьего где-то там, в кишечках… Очнулся солдат – нож на ладони, поляна в кровище, а малец глазищи распахнул. Не глазищи, а васильки. И не ужас у него в глазах, а любопытство щенячье:
– Дядька научи!?
– Ни к чему тебе это, да и не смогу я. И вообще ты кто таков? Штаны рваные, морда в муке…
– Да я, дядька, дворянский сын. Отправили меня батенька с камельдинерами в обучение, а тут хунхузы напали! «Мы тя, говорят, щас научим, мы те покажем место интеллигенции в современном обществе!» – А сами хрены свои давай показывать, выбирай, говорят, на каком факультете сначала учиться хочешь. А я, дяденька, так как Вы хочу, – идти одиноким самураем по дороге и защищать обиженных и оскорбленных. Я про это много мультфильмов смотрел. И с детства этот путь выбрал, а в гнездо дворянское ни хочу. Не гони меня, дяденька. А звать меня Филипп.
Призадумался солдат: «От ить не было печали! Шел да не думал, что есть, когда пукнуть прилично. И на тебе – ученик и последователь. И ведь, не бросишь. В этом паскудном месте, обязательно загубят. «Ладно, Филиппок, про то, что правильно, знать нам не дано. Война план покажет».

Глава вторая
В которой начинается совместный путь
Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга.
Долго или коротко, добрели до городишки малого, даже местечком правильней назвать. Местечко насквозь густо заселено народами еврейской национальности. А прибрели аккурат в субботу. Ну, и первый же аптекарь говорит радостно: «Смотрите-таки, Гои! Удружите мне, водички принесите с колодца, дровишек там, и свечи зажгите, а также портрет моего любимого певца Розембаума к стенке прибейте, а я вам денюжку дам. Вона, у мальца обувь-то каши просит». И то, правда. Поработали солдат и Филиппок в местечке, разжились денюжкой (Рабиновичи в честь праздничка не обманывали и кровь христианских младенцев не пили, а, напротив, говорили ласково, угощали чем-то национальным и питательным и на денюжку не скупились). Прощаясь, Филиппок поклонился и молвил: «Спасибо, дядьки Рабиновичи, за науку и ласку. Я теперича не буду верить, что Вы в сионистском сговоре с князем тьмы, хотите повергнуть мир в огненную геенну. И девки у вас обычные, человеческие. Простите, что, будучи учеником гимназии, я с ребятами издевался над учителем пения – Кацем. И подсыпал ему в компот слабительного порошку, а, когда оказался он в надворном сортире, лично подсунул петарду в выгребную яму… Вы ему уж отпишите, а то он до сих пор, поди, терзается, что это он так дерзко бзднул и развалил и сортир, и избушку истопника нашего, дяди Гоги (дядя Гога добрый, он Даун, он один с Кацем у нас в гимназии дружит)». Дошли дружно до постоялого двора, разместились, баньку протопить послали. Пошли присмотреть нормальной одежды Филиппку, без кружав и бантов. После шопинга, в радость была банька: расселись на лавках, поскребли спины мочалом со щелоком, состирнули исподнее и залезли на тесный полок. Не нарочно рядом оказались. Стал любопытный Филиппок солдатика разглядывать да расспрашивать про шрамы, да про разное. Ходил, ходил вокруг да около, да и говорит:
– Ну, учитель, у Вас и прибор! Вас, наверное, из-за него в артиллерию призвали?
– Да, – грит солдат, – с таким в бане всегда есть о чем поговорить. А так вообще, отрок, не в приборе ж дело, а правильной дороге…
– Ну, дядька, это Вам, конечно, такому бывалому, уже не в приборе дело. А мне, не целованному, все мысли тока об одном: когда ж я дудку запарю? А еще пацаны токо об этом и говорят. И все уже пробовали, все рассказывают о разных там манерах и способах. Один я недомеренный что ли? Будто монаший сан храню…
Задумался солдат. Потом покраснел. Потом молвил просто:
– Когда в первый раз дудку запаришь, знать нам не дано, – (очень ему словесный оборот понравился, много в нем значимости и недоговоренности), – А пока души змея обеими руками – и в путь. Хватит тут агрегаты разглядывать!
Не все понял отрок, но в путь собрался послушно. И пошли они дальше, правильную дорогу искать. Ну, а тем временем, Филиппка его дворянские родители начали искать… Глашатые на ярмарках, криком кричат: «Рупь тому, кто видал отпрыска! А кто приведет треху!» Вот встречают по дороге Филиппок и старый солдат конпанию. Все как один бездельники и пьяницы, а мысль одна: «Где б чего выкрутить, чтоб, значит, добавить алкоголю в кровь?». Один из хануриков и говорит солдату:
– Мил человек, позволь нам, мальца непослушного домой доставить?
А солдат ему в ответ:
– Не суждено, мол, знать нам, где дом, а где дорога наша!
Ушлый мужичонка, с другой стороны, к нему:
– Вижу, не прост ты, дядька! А я тебе денег дам – много, целый полтинник!
– Да иди ты… к туркам в мортиру, – говорит ему старый солдат, – Не купец я, а Филиппок не конь, чтоб его торговать, и полтина не деньги, вона за свет на 40 процентов, царь-батюшка оплату поднял! Так что иди куда послали!
– Смотри, – говорит ханурик, – будет как с тем пуделем, как у Льва Алексеича Толстого…
И разошлись недовольные. Филиппок встревожился, говорит:
– Не выдавай меня, дяденька, сам ты мне говорил, что не за деньгами мы путь держим, ой, боюсь я: сильно уж у алкашей глаза мутные были!
Солдат же ему:
– Бояться не стоит, надо опасаться. Подобные доходяги не одного Геракла в страну вечной охоты отправили, так что ввожу режим «Ч».
И пошагали дорогу укорачивать. Солдатик чаще обычного трубочку раскуривал: к чутью внутреннему дымок ему помогал прислушиваться. Решил проверку устроить супостатам. Свернул в лесок, попетлял слегка, и, увидев большущий выворотень, вместе с Филиппком спрятался… Долго ли, коротко ждали, да показались из лесу бродяги. Крадучись двигались, вытягивая шеи, как гусаки, озираясь, принюхиваясь. Тихо разговаривали, да кое-что услышали наши путешественники. Собирались враги нагнать их да проследить. Солдату исподтишка кистенем привет передать, а Филиппка связать. Солдат и говорит: «Как бы нашему волку да самому телятей не оказаться. Пойдем школу молодого диверсанта проходить». Стал солдат учить Филиппка потайному шагу да маскировке. Кружили они рядышком с преследователями вплоть до привала, поняли, что привал будет большим. Костер стали бродяги разжигать, да остановились-то, аккурат возле ручья, знать, готовить надумали. Молча смотрел на бродяг солдат и вдруг сказал: «Мелкие людишки, лошаристые, совсем осторожности не празднуют. Чай, от вино-водки на версту не отходили. Ну, ладно». Рядом, на пнище старом, росла семейка грибов поганых. Набрал их солдатик в картуз и говорит Филиппку: «Счас мы Вам покажем погоню! Ты только, Филя, игру мне не сломай. Пока тихо сиди, а после шумнешь, как я покажу. Отвлечь надо пассажиров, от котелка увести». Ну, Филиппок, по отмашке, как скакнет зайцем по кустам, как заверещит девичьим голосом: «Памагите, дядьки!». Голытьба наша, на перегонки, девку искать. Да только пятки сверкающие и увидели – не догнали. Еще бы, был у Филиппка для респекту выписанный камердинер. Родом не то из Сенегала, а может, – из Кении. Цветом был как баклажан, а нраву веселейшего. И научил Филиппка он двум важнейшим вещам в жизни: ничему не расстраиваться и ничего сильно не хотеть – это первая вещь. И вторая – быстро и долго бежать. Так научил бежать, что и лошадь рядом побеги – задохнется. А тут не лошадь, а алкашня. Вернулись бродяги к костру, разлили мутного пойла по чаркам, вокруг варева в кружок собрались, ложку по очереди передают, швыркают, а солдатик с Филиппком уж встретились и тихонько так смотрют и слушают. Один бродяжник говорит:
– Братки, однако, мавка нас поманила. Мне на челябинском централе старый босяк про это рассказывал, так я, дурак, его высмеял…
Другой, самый молодой ватажник спрашивает:
– Что за мавки?
– Так это чудищи, девками прикидываются, кричат там, зовут, задницами мельтешат, а заманят нашего брата в чащу, поглумятся и съедят, во! Так что, вовремя мы спохватились и вернулись.
Не долго трапезничали – потянуло вдруг по кустам.
За один момент вся погоня сидит без портков и местную нечистую силу пугает звуками и вонью. «Вот, – говорит солдатик, – Помни Филя, ничего зря не растет в божьем мире. И чирей зря не соскакивает, а тем более, грибочки поганые. Счас, ежели я видовую принадлежность не перепутал, еще и судороги начаться должны. Пусть они тут вспомнят, для чего людям жопа дана, а мы пойдем тропу тропить. Заждалась она нас уж». Ну и пошли. Долго шли. Петли петляли… Вброд реки переходили, от людей хоронились, вроде и оторвались.

Глава третья
Первая встреча – усы и герпесный карандаш
«Кто хорошо сражается, стоит на почве невозможности своего поражения и не упускает возможности поражения противника. По этой причине войско, долженствующее победить, сначала побеждает, а потом ищет сражения».
Вдруг, чу, супчиком так запахло – сил нету. Носы у обоих повернуло во вкусную сторону. Побежали, не глядя на усталость. Носики не подвели. Получаса не прошло, добежали до опушки, а там хатка одинокая и собачка отозвалась. А на лай и хозяйка спешит. Толи баба, толи бабка издали, да в домашнем одеянии, разобрать можно только, что женщина в теле. Подошли. Шапки сняли. Старый солдат с уваженьицем так начал:
– Не пустишь ли на постой странников, хозяйка, мы, мол, приличные и по хозяйственной части, мол, крепко мужицкое дело знаем…
Да пока медовые речи разводил, разглядел хозяйку-то. Была она женчиной оригинальной внешности: при приятной основательной комплекции и даже выдающихся формах, имела усики, что твой янычар. Так что посередь фразы фыркнул солдатик и говорит:
– Не могу сдержаться, ты прости меня, ну ты чисто Яга из сказки! Прям дежавю, – и заржал.
Хозяйка брови густые нахмурила и говорит:
– Я вот тебе щас устрою сказки-баюшки. Ишь, охальник, Ягой обзывается и ржет как конь, а ну как я колдунья и превращу в жеребца?!
Солдатик слезу вытер и отвечает:
– Воля твоя, только чтоб не в мерина. Ну не мог я не заржать: подустали уже, да и похож антураж весь. И ты, хозяюшка, очень уж, былинного вида. Так что хочешь – в коней превращай, хочешь – в печь сажай, а только сначала покорми да в баньку пусти.
– Ну, ладно, – говорит хозяйка, – Привыкла я, что моих усов люди пужаются. Идите уж в дом, да топтать или табачищем дымить не вздумайте!
Вошли в низкую дверцу. В избе чисто, пахнет сеном. На печке две девчушки, подростка, румяные да усатые. Улыбаются, шепчутся, шуршат, как мышки. Филиппок, давай все разглядывать, увидал вязанку сушеных жаб и сомлел. Стали женщины внимание проявлять, да визг подняли. Водой колодезной сбрызнули, уши натерли до красна – лежит Филиппок, словно спящая царевна, только дышит тихонько, а сознанья нету. Ну, хозяйка и говорит: «Дочки, а ну раздеть молодца, да на печь: сон – лучший лекарь. Они, по всему судя, не из простых, дворянская, похоже, косточка. Тут народная медицина бессильна, тут фершала подавай, а коли, нету фершала, так пусть поспит на печи. Вас без сознанья не обидит и себе пользу возьмет. На травяном то матрасике да на дровяном жару тридцать три хвори к утру уйдут». Кто ж с хозяйкой спорить будет? Пошел солдатик баньку топить, а бабуся Ягуся горшками бренчит, на стол собирает. Помылся, зашел в избушку с жару в одной исподней рубахе, присел на лавку, да сморило солдатика, приснул. Вдруг, шум, топот какой-то – воспрянул, спрашивает хозяйку: «Что за беда?». А та брови нахмурила: «Повадились, – говорит, – тулгары бродячие, скотину воровать и девок моих пугают. Я хоть и не робкого десятка, а не могу управы найтить. Да и не знаю, что делать. Смертным боем бить нельзя – издавна соседствуем, а проучить прыти не хватает». Пока говорили – стук в ворота и тут же крик: «Тетка, давай старшую дочку на одну ночку, а то вовсе избу сожжем, а девок обеих в полон заберем!».
Матернулся солдатик, после бани и то, нету покою. Поднялся и пошел к выходу. У дверей уж обернулся и говорит: «Ты, мать, не боись: чему быть, тому не миновать. За барчуком пригляни, коли не пофартит мне сегодня… Я-то губу раскатал, хотел тебя рассказами заморскими запутать, да усишки расчесать, а вон видишь, как оно…». Выходит, на крыльцо, с виду беспечно пузо почесывает, а взгляд сам собой окрестность обшарил, все приметил – пацанчиков с десяток. Трое луки с наложенными стрелами в руках держут, остальные тоже с оружием. Смотрят волчатами. «Дело табак» – думает, и трубочку достал. «А что, ребятушки, кто огоньку даст?» – говорит, спокойно так, лениво даже. Сказал и ждет.
– Шел бы ты, дядька, лесом да подальше, – говорит один злодееныш, – Сегодня мы веселье задумали, да только не ко двору нам старые портяночники!
Солдатик себя притормаживает, картинку перед глазами представляет, мол, море, прибой и монументальная бабища из трактира покачивает строго пальчиком и говорит – тихо так и вкрадчиво: «Помни, путь настоящий – такой, какой есть. И неведомо нам, что на нем хорошо, что плохо. Иди себе тихонечко, а поддашься пацанам яйца, мол, оторву!». И солдатик так же вкрадчиво, молодым разбойничкам отвечает: «Не дурак я – на рожон переть, покурить бы, да и пойду… Есть огонек-то?». Кротко так спросил, и глазки не поднимает, и плечики свернул. Подошел один поближе – на, мол, огниво. Солдатик взял осторожненько, пыхнул трубочкой, а сам из-за клубов дымка наблюдает. Все трое с луками бдят, страхуют паренька.