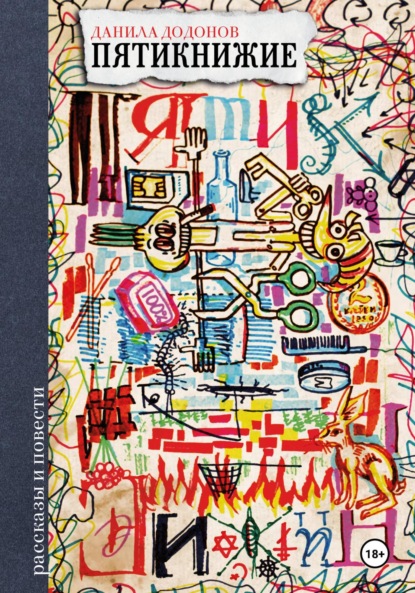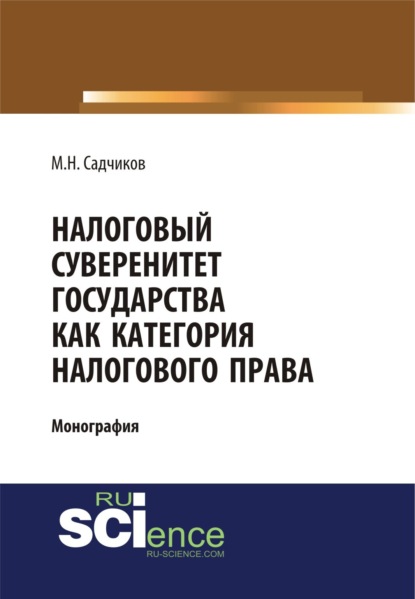- -
- 100%
- +
С е р д ж и о. Какой погром? О чём вы говорите?
И н к о г н и т о. (злобно) Денежки, денежки, де-неж-ки! Это всё они! Они уничтожат меня изнутри, тупая ты голова! Серджио, я умираю… Черти забрали у меня мою любовь, мою нежную Изольду…
С е р д ж и о. Мой государь, не допускаете ли вы, что то, что вы сейчас чувствуете… Это в некотором смысле может быть связано с Изольдой?
И н к о г н и т о. Заткнись, смерд! Заткнись! Как ты можешь говорить про мою нежную Изольду такую дрянь? А-а-а!!! (сильнее корчится от боли) Проклятые… Проклятые денежки… Они сопротивляются моей власти над ними…
С е р д ж и о. Вы их обязательно одолеете. В этой борьбе, в духовной борьбе вам нет равных.
И н к о г н и т о. Прочь, Серджио! Я умру один.
Серджио уходит. Инкогнито ещё немного мучается, затем умирает и превращается в ослепительно яркое сияние, которое испускается во все стороны до края земли.
25.
Внезапно деда отвлекли от микроскопа с хлебом в телефоне. Нет, это был не человек, ведь Дима с Риммою ушли. Дед выглянул в окно, и понял, что случилось нечто. Сияние на небе, магия цветов и форм, волнообразно дышащие звёзды, что мгновенно гаснут и рождаются – такого не бывает в мире. Сияние то не было сравнимо ни с закатом, ни с рассветом, ни с дождём метеоритным. Напротив, будто океан разлился в небе, блестящие лучи и золотистый свет. И понял дед: вот, денежки свободны. Инкогнито, что был для них тюрьмой, Изольду не нашёл, ведь та была внутри него, хотя признать тому то было трудно. Вот результат: как бы из брюха волка выходят денежки, и в том числе Изольда, и наполняют мир. А значит больше не сгорит ни денежка, ни плоть её – минута, а значит – человек, проживший с телефоном век, ни разу более не позвонит.
Так наступила тишина,
Но тишина свободы.
Антипредательская молодость
(печ. без. сокращ.)
Дорогой читатель, решившийся наконец ознакомиться подробнейшим образом с историей “Антипредательской молодости”. Вам, вероятно, уже известно, что это понятие существует уже несколько лет в среде людей с особенностями развития. С первого взгляда вам покажется, что оно не имеет большого смысла, но позже оно будет раскрыто в полной мере.
Хочется выразить особенную благодарность моему дорогому П., который сумел выслушать и записать мой недолгий рассказ по прибытии в Москву, который, ввиду того, что его следовало перепечатать полностью, то бишь без сокращений, был дополнен дистанционно, посредством небольших писем, которые мы высылали друг другу по электронной почте. Таким образом, мне удалось как можно более подробно описать удивительные вещи, которые произошли со мной, когда я хотел найти себе подработку на вечер. В общем, всё увидите сами.
Ниже я привожу нашу с П. переписку. Длилась она недолго, с марта по июль известного вам года. Должен заметить, что переписка наша была и не перепиской вовсе, если подумать. Это, скорее, был диалог двух людей – меня и его. Чтобы вас в дальнейшем не запутать, а запутаться здесь запросто, я приведу вам его – то бишь диалог – без сокращений, хорошо? А затем, как вы его прочитаете, мы вместе его обсудим. Вот отсюда:
– Пишите? Пишите.
– Записываю-записываю. Только небыстро.
– Кхм. По всей видимости, в серии книжек про озорника Буратино сакральное значение имеет луковица, которую получает в начале своего приключения главный герой. Луковица – символ реинкарнации.
– …
– Ну? Что скажете?
– Вы знаете, концепция понятна, но… как-то это…
– Ну же! Не томите!
– Как будто этого слишком мало. Ведь идею можно развить? Скажите хотя бы ещё что-то.
– Хорошо. Я попробую. Слушайте. И пишите, дорогой П.
– Я записываю, записываю.
– Ну и вот… Как бы начать…
Кого-то одолевает жар в плечах, кого-то – боль в затылке, другого – боль от утраты близкого. Пускай эта борьба не будет продолжаться вечно.
Меня вот одолевали какие-то другие чувства, я попробую вам их здесь перечислить:
Театр людей.
Убийственный ужас, поражение.
Антипредательская молодость.
Вещи, сами по себе вылезающие из бутылок.
Информационная потеря.
Луковица – символ реинкарнации.
Что?
Вот! И, кажется, здесь происходит что-то, что приводит к непредсказуемым последствиям в будущем…
– Чиполлино! – раздался звонкий, почти щёлкающий голос в курилке. Он не был грубым, но в нём сквозила наивная дерзость деревянного мальчика; резьба, лакировка и вечная жажда приключений просачивалась через его интонацию.
– Чего тебе, Буратино? – отозвался тот, к кому обращались. Из тени выступил Чиполлино – стройный, чуть сутулый, со спокойной усталостью в глазах. Башмаков Чиполлино не носил.
– Может, хоть ты мне поможешь! Ты же как раз мальчик-луковка, – взмолился Буратино, стуча деревянными каблучками по полу.
– Мальчик, это ещё мягко сказано, – проговорил Чиполлино, доставая сигарету и закуривая. Огонёк затлел в полумраке, оставляя после себя облачко дыма, таким нехитрым образом подчёркивая паузу перед ответом. – Луковка – не отрицаю, всё может быть.
Буратино, не теряя надежды, продолжил:
– Чиполлино, мне мой Папа Карло вчера сказал, будто Луковица – это символ реинкарнации, скажи, это правда?
Тот аж закашлялся – неглубоко, не до боли в груди, но будто слова эти были чуждыми, как камушек в башмаках. Чиполлино, я напомню, башмаков не носил.
– Чего-о? – протянул он недовольным тоном. – Это в каком таком справочнике твой итальянский папаша, жалкий трус и болван, как и ты сам, вычитал такую глупость? В «Словаре метафизических абстракций для овощей»?
– Ну как же, – немного смущённо отвечал Буратино, почёсывая деревянную голову, – это был, как сам помню, самый обыкновенный справочник соответствия культурных феноменов религиозным символам, а что такого?
Чиполлино – автор бессмысленных слов – смотрел на товарища несколько с философским презрением, даже с недоразумением, так, как смотрит отец на ребёнка, который только что заявил, что Солнце обращается вокруг Земли, потому что ему так было видно в телескопе.
– Ну, не знаю… По-моему, чушь какая-то!
– И глазу не за что зацепиться?
– Глазу?
– Ну ты подумай! Подумай же! Луковица, она ведь как…
– Как моя голова. А твоя, – Чиполлино показал на товарища сигаретой, – в таком случае, символ геенны огненной, потому что деревянная.
– Это как же – геенны!? – схватился за голову Буратино, опасаясь, что она вот-вот загорится, словно спичка.
– Ну, как-как… Да вот так-то, ёпт! – Чиполлино кинул бычок в водоотводный лоток. Через отверстия было видно, как он уплыл, оставляя за собой тоненькую полоску дыма, напоминающую хвостатую комету. – У тебя ж голова деревянная? А дерево – очень уж хорошо горит! Я сам в этом убеждался неоднократно, когда строился.
Чиполлино представил в своём луковом уме, как во времена Средневековья он, облачённый в доспех, со своими братцами-средневековцами, сжигает чёртову деревянную куклу. В своей голове этим обрядом он сбивал его с мысли.
– А лук очень хорошо жарится на сковороде, – с некоторым раздражением в голосе отвечал деревянный мальчик.
– “Раствориться в бытии или раствориться в небытии – не всё ли равно?” – задумчиво произнёс Чиполлино, глянув на свои наручные часы, которые, как и он сам, имели вид весьма потёртый. – Твою ж мать! Представление уже через пять минут, а мы тут стоим и фуфлыжничаем. Все мо́зги мне запудрил. Деревянное ты говно.
– Неужели уже был второй звонок? – воскликнул Буратино, и его деревянные ножки сами понесли его вперёд, в сторону чёрного входа, в место, где воздух пах театральной пылью и предвкушением.
– Сука, ну конечно! Без пяти три, ты сам-то как думаешь? – Чиполлино догонял его, по пути поправляя свои штанишки на лямках. А штанишки-то эти покупались не за последние гроши, а очень даже первые, в фирменном магазине. Даже у меня таких нету.
Они забежали внутрь, поднялись на второй этаж, прошли мимо старой актёрской гримёрки, в которой зеркала исстари покрылись паутиной. По пути чуть не сбили старика Микки-Мауса, который с трудом спускался по лестнице. Он болел уже несколько лет, а на работу приходить не забывал. И про него не забывали, а наоборот, вспоминали чаще, чем следовало бы. Чёрно-белый – не цветной.
Чиполлино краем глаза выглянул из-за правой кулисы в зал. Он был уже почти что полный. Зрители поели свои бутерброды с сёмгой по завышенным ценам и вернулись, сытые, но готовые пожирать взглядами то, что сейчас начнётся на сцене.
Зритель сегодня был самый разный: и деревянный, и тряпичный, несколько кукол было сделано из носков, некоторые были отлиты из дешёвой пластмассы. Но они сидели бок о бок, как равные, объединённые общим интересом – увидеть, как разворачивается действие, в котором каждый мог узнать себя. Собрались самые разные слои кукольного общества, а это значило, что аншлаг объединил всех. Их мысли никто не сбивал.
Буратино тоже выглянул из-за правой кулисы. Правая кулиса была точно такая же, что и левая, даже имела такой же оттенок и была выделана из той же самой ткани – атласа.
Сцена была большой и очень красивой. Примечательно, что стены были украшены символами антипредательской молодости, такими как:
Мыло душистое;
Полотенце пушистое;
Зубной порошок;
Густой гребешок,
но за все долгие десять лет существования Театра этому как будто бы до сих пор никто не предал значения. В смысле?
– Ну что? – он похлопал по плечу товарища, будто давая сигнал к началу.
– Да, поехали, – почти безразлично шепнул ему в ответ Чиполлино. Он делал это уже сотню раз.
В зале начал гаснуть свет, чернота медленно опускалась на театральные ряды. Зрители, весело улыбаясь, у кого улыбку допускала конструкция рта, начали аплодировать началу второго действия. А те, у кого конструкция позволяла мечтать, мечтали. А у одной из кукол были потные железы, и она потела во время спектакля, потому что в зале было жарко, как в бане.
Тёмно-красные, почти как полуденное небо в ясную погоду, кулисы начали медленно раздвигаться. Бессмысленный звук, который сопровождал раздвижение, был похож на старый будильник, только очень негромкий, практически сравнимый с тишиной, и совершенно неразличимый в шуме толпы. На большой, освещённой из одного источника сцены, согнувшись в позе эмбриона, лежала совершенно обнажённая женщина средних лет. У неё были связаны руки за спиной, а ноги в согнутом положении привязаны спереди. Она всем своим видом была воплощением уязвимости, страха и тайны одновременно. Во рту у женщины был кляп, из-за которого она могла лишь невнятно стонать. Лицо её выражало отчаяние. Лицо её выражало пресловутый модус-оптимум.
Зал почти что не обращал внимания на женщину, потому что такой зал, такой красивый, чистый, большой, как ясный день, зал, был значительно интереснее, чем невзрачная актриса. Актрисой этого самого театра и была женщина, но ведь зал был интереснее?
Вывеска на входе в Театр гласила: “Каждый вышедший – уже вошедший”, что говорило о инверсивной природе Театра, которая будет объяснена далее.
Затем на сцену вышел Буратино. Его мысль никто не сбивал. На нём был блестящий костюм из какой-то дорогой бежевой ткани и красный галстук-бабочка. Он шагал уверенно, как король по своим владениям, и зрители бурно ему зааплодировали.
Буратино поклонился зрителям, приложив свою правую ладонь к груди. Зрители в ответ на этот жест поклонились Буратино, но не буквально, а у себя в уме. Каждый поклонился по-разному, но в большинстве своём для зрителя Буратино предстоял эдаким жрецом, подающим евхаристическое блюдо, а зритель в этом смысле был паствой.
Чиполлино в этот момент управлял световыми приборами из своей каморки. Его неуязвимая душа и разум умели делать то, что другому было не по силам. Он делал какое-то волшебство, и никто не понимал, каким образом, где он этому научился. После приветствия Буратино, который сегодня был шпрехшталмейстером, луковый человечек с помощью каких-то кнопочек и рычажков увеличил количество света на сцене и сделал его красноватым, создавая имитацию рассвета, пробирающегося сквозь плотную ткань протяжённой во времени ночи. Ночи зла и добра, неба и земли, прыскающего и впускающего в себя – будто бы говорящие: “Отвори, и я зайду. Затвори, и я не выйду”. Ночь была лишь попыткой скрыть истинное содержание, а не подчеркнуть его, как обычно это случается.
Буратино, словно фокусник, достал из кармана длинную плеть и продемонстрировал её публике. Куклы в зале начали перешёптываться. Шёпот перерастал в голос, потом снова стихал, потом превращался в монотонное пение, потом опять стихал – каждую секунду звук представлял из себя совершенно уникальную, ни с чем не сравнимую субстанцию, замечательно овладевающую сознанием, если достаточно долго в неё вслушиваться, воздыхая.
Заиграл оркестр в оркестровой яме: загремел барабан, весело зазвучали фанфары, запиликали скрипки. Зрители чуть оживились. Оживились, как, случается, оживают первые подснежники. Или как Иисус Христос, если вам угодно.
Буратино начал ровно, с чувством, хлестать женщину плетью, словно пытаясь показать, каков он – создатель перхоти. Сначала несильно, а потому она первое время даже терпела, не издавая никаких звуков. Только красные следы от плети начали постепенно покрывать её тело. Видя, что зритель скучает, Буратино начал хлестать женщину значительно сильнее. Та не сдержалась, и начала истошно кричать сквозь кляп. И тут, все куклы в зале наконец-то начали смеяться: долгое вступление оказалось частью программы, а потому смех-смехом. Вот ведь хохоту, по самое нехочу.
Особенно хохотал одноглазый Мишутка в первом ряду – любитель подобных представлений. Ходил он на них с папой Медведем и мамой Медведицей. Хохот Мишутки напоминал рвущийся пакет документов, белёсый бережной крик, взрывную ловушку для крольчатника и вообще был просто смешливым и замечательным на фоне прочего действа.
Когда женщина уже была вся покрыта красными полосками, часть которых кровоточила, Буратино остановился и поклонился в зрительный зал. Зрители зааплодировали. Тут на сцену вылетел Карлсон – друг детей – и помахал рукой в зрительный зал. Куклы тоже помахали ему. Карлсон являлся для них, детей, признаком антипредательской молодости – угрюмой и рукопашной.
В руках у Карлсона был бутылёк с перекисью водорода. Он его демонстративно открыл, и, летая прямо над женщиной, начал поливать её: раны зашипели, начали пузыриться, она кричала, тряслась, дрыгала конечностями и отдельными кусочками тела, пыталась хоть как-то облегчить свою боль, но была полностью скована верёвками. Ах, эти противные верёвки, доставляющие ей невыносимые страдания! Кто вас придумал? Зачем вы, верёвки, сковали её? Музыка в этот момент продолжала весело играть, а Буратино пританцовывал в её ритм, и этот танец был танцем противника, сатаны, то бишь диавола собственной персоной, пришедшего в наш мир в качестве не наказания за грех, а в качестве юмористической шутки, нелепой проказы. Дурак-дураком, страннейший из.
Когда бутылёк с полыхающей перекисью закончился, Карлсон кинул его куда-то в зрительский зал, где куклы почти моментально разорвали его на кусочки и слопали. Карлсон в последний раз радостно пролетел над зрительским залом, чтобы все его хорошенько могли рассмотреть, и затем, будто спеша увлечься какой-то очередной дуростью, улетел обратно за кулисы. Зрители рукоплескали. И маленький Мишутка – символ отеческой любви с глазком-пуговкой – рукоплескал.
Буратино понимал, что актрисе осталось недолго, и что пришло время грандиозному финалу. На сцену неспешно въехала махина навроде ножа для фруктов… О, эта махина! Она так сияла, и так напоминала машину! На такой машине не жалко было бы и в город выехать! Но о чём я?
ЗОЯ
Пол: женский
Возраст: 31 год
Попыток суицида: 15
Попала в Театр два года назад через объявление на Авито. Привлекла простота работы, обещанной в объявлении, да и заработная плата была неплохой. Ласковая, любящая Зоя, когда шла в указанное место, думала о том, что наконец сможет больше времени проводить с семилетним сыном. Антипредательский отец ушёл из семьи к другой женщине, платил копеечные алименты, а потому ей приходилось обеспечивать ребёнка всем необходимым самостоятельно: перебивались они с ним мелкими подработками, иногда Зоя уезжала на вахту в какую-нибудь Электросталь, а потому часто приходилось оставлять ребёнка с бабушкой, которой тоже приходилось тяжело, болела она всё-таки.
В день, когда она пошла устраиваться в Театр, она поцеловала сына в лоб и пообещала:
– Не скучай, я скоро вернусь. Теперь мы сможем больше времени проводить вместе, – она так сказала потому, что в объявлении был график два через два, что позволяло бы ей по крайней мере через каждые два дня проводить время с сыном, гулять с ним, ходить в кино, зоопарк…
С того дня ни сын, ни кто-либо ещё из людей её больше не видел.
Последнее слово: Как выбраться? Как выбраться из прозрачного? Как выбраться из этого прозрачно-тёмно-жёлтого-сиреневого-голубого-невзрачного? И почему ответ не приходит?
Невысокая барышня пожелала бы закрытого уголовного процесса, если б была её воля. Но не было ни воли, не процесса, и вот – не стало и барышни, отчего небо в тот день стало пасмурным, как всякий раз случается в городке.
На этом досье обрывается.
***
После спектакля Буратино зашёл к Чиполлино в его чернущую каморку – небольшую такую комнатку световика.
– Ну, каков я был?
– Блестящ, – иронизировал луковый парнишка, покуривая, – изящен, всё в таком роде. Видный франт.
– Ну ладно тебе! В этот раз у меня даже хлыст не запутался! – с гордостью заявил деревяшка, пританцовывая.
Чиполлино закатил глаза. Его иногда бесило, что Буратино любил покрасоваться, но это, с другой стороны, хоть как-то отвлекало его от однообразной работы, поэтому он был не против.
Чиполлино выдвинул ящичек рабочего стола, достал оттуда в четыре раза свёрнутую газету коммунистического толка “Чайки и Чаечники”. Развернул. Для него эта газетка была поводом высказаться.
– Вот послушай, – начал он, – вычитал вчера в какой-то сквернейшей газетёнке: “Не лает, не кусает, в дом не пускает, свистит, гудит, ушами шевелит”. Что это? Не быстропреходящие ли рыжие дураки с нашего дворика? Или бесноватые… э-э-э… клопы?
Буратино, сияющий в своём костюмчике, но вообращающий взгляд немыслимой утраты, улыбнулся:
– Как же до тебя долго доходит. Это же ЗА-ГА-ДКА! – ответил он с улыбкой, хотя в голове, разумеется, как и многие из нас, представил самый обыкновенный зонтик для обуви.
Оба рассмеялись. Чиполлино развернул газету, перелистнул на последнюю страницу, на которой был наполовину решённый кроссворд. Клеточки были заполнены прописными буквами, каждая была аккуратно выведена простым карандашом. Казалось, что если всмотреться в них пристальнее, можно увидеть, что каждая линия жаждет мести за невинно убиенную.
– Может, и здесь поможешь? – одобрительно взглянул на товарища Чиполлино. – Не помнишь, как правильно писать: “пОлонез” или “пАлонез”?
– А полонез – это ж вроде предсмертное произведение автора? – задумался деревянный.
– Путаешь с “реквиемом”. Хотя постой… какое, к чёрту, предсмертное произведение? Мне кажется, такие намеренно не пишут, тем более перед смертью. Они сами по себе появляются. И могут быть в любом жанре, хоть реквием, хоть полонез, хоть полька… Тут уж как нелёгкая судьба автора выведет.
– Выведет? Или всё же…
– Ты помогать-то будешь решать эту хрень?
– Да не знаю я, честно! – Буратино развёл шарнирами. – Ну какой мудак придумал спрашивать – что это – посмертное произведение? Или предсмертное? Да какая разница! Само главно – мудак!
– То-то.
Чиполлино глянул по камерам. Потом в окошечко в стене слева от себя. Куклы-рабочие убирали со сцены то, что осталось от Зои – какие-то кровавые ошмётки, неприятные, склизкие, а зрители неторопливо покидали свои места. Погода была тёплая, в гардероб никто не спешил.
А зачем кукле гардероб, если она никуда не спешит?
– А ведь неплохой вышел спектакль, – с облегчением заявил Чиполлино, – хотя старина Карлсон тоже был неплох в своём амплуа, всё-таки ты был сегодня на высоте.
– Спасибо, – говорил уже стоя в дверях Буратино, – ну, я пошёл? До понедельника?
– Да, пожалуй. Хороших выходных, – ответил луковый, а про себя подумал: “я сам только что стал частью собственного сознания”.
Чиполлино помахал вслед товарищу из дерева, а сам решил ещё немного посидеть и попробовать дорешать кроссворд. Кроссворд, пересечение слов – пустое утешение для пустой души, так его определяет кукольный словарь. Кукольное одиночество очень отличается от человеческого. И всё же, эти клеточки, эти стрелочки, сеточка, квадратики, они же хорошо шли в любом ларьке. Их до сих пор печатали. А значит и одиночество, хотя и кукольное, но не менее беспросветное, процветало у жителей городка.
Борьба с беспросветным кукольным одиночеством, в частности, приводила к появлению и подобных поговорок:
Помечтай,
Поуди,
Покупай и посиди.
Сядь, подумай,
Сядь, понюхай,
Сяде-думай,
Сяде-нюхай,
Помечтай и поуди,
Да покупай и посиди.
И сиди себе, сиди —
И сиди, сиди, сиди,
А как, значит, посидишь —
Помечтаешь, поудишь.
А, вот же.
Вот же оно, слово.
Каморка!
Вы меня извините, дорогой П., что я постоянно забываю слова. Так вот. Каморка световика была небольшая, метра два на два, но ему там было хорошо. Пришёл на работу – кинул вещи в уголочек – сел проверять пульт. Проверка стандартная: шестнадцать фонарей в разных частях сцены покрутить, ну, основательно так, с душой, подвигать, порегулировать по яркости и цвету, чтоб всё работало как надо. А как не надо – не надо. Обидно будет в момент кульминации, если какая-то не зажжётся, или зажжётся, но не там. Работа ответственная, ничего не скажешь, но и платили за неё хорошо (конечно, по кукольным меркам).
То, что появляется само собой, не может исчезать без чего-то чегой.
Закончив с кроссвордом (всё-таки, правильно оказалось “пОлонез”) Чиполлино взял свой конструктивный, измерительно выверенный до мили-мили-сантиметровки чемоданчик, надел шляпу, пальто с немеренной дюжиной разного рода карманов, вышел из своей тёмной комнатки, закрылся за собой на два замка. Замки эти были от старого чулана, но так как закрывать старый чулан было незачем – ведь там не было ничего ценного – их перевесили сюда, на вот эту комнату.
Вышел из Театра. Пошарил по карманам. Вот они – золотые мои. Ключики. Нажал кнопочку на брелке – его красивая красная машинка – игрушечный “Мерседес” – отозвалась двойным гудком. Так было её проще найти. Необязательно было искать, ведь добраться до дома можно и иным образом. Но сегодня добрый Чиполлино, герой моего повествования, нашёл её, будучи юным и смышлёным, как вольный ветерок. Он отличался смышлённостью с дзяцiнства.
Машина Чиполлино была не такая, как у других кукол. Пока у большинства были машинки с инерционным механизмом, у лукового человечка она работала на газированной воде. Вы верно спросите, где же он её достал? Не воду, воду – понятно где. Машину. Старые пропойцы – Винтик и Шпунтик – собрали ему её из говна и палок за ящик водки в стародавние времена, ещё до его работы в Театре. А тут вы верно спросите, а чего же она такая необыкновенная, глазёнок не оторвать? А в красный цвет Чиполлино её покрасил сам, истратив на это целую банку клюквенного сиропа.
“Красный цвет хорош для крыши”
– так Щенку сказали мыши.
“Если крыша красная —
в доме жизнь прекрасная!”
Чиполлино неоднократно впоследствии вспоминал об этом, и думал о том, что может, может быть, может в самом деле, а может ли, а мо-же-т?
Может, может, может,
Может, стоило всё-таки выпить тот сироп, а не красить им автоматическую машину, называемую некоторыми жителями мобилем, молебном или модус-оптимумом?
Это я вам ещё про обоз не рассказывал. Если не забуду, расскажу вам ещё про обоз. Вы мне напомните, пожалуйста.
Сел, завёлся со второго раза – и помчал, как ветерочек, как листочек, как осиновая опалубка, как больнючий взвертевшийся очистопол, вжах, вжух! И только пятки и сверкали. Хотя постой: какие же у машины могут быть пятки? Разве что – дашь пятку – получишь десятку? Ни это ли имелось в виду, господа? Знаете, бывают ведь машины на пятках. Но у Чиполлино она была на колёсах.
У Буратино не было таких серьёзных связей, поэтому он добирался до квартиры своего Папы Карло неспешно, на самой обыкновенной и непримечательной электричке. Электричка эта состояла наполовину из электричества, а наполовину из бытового железа. Но электричка была нам не так интересна, как квартира. Хотя какая же это была квартира? Так, халупа, халупка; где его не ждало ничего кроме мрака одного.