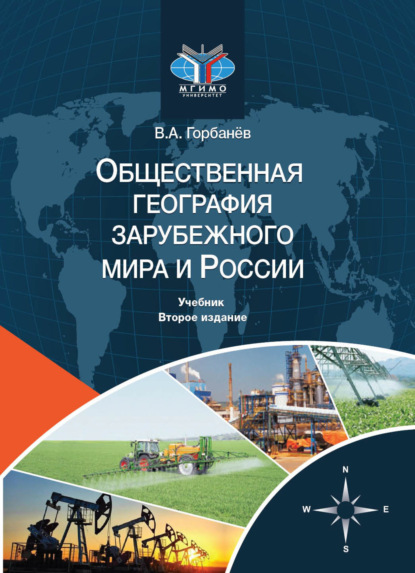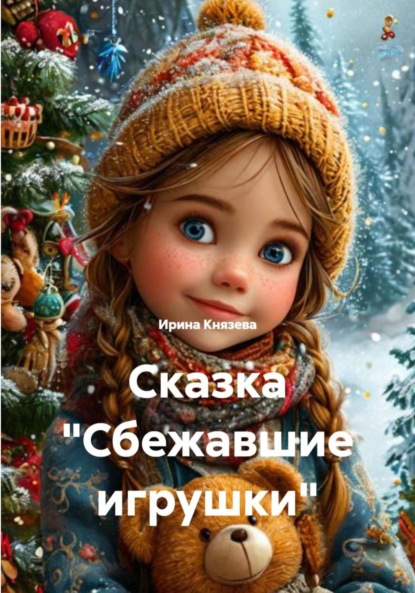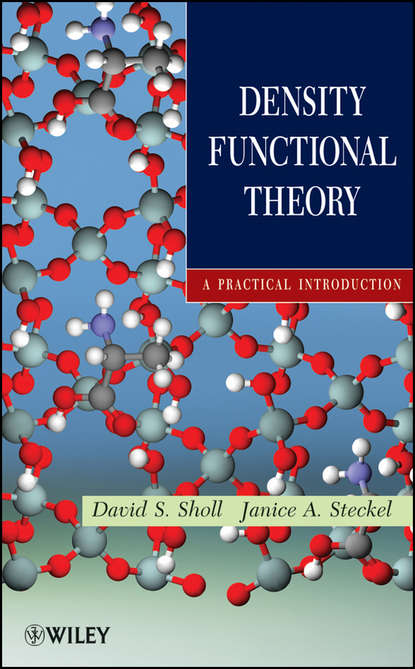От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025
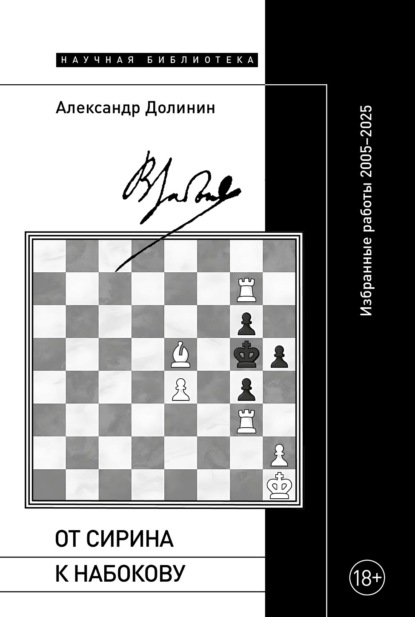
- -
- 100%
- +
Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но счастье мое останется, – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество. [I: 162].
В «Драке» рассказчик (подобно самому Набокову[70]) ездит купаться в Груневальд, где знакомится с немцем Краузе, хозяином кабачка, куда начинает иногда заходить. Однажды он становится свидетелем того, как Краузе избивает жениха своей дочери. Но начатый было сюжет остается без мотивировок и продолжения, поскольку, как объясняет рассказчик,
дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом [I: 75].
О «маловажных мелочах», увиденных за день, рассказывает своему собеседнику нарратор «Путеводителя по Берлину»: вот огромные черные трубы на снегу, вот трамвай и трамвайный кондуктор, вот разные работы, увиденные из трамвайного окна, вот морские звезды и черепахи в аквариуме Зоологического сада, который он называет «искусственным раем». Рассказ заканчивается детальным описанием пивной, в которой происходит разговор, причем точка зрения здесь раздваивается: пивную рассказчик видит как изнутри, из зала, где он сидит с приятелем, так и – через зеркало – извне, из задней комнаты, глазами наблюдающего оттуда за происходящим ребенка, сына хозяина. Нарратор радуется, что смог «подглядеть чье-то будущее воспоминание» – то есть увидеть всю сцену в пивной так, как она навсегда запечатлелась в памяти мальчика. Взгляд словно бы из будущего, остраняющий увиденное, согласно Набокову, и есть единственно правильная позиция художника, когда он описывает современность. Как он формулирует в том же «Путеводителе по Берлину», задача писателя состоит в том, чтобы «изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной» [I: 178].
Позиция рассказчиков ранних «берлинских» рассказов Набокова в некоторых отношениях похожа на коллекционирование парижских впечатлений бодлеровским «совершенным фланером, ненасытным наблюдателем» («le parfait flâneur, <…> l’observateur passionné») или «фланером-художником» («un flâneur artistique»)[71], но имеет одно крайне существенное отличие. Если главный объект наблюдений фланера середины XIX века в понимании Бодлера – это люди современной эпохи, их изменчивые типы, отношения и нравы, семиотика одежды и манер, то наблюдатели Набокова почти полностью игнорируют городскую толпу и социально-историческую обусловленность ее поведения и вкусов. Они читают город чисто эстетически, связывая его со своей собственной судьбой и с потребностью в стимуле и материале для творчества. В этом смысле они больше напоминают художников-импрессионистов, которых тоже считали фланерами, но фланерами особого рода[72]. Для Эдуарда Мане, например, – писал его друг Антонин Пруст в своих мемуарах, – «зрение играло столь большую роль, что Париж никогда не знал фланера, подобного ему, и притом фланера, который фланировал бы с такой пользой». Он вспоминает одну прогулку с художником в 1861 году, когда они отправились в район, где по плану барона Османа сносили старые дома и сады, чтобы проложить бульвар Мальзерб:
На каждом шагу Мане останавливал меня. Вот кедр, который в одиночестве возвышается посреди уничтоженного сада. Казалось, он ищет под своими длинными ветками цветники с раздавленными цветами. «Ты видишь кожу этого дерева и фиолетовые тона теней?» – спрашивал меня Мане. Вдалеке рабочие, сносившие здание, выделялись своей белизной на фоне тоже белой, но более темной стены – она рушилась под их ударами, обволакивая всех облаком пыли. Мане замер и долго с восхищением взирал на этот спектакль. «Это же симфония, – воскликнул он, – симфония в белом мажоре, о которой говорит Теофиль Готье»[73].
Мане не рефлектирует по поводу победы модерности над архаикой, не оплакивает средневековый Париж, не думает об эксплуатации и тяжелом труде строительных рабочих и при виде их вспоминает не «Коммунистический манифест», а эстетское стихотворение Готье «Симфония в белом мажоре» (Symphonie en blanc majeur, 1849; в пер. Н. С. Гумилева «Симфония ярко-белого») из его сборника «Эмали и камеи» (1852). Художника-фланера интересуют лишь необычные сочетания и оттенки цветов или фактура древесного ствола. Набоков тоже вылавливает из увиденного и услышанного на улицах огромного города подобные «маловажные мелочи», из которых он строит свой собственный, многоцветный и многозвучный образ Берлина. Этот образ с самого начала был полемически направлен против стереотипных представлений о Берлине как унылом городе с одинаковыми улицами и домами, в первую очередь против Шкловского и Эренбурга[74]. С точки зрения Набокова, невнимание к деталям и, как следствие, игнорирование различий – это один из серьезнейших эстетических грехов. Он убежден, говоря словами одного из его симпатичных героев, что «художник видит именно разницу. Сходство видит профан» [III: 421]. Применительно к Берлину и его описаниям ту же мысль высказывает «нежный» герой рассказа «Занятой человек» (1931). «Почему никто не замечает, что на самой скучной улице города дома все разные, разные, – сокрушается он, – и сколько есть на них, да и на всем прочем, никчемных на вид, но какой-то жертвенной прелести полных украшений» [III: 556].
В ранних рассказах Набокова способность увидеть Берлин эстетически дана не только русским фланерам, которые по определению не полностью интегрированы в чужую городскую среду, но и избранным немцам, поставленным в необычную ситуацию. Так, в «Катастрофе» (1924; авторское название английского перевода Details of a Sunset [«Подробности заката»]) красота города открывается влюбленному и счастливому приказчику Марку трижды – когда он, сильно пьяный, возвращается домой после пирушки с товарищами перед свадьбой; когда на следующий день он, пьяноватый, после работы едет в трамвае к невесте и любуется верхними этажами зданий, которые «были теперь омыты ярким охряным блеском, воздушной теплотой вечерней зари, и оттого волшебными, неожиданными казались эти верхние выступы, балконы, карнизы, колонны, резко отделяющиеся желтой яркостью своей от тусклых фасадов, внизу» [I: 144–145]; и, наконец, перед смертью, когда он, спрыгнув из трамвая на ходу и угодив под омнибус, лежит на мостовой и смотрит на те же верхние этажи, чудесно преображенные в его угасающем сознании:
Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающие к небу золотые, нестерпимо горящие лиры [I: 146].
Другому молодому немецкому приказчику – провинциальному болвану Францу, герою первого «немецкого» романа Набокова «Король, дама, валет» (1928), – подобные прозрения не даны, ибо он страдает близорукостью (как в прямом, так и в переносном смысле слова). В поезде, когда Франц едет в Берлин, чтобы получить обещанное ему место в роскошном магазине Курта Дрейера, его троюродного дяди, он рисует себе открыточные картины столицы: цветистая толпа на Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, недавно построенная радиобашня (Berliner Funkturm) в огнях[75] и, наконец, вожделенный сияющий магазин, где он «в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах – <…> направлял посетителей в нужные им отделы» [II: 139]. Реальный же город он увидел нескоро, потому что в первый же вечер раздавил единственные очки и столица представилась ему «призрачно окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть не похожей на его грубую провинциальную мечту» [II: 146]. Потом, гуляя по городу, Франц никак «не мог выполнить свой давнишний роскошнейший план – поблуждать по ночным огнистым улицам, присмотреться к волшебным ночным домам» [II: 167]. Унтер-ден-Линден оказывается «скучной улицей», Бранденбургские ворота заставлены лесами, в Музее древностей он не находит ничего интересного [II: 167], а комнату он снимает на западной окраине города, близ последней станции метро, на «тихой, бедной, кончавшейся тупиком» улице, недалеко от новой виллы, где живут его дядя с женой. Описания этого района носят условный характер, и их не удается локализовать. Правда, Набоков указывает, что к вилле дяди ведет проспект, по которому ходят 113-й и 108-й трамваи, но это маршруты вымышленные. В Берлине 1920-х годов трехзначные номера с единицей в начале присваивались маршрутам, которые представляли собой продолжение или ответвление основных линий с номерами от 10 до 99. Соответственно, трамвай № 113 продолжал маршрут 13 до Руммельсбурга на востоке Берлина, а трамвая 108 вообще не существовало и не могло существовать, так как маршрут № 8 на западе Шарлоттенбург – Груневальд – Шарлоттенбург, в 1925 или 1926 году отмененный, был круговым (Grunewaldring)[76]. Еще один пример намеренного смещения берлинских реалий с востока на запад привел Д. Циммер[77]. В главе 21 Набоков перенес Криминальный музей (Kriminalmuseum) с Александерплац, где он размещался в здании Полицейского управления, на улицу Альт-Моабит (Alt-Moabit Strasse), в здание Уголовного суда, и сделал его открытым для публики.
Если почти все берлинские адреса в «Короле, даме, валете» фиктивны или приблизительны, то изображение тех гламурных сторон берлинской жизни, о которых шла речь в начале статьи, весьма точно и выдает близкое знакомство Набокова с массовой городской культурой Веймарской Германии. Провинциал Франц первым делом обращает внимание на модную одежду («некоторые прохожие были чудесно, прямо чудесно одеты! Например, клетчатые шаровары, подобранные мешком ниже колена <…> Затем был щеголь в двубортном пиджаке, очень широком в плечах и донельзя обтянутом на бедрах <…> И превосходные были шляпы, и галстуки, как пламя, и какие-то голубиные гетры» [II: 159–160]) и сам быстро ухватывает повадки «модных щеголей». По воскресеньям он, подражая им, фланирует по «нарядной улице в западной части города» (имеется в виду Курфюрстендамм) особой походкой: «…состояла она в том, чтобы, вытянув и скрестив руки (непременно в хороших перчатках) – будто придерживаешь пальто, – ступать очень медленно и плавно, выкидывая ноги носками врозь» [II: 208]. Троица героев романа – «валет» Франц, «король» Драйер и его неверная «дама» Марта, изменяющая ему с «валетом» и планирующая убийство мужа, – окружены рекламой разного вида, печатной, световой, витринной, и в большой степени подвержены ее воздействию. Дрейер, «случайный коммерсант», который видит в торговле своего рода эрзац творчества или спорта, увлекается идеей создания движущихся манекенов, но потом, когда изобретатель демонстрирует ему готовые фигуры, теряет к ним интерес: «Эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах <…> от них теперь веяло скукой» [II: 296][78].
Большое внимание уделено в романе и «модерной» культуре развлечений. Драйер много занимается спортом (гимнастика, горные лыжи, теннис) и безуспешно пытается приохотить к этому племянника; Франц и особенно Марта любят кино, а когда обманутый муж уезжает на лыжный курорт, ходят по вечерам танцевать в модные танцзалы и кафе; все втроем они отправляются на спектакль-варьете в один из больших берлинских залов – судя по описанию программы и тесных лож, в Scala (см. илл. 3). Их реакция на представление выдает различие характеров и вкусов. Жизнелюбивый весельчак Драйер приходит в восторг от веселых цирковых номеров, а тупые похотливые любовники млеют от сладкой, тягучей, «созвучной их любви» мелодии, которую в полутьме играет скрипачка, попеременно освещаемая то розовым, то зеленым светом (сочетание цветов, которое у Чехова в «Трех сестрах» символизирует дурной вкус). Позиция Набокова по отношению к новой немецкой индустрии развлечений совершенно ясна. Он готов принять в ней то, что эстетически и этически безобидно и носит игровой и соревновательный характер, но отвергает и критикует все пошлое, агрессивное, дегуманизирующее человека.

Илл. 3. Концертный зал Scala в конце 1920-х годов
Амбивалентный образ Берлина и его жителей, как автохтонов, так и пришельцев из России, созданный Набоковым в прозе второй половины 1920-х годов, – образ, который резко отличался от одномерных филиппик его русских современников, – получил свое развитие в следующем десятилетии. Постепенно набоковский Берлин, в первую очередь Западный, приобретает все более определенные очертания. Думаю, неправ немецкий журналист Томас Урбан, предположивший, что Набоков «по-настоящему Берлина и не знал» и только во время прогулок с новорожденным сыном в 1934 году «у него появилось пространственное представление» о городе[79]. Уже в «Подвиге» (1931–1932) берлинские маршруты героя довольно точно соответствуют реальной топографии. В свой первый приезд Мартын находит «те улицы, тот перекресток, ту площадь, которые видел в детстве» (некоторые из них названы) и даже посещает когда-то напугавший его «пассажный паноптикум», теперь потерявший «свою страшную прелесть» [III: 196][80]. В последний раз он ненадолго останавливается в Берлине на пути в Латвию, откуда собирается перейти советскую границу. Приехав на Антгальский вокзал (Anhalter Bahnhof; разрушен во время Второй мировой войны), расположенный в западной части города, Мартын отправляется на вокзал Фридриха (Friedrichstraße Bahnhof) на востоке – сначала пешком, а потом на автобусе, который проезжает под аркой Бранденбургских ворот[81]. Затем на такси едет в Латвийское консульство за визой через Тиргартен и мост Геркулеса (Herkulesbrücke; разрушен во время войны)[82], замечая на мосту недавно отреставрированного «каменного льва Геракла» [III: 232–234][83].
По нескольким едва заметным деталям в «Камере обскуре» Дитеру Циммеру удалось установить адреса двух берлинских квартир главного героя – семейной на Kleiststraße, где он жил с женой и дочерью, и той, где поселился с любовницей (Kaiserallee 56)[84].
В третьей главе «Дара» Набоков очень точно описал дом странной архитектуры на Несторштрассе 22, в котором они с женой снимали квартиру с 1932 по 1936 год и куда он поселил Федора Годунова-Чердынцева [IV: 342–343, 354–355][85]. Подробно описан и проход героя от Виттенбергской площади (Wittenbergplatz) мимо знаменитого универмага KDW к русскому книжному магазину на неназванной Пассауэрштрассе (Passauerstraße 3), где он встречает множество русских знакомых [IV: 346–347][86]. Сходными описаниями прогулок Федора изобилует пятая глава. Любознательный читатель легко может проследить по старой карте Берлина его путь от крематория, где он присутствовал на церемонии прощания с Александром Яковлевичем Чернышевским, по улице Гогенцоллерндам до площади Фербеллинер (Fehrbelliner Platz) и Прусского парка [IV: 488–489][87], или от дома до пляжа в Груневальдском лесу [IV: 503–507][88], или на автобусе к Штеттинскому вокзалу [IV: 533–534][89].
Большое количество отсылок к разнообразным берлинским реалиям в прозе 1930-х годов – не только к определенным пространствам, но и к средствам передвижения, развлечениям, рекламам, модам и т. п. – отнюдь не означает, что Набоков ставил своей задачей фотографически точное изображение города. Во многих случаях он лишь создает иллюзию достоверности, а на самом деле изменяет реальные названия улиц или придумывает новые, удлиняет или укорачивает маршруты, подробно описывает места, которых не существует в действительности. Так, «Дар» начинается с переезда героя в «дом № 7 по Танненбергской улице», которая, «как эпистолярный роман», начиналась почтамтом и кончалась церковью. Название звучит весьма правдоподобно, потому что Танненбергские улицы имелись во многих городах Германии, а в Берлине существовала (и до сих пор существует) Танненбергская аллея (Tannenbergallee). Однако это была именно пригородная аллея, а не городская улица; на ней находились дорогие виллы, а не доходные дома и дешевые лавки, и снять там квартиру бедный русский эмигрант при всем желании не смог бы. По-видимому, Набоков поселил Федора на несуществующей улице, чтобы напомнить о событии, с которого и для России, и для Германии начался «настоящий, не календарный XX век», – о битве при деревне Танненберг в Восточной Пруссии (26–30 августа 1914 года), где немецкая армия под командованием будущего президента Германии Пауля фон Гинденбурга нанесла сокрушительное поражение русской армии генерала Самсонова. В послевоенной Германии эта победа легла в основу милитаристского патриотического мифа о великом прошлом и еще более великом будущем немецкого государства; в 1927 году близ Танненберга на месте сражений был с большой помпой открыт большой мемориальный комплекс, а в августе 1934 года, когда Набоков начал работу над «Даром», здесь по личному приказу Гитлера торжественно похоронили скончавшегося Гинденбурга (см. илл. 4).

Илл. 4. Фотография из журнала «Иллюстрированная Россия» (1934. № 34)
Думаю, Набоков не мог не учитывать идеологические импликации Танненберга, поскольку одна из основных антитез «Дара» – противопоставление индивидуальной творческой памяти художника (по его определению, особой формы воображения) ложной памяти коллективной, навязываемой человеку государством или влиятельным сообществом.
С въезда героя в новое жилище начинается и страшный рассказ Набокова «Королек» (1934; написан в июле 1933 года), но его нарратор сразу же «обнажает прием», показывая, что место действия – дом где-то в пролетарских районах Берлина – есть фикция, создаваемая им ad hoc прямо на наших глазах, декорация без названия и локализации:
Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, причем иным приходится преодолевать не только даль, но и давность: с кем больше хлопот, с тем кочевником или с этим – с молодым тополем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда? Поторопитесь, пожалуйста.
Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал где ему приказано – у высокой кирпичной стены – целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя все это только намечено и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков уже выходят живые люди – братья Густав и Антон, – а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец – Романтовский [III: 629–630].
В эту сцену Набоков вводит подробность, отсылающую к актуальному политическому событию – к выборам в Рейхстаг 5 марта 1933 года, после которых Гитлер установил полную диктатуру и окончательно уничтожил многопартийную демократию: надпись дегтем на кирпичной стене: «„Голосуйте за список номер такой-то“. Ее перед выборами намалевали, вероятно, братья. Мы устроим мир так: всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая…» [III: 630]. Хотя номер партийного списка не назван, нет никакого сомнения, что имеется в виду список номер 1, с которым на выборы шла Национал-социалистическая германская рабочая партия (NSDAP) Гитлера. Ее лозунгом была аллитеративная формула из трех слов (см. предвыборный плакат на илл. 5): Arbeit und Brot (Труд и хлеб), которую Набоков пародирует оборванными стихами в конце последней цитаты. Чуть ниже она дается еще раз, но в краткой форме, приближенной к оригиналу: «Мир будет потен и сыт» [III: 631].
Рассказ, заканчивающийся тем, что брутальные братья (один из них носит усы, подстриженные трапецией, как у Гитлера) убивают нового соседа, загадочного книгочея Романтовского (на самом деле – фальшивомонетчика), в котором они видят непонятного и ненавистного Другого, тогда следует читать как исследование одномерного агрессивного сознания Homo hitlericus, продолженное потом в «Облаке, озере, башне» как своего рода предчувствие Холокоста.

Илл. 5. Предвыборный плакат нацистской партии на выборах в Бундестаг 1933 года
Подводя итоги, можно сказать, что Набоков был единственным русским писателем, которому удалось сделать Берлин основным местом действия своей прозы. Персонажи двух десятков его рассказов и всех романов 1920–1930-х годов, за исключением «Приглашения на казнь», как русские эмигранты, так и автохтоны, либо живут в Берлине, либо посещают его. «Даже Берлин может быть таинственным», – декларирует Набоков устами Годунова-Чердынцева в «Даре» [IV: 357], и город, созданный его воображением и наблюдениями, подтверждает эту максиму. Вальтер Беньямин, рецензируя замечательную книгу своего друга и соавтора Франца Хесселя (Franz Hessel, 1880–1940), коренного берлинца, «Прогулки по Берлину» (Spazieren in Berlin, 1929) заметил, что большинство описаний городов принадлежит приезжим: «Только на чужака (Fremde) производит впечатление то, что происходит на поверхности, экзотичное, живописное»[90]. Набоков, несомненно, был таким чужаком, чей образ Берлина лишен исторической глубины, но в контексте русской литературы, для которой этот образ предназначался, она и не требовалась. Достаточно было того, что, в отличие от всех своих русских современников, Набоков смог описать чужой и чуждый ему город без предубеждений и пристрастия.
Набоков и советская литература
(«Приглашение на казнь»)
Для писателя, всю жизнь строившего образ олимпийца или небожителя, которого не волнуют политика, история и мелкие дрязги литературных бездарей, Набоков знал презираемую им советскую литературу очень даже неплохо. Дважды, в 1925 году по-русски и в 1941-м по-английски, он писал большие обзоры советских литературных новинок[91], а в 1930 году опубликовал остроумное эссе «Торжество добродетели», в котором задолго до Катерины Кларк указал на формульный характер советской прозы, напомнившей ему средневековые «бесхитростные мистерии и грубоватые басни» [II: 683–688]. Судя по всему, до отъезда за океан он постоянно следил за советскими журналами и новыми книгами, поступавшими в берлинские и парижские библиотеки и русские книжные лавки (замечу, кстати, что в берлинском «Руле» и других эмигрантских газетах нередко перепечатывали произведения советских авторов – Зощенко, Лидина, Маяковского, Новикова-Прибоя, Пантелеймона Романова и многих других). Так, в письме к матери от 25 февраля 1931 года он сообщает:
В «Красной Ниве» отрывок из нового романа подлеца Толстого, – называется «Черное золото», там фигурирует, разглагольствует об интервенции на нескольких страницах, с Денисовым, Львовым и Стаховичем, попивая ликеры и покуривая сигары, дядя Костя («…бледное, с черными волосиками на губе и подбородке, по-английски спокойное лицо Набокова выражало величайшее внимание к собеседникам … Набоков, стоявший с чашечкой кофе у камина, наклонил голову… и т. д., и т. д.»)[92].
Годом раньше, объясняя Берберовой, что в эссе «Торжество добродетели» он имел в виду лишь «заказную» советскую литературу, а не таких талантливых «попутчиков», как Олеша, Набоков неожиданно заметил: «Среди поэтов есть Колычев, написавший изумительную поэму о комбриге, о Котовском»[93]. Здесь Набоков явно попал впросак, потому что не лишенное некоторых достоинств стихотворение «Котовский в Баварии», написанное в манере Багрицкого и напечатанное в «Новом мире» (1927, № 11), было единственным литературным достижением халтурщика Осипа Колычева (псевдоним Иосифа Сиркеса), который явился прототипом Никифора Ляписа-Трубецкого, автора бессмертной «Гаврилиады» в «Двенадцати стульях»[94]. Впоследствии Колычев будет зарабатывать себе на безбедную жизнь сочинением песен «Баллада о Сталине», «Сталин родной», «Святое ленинское знамя» и т. п., но по одному стихотворению предугадать это было невозможно.
Что могло понравиться Набокову в этом стихотворении, легко догадаться, ибо в нем фантазия ребенка, начитавшегося Шиллера, отправляет легендарного красного комбрига (к 1927 году его уже не было в живых; он был убит при странных обстоятельствах в 1925-м) в балладно-театральную Баварию XVIII века, где тот, как Наполеон в известной балладе Цедлица-Жуковского, созывает мертвых героев:
Сон нейдет… Сон нейдет… Душно в комнате, как от угара…Входит красный комбриг в золотое землячество липИ звенит, и свистит, и аукает старого Карла…– Подымайся, браток, подымайся, Карлуша… Пора!..Кличет красный комбриг по зеленым баварским просторам.И громовое эхо Горе посылает гора,Буку бук, Дубу дуб, И орешник орешнику — хором.Подымается Карл. Подымаются Швейцер и Гримм.Подымается Роллер, И Шварц подымается мигом, —И седлают коней, И сквозь кольцами вьющийся дымС именами возлюбленных мчатся за красным комбригом…[95]За энергию довольно редкого пятистопного анапеста[96] и игру воображения, уносящую поэта за пределы реальности, Набоков даже готов был простить Колычеву романтизацию коммунистического бандита, чего он никогда не допускал по отношению к прозаикам. Например, в «Торжестве добродетели» он смеется над подобным романтическим типом лихого парня-матроса, который